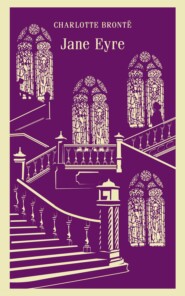По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шерли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да вы, я вижу, не унываете, хозяин?
– Ничуть, mon garson, что означает «дружище», – вставай-ка и ты поживее, и пока мы с тобой будем обходить фабрику, до начала работы я успею посвятить тебя в свои планы. У нас все-таки будут машины, Джозеф: слыхал ли ты что-нибудь о Брюсе?
– И о пауке? Слыхал, как же; я читал историю Шотландии и знаю ее, небось, не хуже вашего; вы хотите сказать – не уступим?
– Вот именно.
– Любопытно, а много в ваших краях таких вот упорных, как вы? – осведомился Джо, складывая и убирая в угол свою временную постель.
– В моих краях? А где же это – мои края?
– Как же! Франция – разве нет?
– Ну уж нет! Правда, Франция завладела Антверпеном, где я родился, но это еще не делает меня французом!
– Значит, Голландия?
– Тоже нет. Я не голландец; ты путаешь Антверпен с Амстердамом.
– Так Фландрия?
– Что ты выдумываешь, Джо! Какой я фламандец! Разве у меня лицо фламандца? Нелепый нос картошкой, низкий, словно срезанный, лоб, водянистые глаза а fleur de t?te[9 - Навыкате (фр.).]? Или я коротконогий толстяк, как все эти фламандцы? Впрочем, ты и представления не имеешь, как они выглядят – нидерландцы. Нет, Джо, я уроженец Антверпена, так же как и моя мать, но родом она была из Франции, вот почему я и говорю по-французски.
– Зато отец ваш был йоркширцем, – значит, и вы немного йоркширец; да оно и видно, что вы нам сродни, вам только бы наживать денежки да идти в гору!
– Джо, ты просто наглец! Правда, такой тон для меня не новость. И в Бельгии рабочие держатся очень развязно с хозяевами, то есть я хочу сказать brutalement, что, пожалуй, вернее всего перевести как «грубо».
– Что ж, у нас тут принято говорить что думаешь, без обиняков! Молодые священники и большие господа из Лондона иной раз поражаются нашей неотесанности, а мы и рады подразнить их; смешно смотреть, как они негодуют, закрывают глаза и разводят руками, словно им выворачивает душу, да так и сыплют словами: «Ужас! Вот дикари! До чего же грубы!»
– Вы и есть дикари, Джо. Что ты думаешь, вы здесь образованные?
– Не то чтобы очень, но кое-что знаем! Мне сдается, рабочий люд на Севере посмышленее, да и посметливее этих пахарей-южан. Ремесло отточило нам мозги; а механикам вроде меня и подавно приходится шевелить мозгами; сами знаете, что значит следить за машинами, – вот я уже и навострился; если мне что не понятно, я стараюсь дойти своим умом, и бывает, соображу что к чему; да и почитать я охотник – интересуюсь, что наши правители думают делать с нами и для нас; а есть у нас и посмышленее меня! Среди тех же замасленных парней и красильщиков, измазанных краской, найдется немало толковых, что и в законах разбираются не хуже вас и старого Йорка и, уж конечно, лучше этого слюнтяя, Кристофера Сайкса из Уинбери, или того же долговязого, хвастливого болтуна – ирландского Питера, помощника Хелстоуна.
– Знаю, Джо, ты считаешь себя умником!
– Н-да, меня не проведешь, разберу что к чему, да и подходящего случая не упущу; я половчее тех, кто считает меня за низшего. Что толковать, в Йоркшире у нас много таких, как я, а есть и получше меня.
– Ну, разумеется – ты великий человек, ты просто самородок. Но вместе с тем ты наглец и самодовольный болван; если ты понахватался кое-каких начатков практической математики да, глядя в красильный чан, усвоил в химии кое-какие азы, тебе еще не стоит считать себя каким-то непризнанным ученым. Ни к чему также спешить с выводом, что если в торговом деле не всегда все идет гладко и ваш брат рабочий остается иной раз без работы и куска хлеба, то, значит, все вы мученики и весь образ правления в нашей стране никуда не годен. И незачем вбивать себе в голову, что добродетель ютится только в хижинах и никогда не заглядывает в каменные дома; должен признаться, меня раздражает эта ерунда, – уверяю тебя, род людской везде одинаков, будь то под соломенной кровлей или черепичной крышей, в каждом живом существе перемешаны и пороки и добродетели, а уж чего больше – это определяется отнюдь не званием или положением; мне приходилось встречать негодяев среди богатых, и бедных, и среди людей среднего достатка, которые умеют довольствоваться малым. Но вот уже и шесть часов! Хватит болтать, Джо, пора звонить в колокол!
Была середина февраля: в шесть часов заря едва занималась, под ее бледными лучами плотный мрак ночи редел, переходя в полупрозрачную молочную мглу. В это утро заря была особенно бледной: восток не заалел, розовое сияние не согрело его. День медленно поднимал веки, мутным и скучным взглядом окидывал холмы, и вам уже не верилось, что может выглянуть солнце, что его не загасил ночной ливень. Дыхание утра было таким же холодным, как его лик. Сырой ветер разгонял ночные тучи, и когда они разошлись, глазам открылся тускло-серебристый круг, опоясавший горизонт, и застланный пеленой тумана небосвод. Дождь перестал, но земля была еще совсем мокрая, лужи и ручейки набухли от воды.
Окна фабрики засветились, колокол зазвонил – и вот уже начали сбегаться детишки; будем надеяться, что в спешке они не успели очень прозябнуть в это неприветливое утро; но, быть может, оно показалось им не особенно суровым – они ходили на фабрику и в ливень, и в метели, и в трескучие морозы.
Мур стоял у ворот, считал их и пропускал во двор; тем, кто опаздывал, он делал замечание, а Джо Скотт, со своей стороны, добавлял два-три словечка покрепче, когда они входили в цех; однако ни хозяина, ни старшего мастера нельзя было упрекнуть в излишней суровости; ни тот ни другой не были грубыми или жестокими людьми, хотя такое впечатление и могло создаться, ибо один опоздавший рабочий был оштрафован; Мур тут же у ворот взял с него пенни и предупредил, что в следующий раз взыщет вдвое.
В подобных случаях правила, разумеется, необходимы, и понятно, что чересчур строгие и жестокие хозяева вводят у себя чересчур строгие и жестокие правила, иногда даже и бесчеловечные, как это бывало в описываемое время; но хоть я и показываю характеры, далекие от совершенства (каждое лицо, выведенное в этом романе, будет обладать кое-какими недостатками, ибо перо мое отказывается рисовать идеальные образы), однако я не ставлю своей задачей показывать совсем уж скверных, порочных людей. Истязателей детей, мучителей и тиранов я препоручаю ведению тюремщиков: романист же вправе не пятнать страниц своей книги описанием их позорных деяний.
Итак, я не стану терзать моего читателя, поражая его воображение рассказами о бичеваниях и побоях, но рада буду сообщить ему, что ни Мур, ни его старший мастер ни разу не ударили ребенка из числа работавших на фабрике. Правда, Джо однажды высек собственного сына за ложь и упорство во лжи; однако, будучи, как и его хозяин, человеком уравновешенным, спокойным и благоразумным, предпочитал избегать телесных наказаний.
Мур бродил по фабрике, заходя то в красильню, то на фабричный двор, то на товарный склад до тех пор, пока не рассвело. Но вот наконец взошло и солнце, – бледное, бесцветное, словно ледяной шар, – оно показалось из-за темного гребня холма, слегка посеребрило тускло-свинцовый край плывшего над холмом облака и словно нехотя заглянуло во все концы той лощины, или узкой долины, за которой мы с вами наблюдаем. Пробило восемь часов; огни на фабрике погасли; прозвучал сигнал к завтраку; дети, освободясь на полчаса от своего тяжкого труда, принялись за еду; в корзиночках у них был хлеб, а в маленьких жестянках – кофе. Будем надеяться, что этот скудный завтрак утолит их голод, и очень жаль, если это не так.
Теперь наконец Мур покинул фабричный двор и направился к своему жилищу. Оно было расположено недалеко от фабрики, но живая изгородь и насыпь по обе стороны дорожки придавали ему вид уединенного, тихого уголка. Это был небольшой, чисто выбеленный домик с зеленым крыльцом; возле него, так же как и под окнами, вытянулись тонкие коричневые стебли вьющихся растений, еще совсем голые, но обещавшие одеться к лету пышной листвой и цветами. Перед домом расстилалась лужайка, были разбиты цветочные грядки, на их темных полосах кое-где в укромных уголках из земли уже пробивались первые ростки подснежника и изумрудно-зеленого крокуса. Весна в этом году была поздняя; зима была суровой и затяжной, последний снег сошел только перед ливнем прошлой ночью, и отдельные его клочья еще тускло белели кое-где на склонах холмов и на их вершинах; на лужайке, на пригорках и под живой изгородью трава была не сочно-зеленой, но блекло-желтой. Позади домика возвышались три стройных дерева, не особенно раскидистых, но так как у них не было соперников, то они радовали взгляд и хоть немного украшали садик. Таким было жилье Мура; это уютное гнездышко, созданное для тихих радостей, для созерцательной жизни, показалось бы тесным человеку энергичному и честолюбивому.
Скромное, приятное жилье это, очевидно, не слишком привлекало к себе владельца; не входя в дом, Мур взял из-под навеса лопату и принялся работать в саду. С четверть часа он копал землю, когда вдруг отворилось окно и женский голос окликнул его:
– Eh bien! Tu ne deje?nes pas ce matin?[10 - Ты что же, решил сегодня не завтракать? (фр.)]
Мур ответил тоже по-французски, и дальнейшая беседа между ними продолжалась на том же языке; однако я предпочитаю перевести тебе, читатель, их разговор.
– А завтрак готов, Гортензия?
– Конечно, уже с полчаса, как он тебя ждет.
– И я тоже жду; я голоден как волк.
Бросив лопату, Мур поднялся на крыльцо и узким коридором прошел в маленькую столовую, где был уже приготовлен завтрак – кофе, хлеб с маслом и отнюдь не английское блюдо – пареные груши. За столом хозяйничала дама, только что беседовавшая с ним. Я хочу описать ее, прежде чем продолжать повествование.
Это особа высокого роста, в меру полная, выглядевшая чуть постарше Мура – ей было лет тридцать пять; у нее очень темные волосы, накрученные на папильотки, румяные щеки, короткий нос и черные глазки-бусинки. Нижняя часть лица казалась тяжеловатой в сравнении с верхней, так как у нее был низкий лоб, изрезанный морщинами; выражение лица не то чтобы злое, однако несколько недовольное; в ее внешности было нечто забавное и вместе с тем раздражающее. Особенно нелепым был ее костюм – полотняная кофта в полоску и короткая шерстяная юбка, открывавшая до щиколоток не слишком изящные ноги.
Читатель, тебе, конечно, показалось, что я вывела перед тобой неряху? Вовсе нет. Гортензия Мур (она приходилась Муру сестрой) была хозяйственной и аккуратной женщиной; юбка, кофта и папильотки составляли ее домашний утренний наряд, в котором она привыкла до полудня «заниматься хозяйством» на родине. Она не считала обязательным для себя одеваться на английский лад только потому, что вынуждена была жить в Англии; сохраняя верность старинным бельгийским модам, она ставила себе это в заслугу.
Мадемуазель была самого высокого мнения о своей особе, и нельзя утверждать, чтобы такое мнение было совершенно незаслуженным, – кое-какими хорошими и даже ценными качествами она обладала. Однако она несколько преувеличивала ценность этих качеств, не придавая никакого значения сопровождавшим их недостаткам. Вам не удалось бы убедить ее в том, что она – женщина ограниченная, не свободная от предрассудков, мелочно обидчивая, слишком носится со своей собственной персоной, со своим достоинством, а ведь это было именно так. Но когда никто не оспаривал ее притязаний на изысканность и не оскорблял ее предрассудков, она становилась доброй и дружелюбной. К обоим своим братьям (кроме Роберта, у нее был еще один брат) она была очень привязана. Последние представители угасающего рода, оба они были для нее почти священны; Луи, однако, она знала гораздо меньше, чем старшего брата; еще совсем мальчиком он был отправлен в Англию и окончил там английскую школу. Ни по образованию, ни по природным склонностям он не годился в предприниматели, и когда рухнули его надежды на наследство и ему пришлось подумать о заработке, он избрал суровый и скромный путь учителя. Сперва он был репетитором в школе, а сейчас, по слухам, служил гувернером в частном доме. О Луи мадемуазель отзывалась как о человеке, не лишенном способностей, но чересчур робком и тихом; ее похвала Роберту звучала по-иному, без всяких оговорок, она гордилась им и считала его величайшим человеком в Европе: в ее глазах все его слова и поступки были достойны похвалы, и весь мир должен был разделять ее мнение. Ничто не может быть чудовищнее и постыднее, чем мешать Роберту в его делах, – разве что мешать ей самой.
И вот едва лишь ее любимый Роберт сел за стол, как она, положив ему на тарелку пареных груш и большой кусок сладкого пирога, принялась ахать и изливать свое негодование по поводу ночного происшествия.
– Quelle idеe! Ломать машины. Quelle action honteuse! On voyait Bien que les ouvriers de ce pays etaient ? la fois b?tes et mechiants. C’etair absolument comme les domestiques Anglais, les servantеs surtout: rien d’insupportable comme cette Sarah, par exemple![11 - Подумать только! Позорный поступок! Сразу видно, что рабочие в этой стране глупы и злобны! Не лучше их и английские слуги, и в особенности служанки! Что может быть, например, невыносимее нашей Сары! (фр.)]
– Она производит впечатление опрятной и старательной девушки, – заметил Мур.
– Не знаю уж, какое она производит впечатление! Да я и не говорю, что она ленива или грязна, mais elle es d’une insolence![12 - Но как она дерзка (фр.).] Вчера, например, спорила со мною целых четверть часа насчет приготовления говядины; говорит, что я ее вывариваю и она становится как тряпка, что ни один англичанин не стал бы есть такого блюда, как наша bouilli[13 - Вареная говядина (фр.).], что мой бульон – просто теплая, мутная вода, а что касается choucroute[14 - Кислая капуста (фр.).], так ее и в рот не возьмешь! Бочонок, который стоит у нас в погребе, отлично приготовленный моими собственными руками, она называет свиным пойлом, помоями! Я измучилась с этой девчонкой, а прогнать ее не решаюсь – вдруг попадется еще худшая. Так вот и ты, мой бедный дорогой брат, бьешься со своими рабочими!
– Боюсь, что ты не очень хорошо чувствуешь себя в Англии, Гортензия.
– Мой долг, дорогой брат, чувствовать себя хорошо там, где находишься ты; если бы не это, многое заставило бы меня пожалеть о нашем родном городе. По-моему, люди здесь дурно воспитаны, они позволяют себе насмехаться над моими привычками; если работница с твоей фабрики, зайдя иной раз к нам на кухню, застает меня за стряпней (ты же знаешь, я не могу доверить Саре ни одного блюда), она позволяет себе усмехаться при виде моей кофты и юбки. А если я принимаю приглашение и еду в гости, как это было раза два-три, я замечаю, что на меня не обращают внимания, мне не оказывают должного уважения. Представительница таких достойных семей, как Жерары и Муры, вправе требовать к себе уважения и, не видя его, чувствовать себя задетой. В Антверпене ко мне относились почтительно! Здесь же стоит мне открыть рот в обществе, как все начинают переглядываться, словно я скверно говорю по-английски, а ведь я-то знаю, что мое произношение безупречно.
– Не забывай, Гортензия, что в Антверпене мы слыли богачами; в Англии нас считают бедняками.
– Разумеется, но до чего же люди корыстолюбивы! Помнишь, мой друг, в прошлое воскресенье лил дождь, и я, отправляясь в церковь, надела свои опрятные черные сабо, – в них, конечно, неудобно выйти на улицу большого города, но нет ничего предосудительного в том, чтобы шлепать в них по грязи здесь, – и вот когда я спокойно и с достоинством, по своему обыкновению, вошла в церковь, четыре дамы и четыре джентльмена фыркнули и уткнулись носами в молитвенники.
– Ну что ж, не надевай больше сабо… Я и раньше говорил тебе, что здесь это не принято.
– Но, брат, это не простые сабо, какие носят крестьяне. Это sabots noirs, tres-propres, tres-convenables[15 - Это черные башмаки, вполне приличные (фр.).]. Весьма почтенные жители городов Монс и Лоз, расположенных неподалеку от такой элегантной столицы, как Брюссель, в зимнюю пору чаще всего надевают именно такие башмаки. Пусть бы кто отважился походить по грязи фламандских дорог в парижских ботинках, on m’en dirait des nouvelles[16 - Воображаю, как он будет выглядеть (фр.).].
– Что нам теперь Монс и Лоз и фламандские дороги! С волками жить – по-волчьи выть, и мне кажется, тебе не следует носить здесь кофту и юбку. Я что-то не видел, чтобы английские дамы так одевались. Спроси хотя бы Каролину Хелстоун.
– Каролину? Мне спрашивать Каролину? Советоваться с ней насчет моих платьев? Это она должна во всем со мной советоваться – она еще совсем девочка.
– Ей восемнадцать или, во всяком случае, семнадцать лет. В этом возрасте девушки уже знают, как надо одеваться.