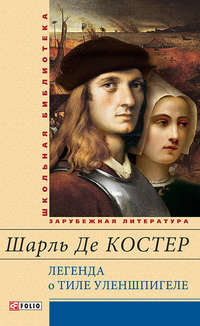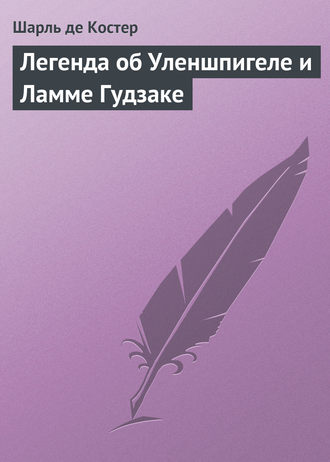
Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке
– Это он, это мой бедный Михиелькин!
Затем он вылепил две окровавленные ноги.
Совладав со своим ужасом, Боолкин сказала:
– Благословен, кто предаст убийцу смерти.
Взяв маску и ноги, Уленшпигель сказал:
– Мне нужен помощник.
– Пойди в «Blauwe Gans» – трактир «Синий гусь», и обратись к его хозяину Иоосу Лансаму из Ипра. Это был лучший друг и товарищ моего брата. Скажи ему, что ты от Боолкин.
Так Уленшпигель и сделал.
Покончив свои кровавые дела, профос Спелле шёл в трактир «Сокол» и пил здесь горячую смесь из dobbele-clauwaert, корицы и сахара. Ему ни в чём не было здесь отказа из страха перед верёвкой.
Питер де Роозе опять осмелел и вернулся в Мэлестее. Повсюду он ходил следом за Спелле и его сыщиком, чтобы всегда быть под их охраной. Иногда Спелле угощал его. И они вместе весело пропивали деньги своих жертв.
Теперь «Сокол» посещался далеко не так, как в доброе старое время, когда городок жил спокойной жизнью, почитал господа бога по католическому вероучению и не подвергался преследованиям за веру. Теперь он был точно в трауре, и это видно было по множеству пустых или запертых домов и по безлюдным улицам, по которым бродили тощие собаки, отыскивая себе пищу в навозных кучах.
Лишь двум злодеям было ещё здесь раздолье. Напуганные горожане видели каждый день, как они нагло обходят город, намечают дома своих будущих жертв, составляя списки обречённых, а вечером, возвращаясь из «Сокола», поют похабные песни. За ними, как телохранители, всегда шли два сыщика, вооружённые с головы до ног и тоже очень пьяные.
Зайдя in den «Blauwe Gans» к Иоосу Лансаму, Уленшпигель нашёл трактирщика за стойкой.
Уленшпигель вынул из кармана бутылочку водки и обратился к нему:
– Боолкин продаёт две бочки этой водки.
– Пойдём в кухню, – сказал трактирщик.
Он запер за собой кухонную дверь, пристально посмотрел на Уленшпигеля и сказал:
– Ты не торгуешь водкой; что значит твоё подмигиванье? Кто ты такой?
– Я сын Клааса, сожжённого в Дамме, – ответил Уленшпигель, – пепел его стучит в моё сердце; я хочу убить Спелле, убийцу.
– Ты от Боолкин?
– Я от Боолкин. Я убью Спелле, а ты мне поможешь.
– Я готов. Что надо делать?
Уленшпигель ответил:
– Пойди к священнику, доброму пастырю, врагу Спелле. Собери своих друзей и будь с ними завтра после вечерни на дороге в Эвергем, неподалёку от дома Спелле, между «Соколом» и его домом. Скройтесь там в тени и будьте все в тёмной одежде. Ровно в десять часов ты увидишь, как Спелле выйдет из трактира, а с другой стороны подъедет повозка. Сегодня вечером ничего не говори своим друзьям: они спят слишком близко от уха своих жён. Сговорись с ними завтра. Соберитесь, прислушивайтесь и всё запоминайте.
– Всё будем помнить, – сказал Иоос. И он поднял стакан: – Пью за верёвку для Спелле.
– За верёвку, – ответил Уленшпигель.
Затем они вернулись в общую комнату трактира, где кутила компания гентских старьёвщиков, возвращавшихся с субботнего базара в Брюгге. Там они продали по дорогой цене парчёвые камзолы и плащи, скупленные за гроши у промотавшихся дворян, которые пытались подражать пышности испанцев.
По случаю громадного барыша они бражничали и кутили.
Усевшись в уголок, Уленшпигель и трактирщик потихоньку сговорились здесь за выпивкой, что Иоос сперва пойдёт к священнику, доброму пастырю, ненавидевшему Спелле, убийцу невинных, а потом к своим друзьям.
На следующий день Иоос Лансам и друзья Михиелькина вышли из «Синего гуся», где они по обыкновению сидели за кружкой. Чтобы скрыть свои намерения, они после вечернего колокола пошли разными путями и сошлись на дороге в Эвергем. Было их семнадцать человек.
В десять часов Спелле вышел из «Сокола» и с ним оба его сыщика и Питер де Роозе. Лансам со своими спрятался в амбаре Самсона Бооне, который также был другом Михиелькина. Дверь амбара была открыта настежь, но Спелле их не видел.
Они же видели, как он и с ним Питер де Роозе и оба сыщика шли пьяные, еле держась на ногах. И он говорил сонным голосом, поминутно икая:
– Профосы! Профосы! Сладко им живётся на этом свете. Поддерживайте же меня, висельники, недаром живёте вы моими объедками!
С поля послышался рёв осла и щёлканье бича.
– Ага, – сказал Спелле, – упрямый осёл не слушается вежливого приглашения и ни с места.
Вдруг раздался громкий стук колёс и дребезжание повозки, спускающейся по дороге.
– Остановить! – крикнул Спелле.
Когда повозка приблизилась к ним, Спелле с помощниками бросились и схватили осла за морду.
– Повозка пуста, – сказал один из сыщиков.
– Болван, – возразил Спелле, – с каких это пор пустые повозки сами шатаются ночью по дорогам. Кто-нибудь, наверное, спрятался в ней. Зажгите фонари. Да поднимите выше, я ничего не вижу.
Фонари были зажжены, и Спелле со своим фонарём полез на повозку. Но, едва заглянув в неё, он издал страшный крик и упал назад со стоном.
– Михиелькин, Михиелькин! Помилуй, господи Иисусе!
И из глубины повозки показался человек, весь в белом, как пирожник, держа в руках две окровавленные ноги.
И Питер де Роозе, увидев при свете фонарей этого человека, тоже закричал, и сыщики вместе с ним:
– Михиелькин! Мёртвый Михиелькин! Помилуй нас, господи!
На шум сбежались все бывшие в засаде, чтобы рассмотреть, что там делается, и с ужасом смотрели на этот поразительно похожий образ их покойного друга Михиелькина.
Призрак размахивал окровавленными ногами, лицо его было то самое круглое, полное лицо Михиелькина, но мертвенно-бледное, грозное, жёлто-зелёное и у подбородка разъеденное червями.
Всё размахивая кровавыми ногами, призрак обратился к стонущему Спелле, лежавшему на спине:
– Спелле! Профос Спелле! Очнись!
Но Спелле был неподвижен.
– Спелле! – повторил призрак, – профос Спелле! Очнись, или я стащу тебя в пасть адскую.
Спелле поднялся; его волосы от ужаса стояли дыбом, и он жалобно молил:
– Михиелькин! Михиелькин! Помилуй меня!
Между тем собрались горожане; но Спелле видел перед собой только фонари, которые он, как сам рассказал потом, принял за глаза дьяволов.
– Спелле! – сказал призрак Михиелькина. – Готов ты к смерти?
– Нет, – кричал профос, – нет, господин Михиелькин, я не готов к смерти; я не хочу предстать пред господом, пока душа моя черна от прегрешений.
– Узнаёшь ты меня? – спросил призрак.
– Поддержи меня, господи! Да, я узнаю вас. Вы дух Михиелькина, пирожника, умершего невинно в своей постели от последствий пытки, и эти две кровавые ноги – те самые, к которым я приказал привесить по пятидесяти фунтов к каждой. Ах, Михиелькин, простите меня, этот Питер де Роозе такой соблазнитель; он обещал мне, и я в самом деле от него получил пятьдесят флоринов за то, что вы будете внесены в список.
– Ты хочешь покаяться? – спросил призрак.
– Да, господин, я во всём сознаюсь, во всём покаюсь и принесу повинную. Но, ради бога, удалите раньше чертей, которые хотят проглотить меня. Я всё скажу. Уберите эти горящие глаза! Я то же проделал в Турне с пятью горожанами, в Брюгге с четырьмя. Я теперь не помню их имён, но, если вы потребуете, я назову их. И в других местах я также грешил, и по вине моей шестьдесят девять невинных человек лежат в могиле. Господин Михиелькин, королю нужны деньги – так мне сказали. Но и мне они тоже нужны. Часть их закопана в Генте в погребе у старухи Гровельс, моей настоящей матери. Я всё сказал, всё. Молю о милости и прощении! Уберите чертей! Господи боже, пресвятая дева, Христос-спаситель, вступитесь за меня! Уберите эти адские огни, я всё продам, всё раздам бедным и покаюсь.
Увидев, что толпа горожан готова поддержать его, Уленшпигель спрыгнул с повозки, схватил Спелле за горло и хотел задушить его.
Но тут вмешался священник.
– Оставь его, – сказал он, – пусть лучше умрёт на виселице, чем от руки привидения.
– Что же вы хотите с ним сделать? – спросил Уленшпигель.
– Принести жалобу герцогу, и его повесят, – ответил священник, – но кто ты такой?
– Я в маске Михиелькина бедная фламандская лисичка, которая из страха пред испанскими охотниками снова скроется в своей норе.
Между тем Питер де Роозе убежал со всех ног.
И Спелле был повешен, а имущество его конфисковано.
И наследство получил король.
XXXIII
На другой день Уленшпигель шёл вдоль светлой речки Лей[175] по направлению к Кортрейку.
Ламме со стенаниями тащился за ним.
– Что ты всё стонешь, тряпичная ты душа, о твоей жене, которая украсила тебя рогами? – сказал ему Уленшпигель.
– Сын мой, она всегда была мне верна и любила меня как должно, а уж я её любил без меры, о господи Иисусе. И вдруг однажды она отправилась в Брюгге и вернулась оттуда другая. С тех пор на все мои просьбы о любви она отвечала:
«Я должна жить с тобой только как друг, не иначе».
Я затосковал в сердце моём и говорю ей:
«Радость моя, дорогая моя, господь бог соединил нас браком. Разве я не делал для тебя всего, что ты хочешь? Не одевался ли я не раз в камзол из чёрного рядна и в плащ из дерюги, лишь бы наряжать тебя – вопреки королевским указам – в шёлк и парчу? Дорогая моя, неужто ты уж никогда не будешь любить меня?»
«Я люблю тебя так, – отвечала она, – как указано господом богом и законами, святыми заповедями и покаянными канонами. И всё же отныне я буду тебе лишь добродетельной спутницей».
«Что мне в твоей добродетели, – отвечал я, – мне ты нужна, ты моя жена, а не твоя добродетель».
Тут она покачала головой и сказала:
«Я знаю, ты добрый. Ты был у нас поваром, чтобы не допустить меня к стряпне. Ты гладил наше бельё, простыни и рубахи, так как утюги тяжелы для меня. Ты стирал наше бельё, подметал комнаты и улицу перед домом, чтобы я не знала труда и усталости. Теперь всё это буду делать вместо тебя я сама, но больше ничего, милый мой муж».
«Мне это не нужно. Я, как раньше, буду твоей горничной, твоей прачкой, кухаркой, твоим верным рабом. Но, жена, не разделяй эти сердца и тела, бывшие единой плотью, не разрывай уз любви, так нежно связывавших нас».
«Так надо», – сказала она.
«Ах, – вскричал я, – это ты в Брюгге пришла к этому жестокому решению».
«Я поклялась перед господом богом и его святыми угодниками», – отвечала она.
«Кто же принудил тебя принести этот обет не исполнять никогда своих супружеских обязанностей?»
«Тот, на ком почил дух божий, удостоил меня покаяния».
С тех пор она перестала быть моей и как будто сделалась верной женой кого-то другого. Я умолял её, мучил её, грозил, плакал, просил – всё напрасно. Вернувшись однажды вечером из Бланкенберге, где я получил аренду за одну мою ферму, я нашёл дом пустым. Очевидно, моя жена устала от моих просьб, или рассердилась, или опечалилась моей печалью и бежала. Где-то она теперь?
И Ламме уселся на берегу Лей и, опустив голову, смотрел на воду.
– Ах, – вздыхал он, – подружка моя, какая нежненькая ты была, какая стройненькая, какая пухленькая. Уж не найти мне такого цыплёночка. Неужто никогда уж не отведаю я любовного блюда, поданного тобой? Где твои упоительные поцелуи, пахнувшие как тмин, твои сладкие уста, которыми я лакомился, как пчёлка мёдом розы? Где твои белые руки, с лаской обнимавшие меня? Где твоё бьющееся сердце, твоя пышная грудь, твоё трепещущее в любви, наслаждением дышащее нежное тело? Да, где волны твоей реки, весело струящей свои новые воды под солнечными лучами?
XXXIV
Дойдя до опушки Петтегемского леса, Ламме обратился к Уленшпигелю:
– Я изнемогаю от жары, отдохнём в тени.
– Хорошо, – ответил Уленшпигель.
Они уселись на траву под деревьями и увидели стадо оленей, которое промчалось мимо них.
– Будь настороже, Ламме. – сказал Уленшпигель и зарядил свой немецкий аркебуз. – Вон старые самцы, ещё сохранившие свои рога и гордо несущие свою девятиконечную красу; стройные двухлетки, их оруженосцы, бегут рядом с ними, готовые поддержать их своими острыми рожками. Они спешат к своему становищу. Так, теперь взведи курок, как я. Пли! Ранен старый олень. Молодому попало в бедро! За ним, за ним, пока не свалится! Беги со мной, прыгай, несись, лети!
– Вот ещё одна безумная выдумка моего друга, – бормотал Ламме, – гнаться за оленями. Не имея крыльев, их не догонишь, это бесполезные усилия. Ах, какой ты жестокий товарищ! Я ведь не так подвижен, как ты. Я весь вспотел, сын мой, я весь вспотел и сейчас упаду. Если лесник тебя поймает, быть тебе на виселице. Олени – королевская дичь; пусть бегут, сын мой, – тебе их не поймать.
– Идём, – говорил Уленшпигель, – слышишь, как шуршат его рога в листве? Шумит, как вихрь: видишь сломанные побеги и усеявшие землю листья? У него ещё одна пуля в бедре. Мы съедим его.
– Не хвались, пока он не зажарен, – возразил Ламме, – пусть бегут бедные звери. Ой, как жарко! Вот я упаду и не встану!
Внезапно со всех сторон выскочили оборванные и вооружённые люди. Собаки залаяли и понеслись по оленьему следу. Четверо мужчин дикого вида окружили Уленшпигеля и Ламме и повели их к поляне, совершенно укрытой в густой чаще; здесь среди женщин и детей они увидели множество мужчин, вооружённых разнообразнейшими шпагами, дротиками, рейтарскими пистолетами.
При виде их Уленшпигель спросил:
– Кто вы? Может быть, вы «лесные братья»[176]? Вы живёте здесь общиной и укрылись от преследований?
– Мы «лесные братья», – ответил старик, сидевший у огня и жаривший на сковороде птицу, – а ты кто?
– Я родом из прекрасной Фландрии, – ответил Уленшпигель, – я живописец, крестьянин, дворянин, ваятель, всё вместе. Я брожу по свету, восхваляю всё высокое и прекрасное и насмехаюсь во всю глотку над глупостью.
– Если ты видел так много стран, – сказал старик, – то ты, конечно, сумеешь сказать Schild ende Vriendt – «щит и друг» – так, как это говорят гентские уроженцы. Если нет, то ты поддельный фламандец и будешь убит.
– Schild ende Vriendt, – сказал Уленшпигель.
– А ты, толстяк, – обратился старик к Ламме, – ты чем промышляешь?
– Я пропиваю и проедаю мои земли, усадьбы, фермы, хутора, разыскиваю мою жену и повсюду следую за другом моим Уленшпигелем.
– Если ты так много странствуешь, то ты, конечно, знаешь, какое прозвище уроженцев Веерта в Лимбурге.
– Этого я не знаю, – ответил Ламме, – но не можете ли вы мне сказать, как прозывается тот подлый негодяй, который выгнал мою жену из моего дома. Скажите мне его имя, и я убью его на месте.
– Есть на этом свете, – ответил старик, – две вещи, которые никогда не возвращаются: истраченные деньги и сбежавшие жёны, которым надоели их мужья.
И он обратился к Уленшпигелю:
– А знаешь ты, какое прозвище у уроженцев Веерта в Лимбурге.
– De raekstekers (заклинатели скатов), – ответил Уленшпигель, – ибо, когда однажды живой скат свалился там с телеги рыбника, старуха, видя его прыжки, приняла его за дьявола. «Идём за священником, пусть выгонит беса из ската», – говорили они. Священник смирил ската заклинанием, взял его с собой и хорошенько пообедал им в честь веертских обывателей. Так да поступит господь и с кровавым королём.
Между тем в лесу раздавался лай собак. Среди деревьев бежали вооружённые люди и кричали, чтобы запугать зверя.
– Это олени, в которых я стрелял, – сказал Уленшпигель.
– Мы съедим их, – сказал старик. – А как прозываются уроженцы Эндховена в Лимбурге.
– De pinnemakers (засовщики), – ответил Уленшпигель. – Однажды, когда неприятель стоял перед их городом, они заперли городские ворота засовом из моркови. Пришли гуси и, жадно колотя клювом, расклевали морковь, и враги вторглись в Эндховен. Железные клювы понадобятся и для того, чтобы расклевать тюремные засовы, за которыми хотят сгноить в неволе свободу совести.
– Если господь с нами, то кто против нас? – ответил старик.
– Этот лай собак, крики людей, треск ветвей: настоящая буря в лесу, – сказал Уленшпигель.
– А что, оленье мясо вкусно? – спросил Ламме, смотря на сковородку.
– Приближаются крики загонщиков, – говорил Уленшпигель Ламме. – Собаки уже совсем близко. Какой шум! Олень, олень! Берегись, сын мой! Ой, ой, подлый зверь: он опрокинул на землю моего толстого друга среди сковород, горшков, котелков, кастрюль, кусков мяса. Вон женщины и девушки убегают, обезумев от страха. Ты в крови, сын мой.
– Ты насмехаешься, бездельник, – ответил Ламме, – да, я весь в крови: он ударил меня рогами в зад. Смотри, как изодраны мои штаны и моя говядина. А там на земле – это прекрасное жаркое. Ах, вся кровь вытечет из меня через зад.
– О, этот олень предусмотрительный лекарь, – сказал Уленшпигель, – он спас тебя от апоплексии.
– Как тебе не стыдно, бессердечный ты негодяй! – сказал Ламме. – Я не буду больше странствовать с тобой. Останусь здесь, среди этих добрых людей. Как можешь ты быть таким безжалостным к моим страданиям? А я, как собака, таскался за тобой в метель и мороз, дождь, град и ветер, и в жару тоже, когда душа выходила из меня струйками пота.
– Твоя рана – ерунда, – ответил Уленшпигель, – положи на рану оладью, сразу будет тебе и пластырь и жаркое. А знаешь, как называют лувенцев? Вот видишь, ты не знаешь, бедный мой друг. Ну, я тебе скажу, чтобы ты не скулил. Их называют de koeye-schieers – стрелки по коровам, так как в один прекрасный день они были так глупы, что приняли коров за неприятельских солдат и стали палить по ним. Мы же стреляем по испанским козлам, у которых, правда, вонючее мясо, но кожа годится на барабаны. А тирлемонцев знаешь, как кличут? Тоже нет? Они носят достославное прозвище kirekers, ибо в троицын день у них в большой церкви утка пролетела с хоров к алтарю и явилась им образом святого духа. Положи ещё koeke-bakke (лепёшку) на твою рану. Ты молча собираешь миски и куски жаркого, разбросанные оленем. Вот это называется кухонным пылом! Ты опять разводишь огонь, подвешиваешь под ним котелок с супом к треножнику. Ты деятельно углубился в стряпню. Знаешь ты, почему в Лувене насчитывают четыре чуда? Нет? Ну, я тебе скажу. Во-первых, потому, что там живые проходят под мертвецами: ибо церковь святого Михаила расположена у городских ворот, так, что её кладбище находится на крепостном валу над воротами. Во-вторых, там колокола вне колоколен: в церкви святого Якова висит снаружи один большой и один маленький колокол, для которых не нашлось места на колокольне. В-третьих, там алтарь вне церкви: ибо портал этого самого храма подобен алтарю. В-четвёртых, там есть «Башня без гвоздей»: шпиль колокольни церкви святой Гертруды выстроен не из дерева, а из камня, камней же гвоздями не прибивают, кроме, впрочем, каменного сердца кровавого короля, которое я охотно прибил бы к Большим воротам города Брюсселя. Но ты не слушаешь меня. Не солона подлива! А знаешь, почему жители Тирлемона называют себя «грелками» – de vierpannen? Потому что однажды зимой один молодой принц хотел переночевать в гостинице «Герб Фландрии», а хозяин не знал, как ему согреть простыни – грелки у него не было. И вот, чтобы нагреть постель, он уложил туда свою молоденькую дочку, а она, как услышала, что принц подходит, убежала со всех ног. И принц спрашивал, почему вынули грелку из постели. Дай господи, чтобы Филипп, запертый в раскалённом железном сундуке, был грелкой в постели Астарты.
– Оставь меня в покое, – сказал Ламме, – плюю я на твои грелки, твои колокольни без гвоздей и прочие твои россказни: оставь меня с моей подливой.
– Поберегись, – ответил Уленшпигель, – лай не прекращается; напротив, он всё сильнее, собаки заливаются, рог трубит, берегись оленя. Бежит! Рог трубит!
– Это сзывают на добычу, – сказал старик. – Олень убит, Ламме, вернись, сейчас будет прекрасное жаркое.
– О, это будет великолепный обед, – заметил Ламме, – и вы приглашаете меня на пиршество, – недаром я так потрудился ради вас: птица в соку удалась отлично. Хрустит только на зубах немножко – в этом виноват песок, в который всё попадало, когда этот проклятый олень разорвал мне камзол и ляжку. А лесников вы не боитесь?
– Для этого нас слишком много, – ответил старик, – они нас боятся и не смеют нас тронуть. Сыщики и судьи тоже. А население нас любит, потому что мы никому зла не причиняем. Мы поживём ещё некоторое время в мире, пока нас не окружит испанское войско. А если этому суждено быть, то все мы, мужчины и женщины, девушки и мальчики, старики и дети, дорого продадим нашу жизнь и скорее перебьём друг друга, чем сдадимся, чтобы терпеть тысячи мучений в руках кровавого герцога.
Уленшпигель сказал:
– Было время, когда мы бились с палачом на суше. Теперь надо уничтожать его силу на море. Двиньтесь на Зеландские острова через Брюгге, Гейст и Кнокке.
– У нас нет денег, – ответили они.
– Вот вам тысяча червонцев от принца, – сказал Уленшпигель, – пробирайтесь вдоль водных путей – протоков, каналов, рек. Вы увидите корабли с надписью «Г.И.Х.»; тут пусть кто-нибудь из вас засвистит жаворонком. Крик петуха ответит ему, – значит, вы среди друзей.
– Мы так и сделаем, – ответили «лесные братья».
Явились охотники с собаками, таща за собой на верёвках убитого оленя.
Затем все уселись вокруг костра. Всех их, мужчин, женщин и детей, было человек шестьдесят. Они вытащили хлеб из своих мешков, а из ножен ножи. Оленя освежевали, разрубили на куски и вместе с мелкой дичью воткнули на вертел. К концу трапезы можно было видеть, как Ламме, прислонившись к дереву, храпел в глубоком сне, опустив голову.
С наступлением вечера «лесные братья» укрылись в землянках; то же сделали и Ламме с Уленшпигелем.
Вооружённая стража осталась стеречь лагерь. Уленшпигель слышал, как хрустит сухая листва под шагами дозорных.
На другой день он двинулся в путь вместе с Ламме. Оставшиеся в лагере говорили ему:
– Будь благословен; мы двинемся к морю.
XXXV
В Гарлебеке Ламме обновил свой запас olie-koekjes – лепёшек; двадцать семь штук он съел тут же, а тридцать положил в свою корзину. Уленшпигель нёс свои клетки. Вечером они добрались до Кортрейка и остановились в гостинице «In den Bie» – «Пчела» – у Жилиса ван-ден-Энде, который бросился к двери, услышав жаворонка.
Там друзья как сыр в масле катались. Прочитав письма, хозяин вручил Уленшпигелю пятьсот червонцев для принца и не хотел взять ничего ни за индейку, которой он их угостил, ни за dobbele clauwaert, оросившее её. И он предупредил их, что в Кортрейке сидят сыщики Кровавого Судилища и что поэтому надо держать язык на привязи.
– Мы их распознаем, – сказали Уленшпигель и Ламме.
И они вышли из «Пчелы».
Заходящее солнце золотило крыши домов; птицы заливались в липах; женщины болтали, стоя на пороге своих домов; ребятишки возились в пыли; Уленшпигель с Ламме бродили бесцельно по улицам.
– Я спрашивал Мартина ван ден Энде, – вдруг сказал Ламме, – не видел ли он женщины, похожей на мою жену, и нарисовал ему её милый образ. На это он сказал, что у Стевенихи в «Радуге», за городом, по дороге в Брюгге, собирается по вечерам много женщин. Я иду туда.
– Я тоже приду, – сказал Уленшпигель, – и мы встретимся. Хочу осмотреть город. Если я где-нибудь встречу твою жену, тотчас же пришлю её к тебе. Ты слышал, трактирщик посоветовал молчать, если тебе дорога твоя шкура.
– Я буду молчать, – ответил Ламме.
Уленшпигель весело бродил по городу. Солнце зашло, и быстро стемнело. Так он добрался до Горшечной улицы – Pierpot-Straetje; здесь слышались певучие звуки лютни. Подойдя ближе, он увидел вдали белую фигуру, которая манила его за собой, но всё удалялась, наигрывая на лютне. Точно пение серафима, доносился протяжный и влекущий напев. Она напевала, останавливалась, оборачивалась, манила его и вновь скользила дальше.
Но Уленшпигель бежал быстро. Он догнал её и хотел заговорить с ней, но она положила надушенную бензоем руку на его уста.
– Ты из простых или барин? – спросила она.
– Я Уленшпигель.
– Ты богат?
– Достаточно богат, чтобы заплатить за большое удовольствие, слишком беден, чтобы выкупить мою душу.
– У тебя нет лошадей, что ты ходишь пешком?
– У меня был осёл, но он остался в конюшне.
– Почему это ты бродишь один по чужому городу, без друга?
– Мой друг идёт своим путём, я – своим, любопытная красотка.
– Я не любопытна. Твой друг богат?
– Богат салом. Скоро ты кончишь допрос?
– Кончила. Теперь пусти меня.
– Отпустить тебя? Это всё равно, что потребовать от голодного Ламме отказаться от миски, полной дроздов. Я хочу попробовать тебя.
– Ты меня не видел, – сказала она и открыла фонарь, разом озаривший её лицо.
– Ты красавица, – вскричал он, – о, эта золотистая кожа, эти нежные глаза, эти красные губы, эта гибкая талия – всё будет моё…
– Всё, – ответила она.
Она повела его по дороге в Брюгге, к Стевенихе в «Радугу» – «In den Reghen boogh». Здесь Уленшпигель увидел много гулящих девушек, на рукавах у них были разноцветные кружки, отличные по цвету от их ситцевых нарядов.