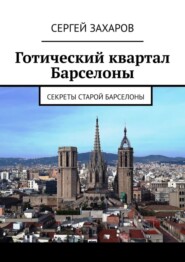По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Номер с видом на океан. История жизни и любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впрочем, даже если бы весь искренний и такой понятный монумент собственной лжи, изваянный им персонально для меня, оказался верен – это ничего и никоим образом не изменило бы и изменить не могло. При всей куриной слепоте своей души я уже знал, что вся моя истинная жизнь исчисляется от Маши, и что жизнь эта – Машин мне подарок.
Жизнь, жизнь… Какая там жизнь была у меня до Маши – и была ли вообще? Чтобы понять, как Маша нашла меня, за четыре тысячи километров, в другом измерении и третьей стране, нужно сказать несколько слов, обозначить ее хотя бы пунктиром – эту мою так называемую «жизнь». Кавычки здесь более чем уместны, потому что, задумываясь о ней, я прихожу к выводу, что, по сути, до Маши и не жил вовсе.
Все, что было, скорее напоминает рваные, неразборчивые от смазавшихся чернил пометки на полях настоящей, так и не прожитой мною жизни, или долгий больной сон, который мог с равным успехом сниться как самому мне, так и любому стороннему человеку – настолько он был несущественен, нехорош и обречен на скорое забвение.
Судите сами: в семнадцать лет, еще не выйдя из счастливо-животного детского состояния, я сделался вдруг запойным алкоголиком – в одно обвальное лето. Почему, как – сказать сложно, да это и неважно здесь. Важно, что, подобно черному вундеркинду, за один единственный год я превзошел все стадии алкогольного разложения и оформился окончательно в однобокую эгоистичную тварь, возводящую свой дрожащий кайф в мировой абсолют. Быстро? Быстро, да – но я не лишен был разных способностей.
Здесь нужно бы ставить постыдную точку – ее и поставили, и как раз «пером»: в очередной пьяной драке мое тело проткнули пару раз ножом и бросили истекать на лестничной клетке. Так я умер в первый раз – должен был умереть, когда бы не Божье золотое крыло, явленное мне тогда впервые.
В то самое время, когда я утекал, вытекал и почти вытек из себя на пыльный бетон, в том же подъезде, но тремя этажами ниже, сделалось плохо старухе. Ей вызвали скорую, и санитар глазастый случаем углядел веселые, вишневые и тугие, мчавшие сверху лестничного колодца капли. Меня обнаружили и спасли – пять лишних минут, и было бы поздно.
Вот что это: случайность, чудо, перст, подарок? Да, перст и подарок, но воспринял я его самым нелепым образом: едва оклемавшись, принялся разбазаривать подаренное мне время пуще прежнего. Человеку свойственно наплевательски относиться к подаркам, а золотое крыло, к тому же, окончательно убедило меня в собственном бессмертии.
Мне долго сходило с рук то, что убило бы уже дюжину других таких же, избравших судьбою земной ад – тех, что крестятся в этиловой реке и уходят в белую пустыню. Я пил, дрался, множил старательно зло; меня еще дважды пытались зарезать и один раз – застрелить; на меня заводили уголовные дела и определяли не раз на тюремную шконку…
Семнадцать, в общей сложности, раз меня отвозили в психбольницу и привязывали к койке с диагнозом «типичный делирий»… Пьяный вусмерть, я замерзал на январском холоде и тонул в февральской воде; я вываливался дважды из окон высоких этажей и четырежды попадал под машины; я регулярно засыпал в тлеющей от непотушенной сигареты постели – мне все, все сходило с дрожащих рук.
Более того: данный природой запас и Божье крыло позволяли еще и делать на полях смазанные записи-пометки. Параллельно с упоительной нежизнью я все же закончил кое-как университет, отслужил в армии, пытался где-то работать, заводил какие-то связи, тут же их, впрочем, теряя, – но все это шло вторым или третьим планом, обретаясь на тусклых задворках моего времени.
Именно – времени. Мало-помалу я начинал понимать, что жизни у меня нет (жизнь предполагает наличие смысла), а есть – подаренное мне зачем-то время. И время мое, как я знал уже, измеряется бессмысленной болью, и когда эта боль станет нестерпимой – я умру.
Окончательно я осознал это годам к тридцати, и не потому, что организм уже износил ресурс много раньше положенного срока; не потому, что давно уже врачи предупреждали: очередной запой может закончиться, в лучшем случае, смертью, а в худшем – безумием (хуже безумия нет ничего, и даже смерть перед ним бледнеет)…
Просто я очень ясно ощутил вдруг, что нет его надо мною больше – Божьего золотого крыла. Нет, и, скорее всего, не будет. Была боль, которой делалось все больше, и было время, ужимаемое болью в ноль. И я испугался тогда, что скоро, вот-вот, мое время прекратится, а от меня с моей непрожитой жизнью закономерно не останется ничего.
Так не годилось – должно же остаться хоть что-то! Не может, не должно быть, чтобы вся эта долгая трагикомедия затевалась и теялась зря… Тогда, подгоняемый предчувствием конца времени, проснувшись в глухой середине ночи, я сел за стол и начал что-то записывать, неловко, с кряхтением и матерщиной, заталкивая неудобные мысли в тесные коробки слов, пытаясь рассказать о том единственном, в чем разбирался хорошо, – о боли.
Занятие это постепенно захватило меня – и самым удивительным было то, что после фиксации этих труднопонятных самому мне мыслей на бумаге (по старинке я первоначально именно записывал их и именно на бумаге), они непостижимым образом отделялись от моего породившего их естества и начинали жить своей самостоятельной жизнью. Именно – жизнью, в которой брезжил какой-то смысл: так в разрыве сплошных, провисших под собственной тяжестью облаков на секунду проглядывает вдруг – далеко и высоко над ними – ясное, увешанное звездами ночное небо – и тут же скрывается вновь. Да, да, мерцало и таяло: но все же он определенно был, этот смысл, в противовес всему моему бессмысленному существованию, и мне захотелось, помню, чтобы смысл этот разглядел и понял кто-то еще.
В мировой паутине я зацепился за первый павший мне под руку литературный сайт, зарегистрировался и отпустил в люди свои трудные тексты, эти сгустки концентрированной боли, – и надо же было статься так, что их увидала Маша!
* * *
В то же время, что и я, но своими путями и причинами Маша упорно и целенаправленно подвигалась в как будто заранее определенную точку нашей встречи.
Ей стукнуло сорок с половиной (возраст превращений, когда «баба», по канонам народной мудрости, снова мутирует в «ягодку»), она была красива изысканной французской красотой уроженки Свердловска (всем известно, что настоящая французская красота только из России и происходит), давно жила за южными отрогами Пиренейских гор и, на паях с мужем, владела почти карманным, но успешным бизнесом в Барселоне.
Дети оперялись и стремились скорее избежать материнской опеки, разлетаясь кто куда, а главное, главное – она окончательно поняла, что к мужу, с которым прожито было почти двадцать лет, кроме возрастающей изо дня в день неприязни, не испытывает более ничего.
Кстати, мужа сама же Маша и испортила, как позже сокрушенно признавалась она мне. В свое время он достался ей человеком даже хорошим – разве что морально неустойчивым, ничем особо не выдающимся и, к тому же, болезненно неуверенным в себе. Однако встреча ее со «вторым номером» (так Маша иногда называла его, для ясности) произошла в нужный момент. Маша только что рассталась, а точнее, сбежала от «мужа номер один» – непомерного, под два метра и сто тридцать кило боксера-тяжеловеса, как-то незаметно, неуловимо быстро из спортсмена превратившегося в лихого и бескрайнего алкоголика.
От первого брака у Маши осталось тревожное ощущение перманентного отсутствия денег, поскольку и свою, и ее зарплату пьяный боксер пропивал нараз, и присутствия большой беды, притаившейся где-то за дверью: во хмелю великан был непредсказуем. А еще – двое симпатичных крошек-детей, мальчик и девочка, о которых, разводясь, она думала в первую и единственную очередь: нельзя и страшно было жить с малыми на одних квадратах с запойным монстром.
В противовес первому, «муж номер два» был застенчив, умерен в размерах и беспримерно восхищен Машиной красотой – настолько, что без колебаний готов был принять к себе и ее, и карапузов – все же поступок! Правда, «принять» – не совсем верно. Это Маша приняла его жить на свою территорию – движимым и недвижимым имуществом «второй номер» отягощен не был.
Правда и то, что ради Маши ему пришлось бросить свою первую жену с тем же количеством детишек, о которых он забыл сразу, безболезненно и навсегда (что Машу, признаться, сильно удивило и продолжало удивлять в продолжении их совместной последующей жизни) – однако, в любом случае, она была ему благодарна. В сравнении с запойно-сюрпризным гигантом, «номер второй» был куда более понятен и надежен. И не станем забывать, это был мужчина – пусть несколько мелковатый и слегка трусоватый – но все же именно он.
Насчет трусоватости выяснилось, когда принявший основательно на богатырскую грудь «номер один» принес свое огромное тело выяснять отношения, и «второй номер», новый Машин избранник заявил: «Она сама!» Машу, ставшую невольной свидетельницей этого забавного разговора, заявление такое слегка покоробило, однако «мужа номер два» тоже можно было понять: предыдущий ее супруг на многих производил неотразимое впечатление. Так или иначе, спившегося громилу она жестко изругала, прогнала напрочь и навсегда и взялась с энтузиазмом за строительство новых отношений. Маше хотелось простого семейного счастья – надежности, спокойствия и любви. Да, да, ей хотелось любить.
А возлюбив «мужа номер два», Маша, со свойственной ей страстью, принялась рьяно выправлять все его комплексы. Любить наполовину она не умела. Забыв напрочь о себе (дело для нее преобычное), она занялась исключительно его карьерой и в придуманном ею же бизнесе отвела ему головную роль, а с целью повышения мужниной самооценки постоянно, вдобавок, пела дифирамбы его уникальности и ему самому, и всему разномастному кругу их знакомых и родственников.
В этом и заключалась ее ключевая ошибка. Некоторые люди замечательны в роли сварщика, но на роль директора не годятся совершенно. «Муж номер два» был как раз из таких – из тех, кому власть противопоказана даже в мизерных дозах. Маша, подобно незадачливому алхимику, превратила сварщика в директора – и сама же за это поплатилась. Результаты превращения оказались неожиданными – во всяком случае, для нее – и ужасающими: возвысившись и быстро наверху пообвыкшись, муж искренне уверовал в собственную исключительность и в то, что всего добился сам. Люди же сторонние – они, благодаря промоутерским талантам все той же неразумной в пылу самоотречения Маши, поверили в это еще ранее, – да и что с них, сторонних, взять? Сальвадор Дали в свое время говаривал: «Повторяй себе раз двадцать на дню, что ты гений – и обязательно станешь им». Машин муж мог даже не утруждать себя повторениями – для этих целей у него имелась жена.
– Видно, доля у меня такая: взращивать царьков, – как-то посетовала горько Маша.
И была права: в результате своих необдуманных усилий вместо робкого человека в шапке из ветхого кролика она породила и выпестовала царька. Пожалуй, даже Царя – так будет вернее. И роль в их союзе отводилась ей теперь второстепенная – всего лишь спутницы великого человека. Муж был Windows, она – приложением. И отношение к ней было соответствующим – как к приложению.
Вскоре после окончательной трансформации муж начал барственно покрикивать на нее – а после и откровенно кричать, причем звучал отвратительным петушиным фальцетом. Впоследствии он пришел к выводу, что напряжение связок и расход нервных клеток – тоже не царское дело, и разработал новую, созвучную статусу модель поведения, при которой все, сказанное Машей, сходу записывалось в «бабские глупости» да так и воспринималось: с непомерного высока, с легкой снисходительной усмешкой небожителя. Но здесь уже он совершил ошибку – серьезную и даже непоправимую.
Если грубость его, проявлявшуюся резкими, короткими вспышками и приватно (прилюдно они считались идеальной семейной парой), она еще могла терпеть ради детей, то пренебрежение к себе – никогда. Для этого Маша была слишком горда. Сама она, как я сказал уже, любила без оговорок, нараспашку и во всю ширь, жертвуя собой с удовольствием и возвышая объект любви до небес; она, не колеблясь, могла пойти (и шла) и на обман, и на несправедливость, и даже на преступление ради возлюбленного – но ровно такого же отношения справедливо ожидала и к себе. Быть любимой комнатной, редкой породы собачкой она не желала и не могла. Собачка предполагает наличие кормящего хозяина и повелителя – для Маши такое положение дел совершенно не годилось.
Какое-то время она с удивлением, граничащим с ужасом, наблюдала за случившимися в муже глобальными переменами и пыталась даже как-то воздействовать на него. Муж и слушать не желал ее нелепых претензий. Постепенно Маша убедилась, что человека, которого она любила, больше нет, а возможно, никогда и не было вовсе. Именно так – не было. Она не сразу пришла к этому печальному выводу, долго думала, анализировала, вспоминала, проживая еще раз эти двадцать совместных с ним лет заново (так рассказывала мне она) и неожиданно для себя открыла, что обман и мерзость с его стороны присутствовали в их отношениях всегда, с самого что ни на есть начала.
Тщательности и глубине проделанной Машей аналитической работы позавидовал бы сам Шерлок Холмс – и он же первый, невзирая на всю свою деревянную английскую чопорность, бросился бы утешать ее, ибо выводы оказались печальны: все эти годы она вела себя, как полная дура, и дурой этой сознательно и умело пользовались. Не-е-е-е-т, «второй номер» изначально был вовсе не так наивен и прост, как она о нем думала.
Но Маша продолжала терпеть – отчасти из жалости, а отчасти потому, что догадывалась: разрыв просто так ей с рук не сойдет. Финансовые рычаги их совместного предприятия она сама же когда-то доверила ему (снова дура!), и намеками муж и ранее, в целях профилактических, давал ей понять: в случае чего, он воспользуется этими рычагами без раздумий. Терпела, опять же, еще и потому, что привыкла, да то и понятно: боязно, черт побери, всякому боязно – ломать привычный и устоявшийся быт, когда тебе уже не двадцать три. И Маша терпела. Самым сложным, как признавалась после она, было делить с этим отныне глубоко неприятным ей человеком постель.
Все эти славные открытия, метания и переоценки ценностей давались ей, разумеется, нелегко. Народившуюся в ней пустоту она пыталась заполнить писательством, для размещения своих текстов избрав – разумеется, случайно – тот же сайт самодеятельных литераторов, что и я. Ее бурлящие, яркие, как она сама, вещи насквозь пронизаны были ощущением ежесекундного праздника, они выстреливали шампанским и каждой своей строкой заразительно хохотали, радуясь жизни. Тем более странно, что Машу могла чем-то зацепить безнадежная, как ночь в морге, тяжесть сочиненного мною.
Но, как выяснилось, могла – и зацепила. Из открытых комментариев мы незаметно перебрались в личную переписку. Ничего серьезного – да ничего серьезного и быть не могло: дружеское общение двух совершенно разных людей, которые откровенны друг с другом именно в силу того, что виртуальная откровенность ни к чему не обязывает.
Я знал, что у нее муж, трое совершеннолетних детей и сложившаяся, в целом успешно, жизнь; Маша знала, что я – страдающий все более тяжелыми запоями алкоголик. Я знал, что Маша красива и любит цветы (видел фотографию на террасе, в середине устроенного ею цветочного царства), она знала, что если я без всякого предупреждения исчез на три недели из переписки – значит, у меня очередной запой.
«Ты уж береги себя и поскорее выбирайся, и сразу напиши, ладно?» – мягко и немного забавно тревожилась она: словно я был агент под прикрытием, уходящий на героическое и смертельно опасное задание. Впрочем, «смертельно опасное» имело все же отношение к паршивой действительности. Я «выбирался» – и первым делом писал ей: приятно было знать, что кто-то где-то, пусть и за тридевять земель, тревожится о тебе.
А потом она позвонила – затребовала мой номер телефона и позвонила. Помню, я испугался тогда: в этом был некий выход за никем не озвученные, но все же существующие пределы. Номер, тем не менее, сообщил и с легкой дрожью ждал звонка.
– Значит, так, – сходу сказала она (я удивился, что голос ее оказался ниже, чем я предполагал). – Я хочу издать книгу с твоими вещами. Тебя нужно печатать. Есть родственники и знакомые в Москве, которые помогут все организовать. От тебя ничего не нужно – кроме согласия. Деньги я вложу сама, а потом верну – после реализации тиража. Тираж небольшой, заработать на этом не получится – но нужно же с чего-то начинать. Эх, были бы деньги на хорошую рекламу, раскрутку – можно бы и много издать сразу. Но это не потянуть, жаль… Зато у тебя в активе будет книга – это пригодится в дальнейшем. Ты согласен?
Я не понимал, зачем ей это нужно. И не любил никому быть обязанным. Я ценил свою – какая ни есть – независимость. Но, похоже, от меня никто ничего и не требовал. Разумеется, я был согласен.
Затем все продолжилось, как прежде, – с одним, разве что, отличием: время от времени Маша стала звонить мне. Делалось это, как правило, с террасы: я хорошо слышал, что параллельно с разговором она курит, и еще, фоном, пробивался временами шум улицы. Иногда ее низковатый голос, к которому я успел привыкнуть, начинал торопиться и звучал особенно волнующе и глубоко.
– Ну ладно, ладно, – говорила быстро она. – Буду закругляться. Муж рядом ходит, а он у меня ревнивый.
Она улыбалась (разумеется, я не мог видеть этого, но знал, что она улыбается) и, скомкав парой резких сжатий нашу беседу, торопилась выбросить ее в корзину для бумаг – положив трубку, я слегка обижался на нее, минут этак пять.
Муж, муж… – ну и что, что муж? У нас ведь ничего не было с Машей и быть не может – с чего бы ему ревновать? Мы даже не виделись никогда – и никогда, скорее всего, не увидимся; смешно, честное слово! И в то же время было в этом нечто глубоко приятное, какая-то тайна, подобие ни к чему не ведущего флирта, приключения, в ход в которое дозволен был только двоим – но, повторюсь, воспринималось все как безобидная игра.
Я сочинял, вел свои английские занятия, вечером в обязательном порядке мы обменивались с Машей десятком-другим электронных писем… Наступала пора – и я исчезал на положенное время запоя… Возвращаясь, я робко стучался к Маше в почту – теперь мне каждый раз было почему-то неизъяснимо стыдно перед ней – и она тут же, при первой возможности звонила.
– Хочу убедиться, что ты действительно жив, – с легким смешком говорила она, но по голосу я понимал, как ей невесело, и мысленно материл себя распоследними словами, понимая, что это из-за меня. Эх, какой же тварью чувствовал я себя тогда…
Дела с книгой, между тем, подвигались. Хорошо помню Машин декабрьский звонок.
– Ну вот, книга вышла и уже продается, – сказала она. – Поздравляю! И еще: через неделю я снова буду в Москве – и давай-ка заеду к тебе и передам авторские экземпляры. Ты не против? Тогда сообщи адрес. Хотя… книги будут тяжелыми. Сможешь встретить меня на вокзале? Но адрес все равно сообщи, мало ли…
«Заехать к тебе» у нее прозвучало так, будто от Москвы до города, где я жил, было не семьсот километров, а семь. Противостоять напору Маши было невозможно. И снова я настораживался и внутренне подбирался (границы нарушались в очередной раз, а я все же служил в свое время пограничником – срабатывали соответствующие условные рефлексы) – и сообщал ей адрес дыры, где в то время жил, и записывал старательно дату ее приезда, время и номер поезда.