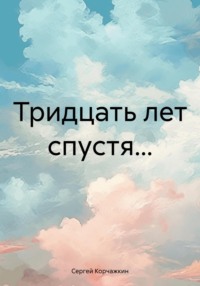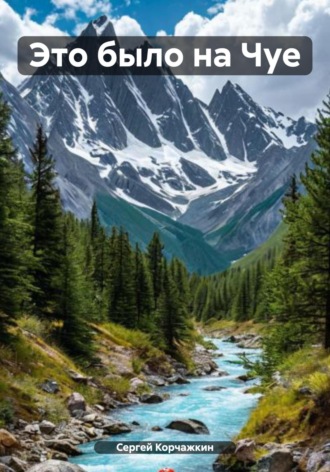
Это было на Чуе

Сергей Корчажкин
Это было на Чуе
Памяти Игоря Разуева.
Это было на Чуе
Чуйский тракт
Потрепанные временем и дорогами три грузовых ЗиЛа1, образовав небольшой караван, не спеша наматывали алтайские километры на лысеющие покрышки. В каждой из машин рядом с водителем на пассажирском сиденье расположились парни – на вид лет от двадцати пяти до тридцати пяти, одетые в потертые штормовки защитного цвета и еще более потертые, а местами и залатанные старые джинсы, явно видавшие виды. Парни в основном дремали.
В отличие от остальных кабин, где, не считая водителя, находилось по два человека, Павел был единственным пассажиром первого ЗиЛа. Поэтому чувствовал себя вполне комфортно и, вольготно развалившись, с интересом смотрел на дорогу.
Он не первый раз был в этих местах. Лет семь назад так же на перекладных, но другим составом они добирались до Телецкого озера. От озера перебрались на своих двоих через невысокий горный хребет и попали из Восточного Алтая в Западный Саян. Построили деревянный плот и сплавились от безлюдных горных верховий реки Абакан до населенной его средней части. Сейчас задача предстояла посложнее. И хотя пешего перехода не планировалось вообще – дорога в месте старта подходила к реке вплотную, – сама река была намного сложнее, особенно в верховьях, и оценивалась среди спортсменов-водников по самой высокой категории сложности.
Водитель попался разговорчивый. Не умолкая, рассказывал о трудностях горной дороги. О том, как часто машины на ней бьются, срываясь с крутых склонов в бушующую внизу реку. Павел слушал не перебивая. Но вопросов было много.
Дело в том, что Паша уже успел побывать на горных дорогах Тянь-Шаня и Памира. Причем в таких местах, где и кишлаков уже никаких нет, так что имел некоторое представление о том, что такое сложная горная дорога. Та картина, которая открывалась ему сейчас через лобовое стекло, была очень далека от памирско-тянь-шаньских пейзажей. Да, это горы. Средней высоты, но горы. Да, внизу река. Но не как на Памире: до воды почти вертикальный обрыв метров сто. А склон – метров десять-двадцать. Местами крутой. Местами не очень. Дорога, конечно, не асфальт, но достаточно ровный плотный грунт. Где-то со щебенкой, где-то нет. И по ширине приемлемо. Разъехаться со встречной машиной – нет проблем.
Казалось бы, объяснение простое: водитель-балабол вешает лапшу на уши московскому туристу, который, кроме городского асфальта, в жизни ничего не видел. Поэтому проглотит любую небылицу, открыв в изумлении рот и выпучив от ужаса глаза. Но на эту стройную версию никак не ложились многочисленные автомобильные останки, которые слишком часто попадались на глаза то на склонах, ведущих от дороги к реке, то в камнях на берегу. Иногда это были покореженные кузова грузовиков целиком, а чаще – ржавые кабины, бамперы, автомобильные мосты и прочие более мелкие детали. Попадались участки, где на километр дороги можно было насчитать три-пять таких запчастей. Бьются? Сомнений в этом не было. Непонятно было – почему бьются так часто?
А тем временем горы слегка расступились, обнаружив небольшой кусок плоскогорья с одиноким и довольно ладным для этих мест домом, стоящим немного в стороне от дороги. Одиноким, если не считать баньки и покосившегося сарая размером не меньше дома. Да собачьей будки, почти упиравшейся в почерневшее от времени крыльцо. Собаки видно не было.
Ни забора, ни палисадника или огородов рядом с домом не наблюдалось. Лишь две невысокие, уже подсыхающие лиственницы жались друг к другу сразу за собачьей будкой. Машины подрулили ближе к крыльцу по укатанной до грунта чахлой желтоватой траве и заглушили двигатели. Водитель повернулся к Павлу.
– Приехали. Вылезай. Обедать будем, – после чего вышел из машины, хлопнул дверцей и направился к дому.
На крыльце их уже встречали. Дородная женщина средних лет в телогрейке поверх застиранного платья и стоптанных мужских ботинках без шнурков приветливо улыбалась, вытирая чем-то испачканные руки о неожиданно яркий цветной фартук, который несколько инородно торчал из-под телогрейки.
Из остальных машин тоже вылезли и водители, и туристы. Водители, захватив с собой одну на всех объемистую сумку, прошли в дом, а туристы, не получив приглашения, начали разминать конечности, затекшие за последние часы.
– Как думаешь, на ночь? – Павел подошел к Игорю, с которым они уже во второй раз делили руководство походом.
– Скорее всего, на ночь. Темнеет. Нам по такой дороге еще часа четыре. Не меньше. Вряд ли ночью поедем. И так вся дорога в металлоломе. Видел?
– Да, видел. Правда, не понял – с какого перепугу? – Павел оглянулся в сторону, откуда они только что подъехали, будто пытаясь там разглядеть ответ на вопрос, который, похоже, пришел в голову не только ему.
– Ребята, заходите! Что вы во дворе топчетесь? Сейчас есть будем, – приоткрыв дверь дома, крикнула хозяйка.
Парни прошли внутрь и оказались в большой комнате с двумя подслеповатыми, давно не мытыми оконцами. Водители уже выкладывали свои нехитрые бутерброды вперемежку с огурцами-помидорами на большой крепкий стол, сделанный из плохо оструганных некрашеных досок. В центре стола обосновалась полулитровая бутылка водки. Павел с Игорем переглянусь. Стало ясно, что предстоит не только обед, но и ночевка.
– Мужики! У кого фляга недалеко? И жратву тащите. Ночуем. Жень, вроде у тебя продукты на перекус? – повернулся Павел в сторону Евгения.
Шмат сала и пара помидоров еще из дома, пирожки и вареная курица из железнодорожного буфета, а также полфляги спирта – все это счастье было у самого хозяйственного из группы, у Жени. Так что ему и пришлось идти лезть в кузов и распаковывать рюкзак.
– А ты куда? – в дверях Женька почти столкнулся с хозяйкой, входящей в комнату с дымящейся кастрюлей в руках. – Я вам сейчас щец налью.
– Вернусь. Я недолго, – ответил Женька, скрываясь за щелястой дверью, сделанной из таких же досок, что и стол.
Обед продолжался часа полтора. Выпили за дорогу, за реку. Немного поговорили на тему «Ну как там в Москве?». Потом водители почти одновременно стали вылезать из-за стола.
Тот, который ехал с Павлом, скомандовал:
– Собирайтесь! Поехали.
Ребята недоуменно переглянулись. Олег, не вынимая изо рта только начатую куриную ножку, поинтересовался:
– Так выпили же. Мы думали, на ночь остаемся.
– Хотите – оставайтесь! А мы поедем, – водители невозмутимо продолжали собирать остатки своей еды со стола.
Оставаться не хотелось. Дело в том, что договориться о заброске не удавалось очень долго. Полдня прошли в тщетных попытках. Группе из пяти человек с багажом нужно было оказаться в верховьях реки Чуя в Горном Алтае недалеко от границы с Монголией. А это километров четыреста.
Там планировалось начать сплав по реке. Багаж, помимо личных вещей и продуктов в рюкзаках, включал в себя еще и два разборных судна, предназначенных для сплава по горным рекам. Близость границы к началу маршрута и создавала дополнительные трудности. В основном машины шли с грузом в Монголию. И водителей строго наказывали за несанкционированных пассажиров. Во всяком случае, совсем недавно прошел очередной рейд по поиску тех, кто пытался подзаработать, подбирая попутчиков по трассе маршрута. Причем наказывали не только шофера-нарушителя, но и руководство фирмы, к которой была приписана машина. В конце концов договорились, что ребята будут оформлены сопровождающими грузов. И теперь остаться на полпути в подвешенном состоянии – это точно не было пределом мечтаний.
Когда в прошлый раз на Алтае Павел с друзьями добирались до Телецкого озера, они залезли вместе с рюкзаками в автолавку, перевозящую ящики с вином. Тогда водитель был хорош настолько, что, когда ребята открыли дверцу машины, собираясь договориться о поездке, тот выпал им на руки из кабины. А по дороге они купали его в холодной воде горной реки Бии. Возникли опасения, что иначе до озера не доехать. Тогда все кончилось благополучно, если не считать, что водитель где-то потерял все документы. И свои, и на машину.
Теперь ситуация в плане спиртного была, конечно, полегче. Но на дворе стояла ночь.
Игорь подошел к Павлу:
– Надо ехать! Застрянем надолго.
Паша кивнул:
– Да, понятно. С вариантами у нас негусто.
Ехали практически до рассвета. И, надо отдать должное шоферам, спокойно и аккуратно.
Павлу не спалось. И даже не потому, что машину сильно трясло. Хотя и это тоже было. Просто стало понятно, почему так много аварий на трассе.
Павел немного знал об истории этой дороги. В девятнадцатом веке и раньше это была вьючная тропа. Купцы везли металлическую посуду, топоры, пилы, а также галантерею и многое другое в Монголию и дальше в Китай. Обратно гнали скот из Монголии, везли чай и ткани из Китая. К началу двадцатого века в строительство дороги вложились частично государство, а частично купцы. И в течение некоторого времени по Чуйскому тракту хоть и с трудом, но можно было проехать на телегах и повозках. Однако дорогу, особенно в горах, надо поддерживать в рабочем состоянии. Иначе – где-то размыло, где-то засыпало, а где-то и обвалилось. Но денег на это не нашли. И буквально за несколько лет дорога опять вернулась в состояние вьючной тропы.
Второе рождение дорога получила уже при советской власти в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Чуйский тракт стал автомобильным. Правда, в горной своей части был он местами совсем узким и изобиловал многочисленными колдобинами и выбоинами. А потому, особенно в зимнее время, представлял реальную опасность. Даже песня есть о чуйском шофере Кольке Снегиреве, который не удержал на повороте свой АМО2, улетел в пропасть и погиб в бурных водах Чуи. Эта песня была своеобразным гимном алтайских водителей.
Потом качество дороги постоянно улучшали. На дворе стояло самое начало восьмидесятых, и дорога стала вполне приемлемой, но страх и гимн остались. Чтобы было не так страшно, пили. А выпив – бились. Тогда становилось еще страшнее. Замкнутый круг.
А может, это Павел себе такой круг нафантазировал? Может, и так! Да только поддатые водители за баранкой и ржавые кузова вдоль реки – совсем не плод фантазии.
Первый сон Паши
Дальняя дорога. Бессонная ночь. Поэтому, добравшись до воды, сильно напрягаться не стали. Поставили лагерь, приготовили еду и немного прогулялись по окрестностям, присматриваясь к реке.
И по палаткам. Завтра начинается работа!
Павел отключился быстро, чтобы не сказать мгновенно. И тут же оказался далеко от Алтайских гор.
Грузовик с низкими деревянными бортами, которые шатаются так, что, кажется, вот-вот отвалятся под собственным весом, медленно ползет по горной дороге, забираясь все выше, все ближе к ярко-синему безоблачному небу. В кузове человек пятнадцать мужчин, одетых кто в когда-то яркие и разноцветные, а теперь сильно выцветшие на солнце халаты, кто в потертые пиджаки и потерявшие форму и цвет брюки. Головы прикрыты. Тут и видавшие виды тюбетейки, и ушанки, а чаще явно самодельные неопределимой формы шапки из овчины мехом внутрь. По обветренным загорелым лицам распознать возраст тяжело, но совсем юных и сильно пожилых нет. Многие из них что-то достают из спичечных коробков и постоянно жуют, периодически сплевывая вязкой грязно-зеленой нитью за борт машины.
Вокруг строгие памирские пейзажи. Дорога узкая, и грузовик то шаркает бортом о скалы вдоль дороги, то заезжает задним колесом на самый край обрыва, а иногда и слегка вывешивается над пропастью. Так, что камешки из-под колеса соскальзывают вниз и теряются в бездонной глубине ущелья.
Паша сидит у самого борта. Того борта, что над обрывом, и смотрит вниз, провожая взглядом летящие камешки. Там, где уклон значительный, останавливаться нельзя. Покрышки, на которых невозможно найти даже остатков протектора, не держат дорогу, и машина начинает медленно сползать вниз по неровной пыльной поверхности, выбитой в скальном грунте. А в ущелье на глубине пары сотен метров блестит водой неширокая бурная река. И туда очень не хочется.
В кузове Паша не один такой приблудный пассажир. Он вместе с другом. Они вдвоем отправились на разведку маршрута после двухдневного ожидания у дороги хоть какого-нибудь транспорта, чтобы заброситься вверх по реке. Не было вообще ничего. Эта машина – первая за два дня.
И только часть пути идет по нужному маршруту. Потом она уходит в сторону от реки по ущельям к высокогорным памирским кишлакам. А через пару дней машина должна пойти обратно. Других дорог здесь нет, поэтому разминуться с основной частью группы, оставшейся все так же ловить попутный транспорт у дороги, сложно. Кроме того, места в кузове для всей группы с их рюкзаками и катамаранами все равно не нашлось бы.
Другу лучше. Он сидит у другой стороны кузова. Ему обрыв не виден. У него иная задача: вовремя убирать руки, которыми он держится за борт, чтобы их не растерло по скале.
– Что это у тебя? – Павел повернул голову к соседу, парню примерно своего возраста, и показал на коробок, из которого сосед как раз доставал что-то липкое и темно-зеленое. Тот молча протянул Павлу открытую коробочку, приглашая к дегустации. Но Паша, уже сообразив, что это, скорее всего, насвай3, отрицательно покачал головой. Парень, не говоря ни слова, закрыл коробок и убрал его в карман штанов.
Машина все так же медленно, едва ли быстрее пешехода, доползает до небольшой горизонтальной площадки, где можно остановиться, не рискуя сползти по наклонной поверхности к обрыву. Мужчины выбираются из кузова и, расстелив на земле кто предварительно захваченные коврики, а кто, за неимением ковриков, – пиджаки, встают на них на колени и устраиваются на намаз. Из непримкнувших – только Паша с приятелем да водитель. Да и последний, после того как открыл капот машины, чтобы перегревшийся на подъеме двигатель быстрее охлаждался, присоединился к общей молитве.
Вскоре двинулись дальше. А через пару часов горы немного разошлись в стороны, обнажив небольшой кусок плоскогорья. Всю эту относительно ровную площадку занимал маленький памирский кишлак. Дорога упиралась в дувалы4 кишлака и заканчивалась. Дальше – только горы.
На звук работающего двигателя высыпало большинство населения кишлака, в основном женщины и дети. Женщины, встретив своих мужчин, исчезли в узких улочках. А дети, числом не меньше двадцати, выстроились в очередь здороваться за руку с приезжими. Первыми стояли самые взрослые из них. Лет по четырнадцать-пятнадцать – уже почти мужчины по местным меркам. А последними – самые маленькие, лет пяти, а то и меньше. Босые и голые загорелые карапузы тоже расположились друг за другом по росту, вытянув вперед ладошку и молча, солидно дожидаясь своей очереди.
Паша толкнул друга локтем:
– Смотри! Половина – белобрысые и с голубыми глазами. И физиономии будто из рязанской глубинки. Работа заезжего шофера, что ли? Но он тут что, весь кишлак обработал, что ли? Так его бы тут и похоронили. Хотя кто знает? Может, и похоронили?
Приятель задумчиво осмотрел всю очередь. Та терпеливо ждала, не понимая, о чем говорят эти приезжие дяди.
– Вряд ли шофер. Я что-то слышал про блондинистых таджиков. Вроде и в Афгане, и в Пакистане встречаются. Мигранты, они же всегда были. Только называлось это по-другому. Типа «Великое переселение народов».
Заезжие путники честно отработали весь этот почетный ритуал, с каждым пожатием наклоняясь все ниже и ниже. Последние приветствия они проводили уже сидя на корточках. Наконец все счастливые участники этого трогательного действа разбежались, оглашая окрестности радостными воплями. А по направлению к парням уже спускался пожилой аксакал, опираясь на суковатую палку. Подойдя ближе и тоже поздоровавшись за руку, он пригласил ребят за собой.
В горах к гостям относятся с большим уважением. Для них – все лучшее. Поэтому Паша с другом сидят в лучшем жилище кишлака на полу среди подушек и цветных ковриков, рядом с небольшим возвышением, покрытым видавшей виды, но хорошо отстиранной скатертью. Напротив гостей, также на подушках, расположились четверо мужчин из числа самых уважаемых жителей кишлака.
Хозяев интересует быт Москвы. Из них мало кто хотя бы раз в жизни добирался до крупных городов, не говоря уже о столицах. Беседа течет ровно, неторопливо. Знание русского у хозяев далеко от идеального, но достаточное, чтобы задавать несложные вопросы и понимать такие же простые ответы, подкрепляемые энергичной жестикуляцией и улыбками. Наверное, не все ответы воспринимаются правильно, но за вежливым киванием распознать это почти невозможно.
На шесть человек – три пиалы, куда периодически подливается зеленый некрепко заваренный чай, а сами пиалы ходят по кругу, передаваясь из рук в руки. Время от времени в дверном проеме возникает женский силуэт в ярком платье и косынке, закрывающей голову и большую часть лица, и ставит на циновку у входа очередное угощение. В основном это местные самодельные сладости, хотя есть и печенье с конфетами фабричного изготовления. Дальше проема, где, собственно, и двери-то никогда не было, а лишь висит застиранная занавеска на бечевке, женщины не проходят. Не положено!
Минут через тридцать после начала ритуала трое из четырех мужчин поднимаются, степенно прощаются и выходят. Остается лишь один – по-видимому, хозяин дома. А места ушедших тут же занимает новая группа мужчин – таких же вежливо любопытствующих и размеренных. Пиалы никуда не уносятся и не моются. Просто слегка ополаскиваются тем же чаем. А использованная жидкость выплескивается через дверной проем на улицу. Затем чайная церемония повторяется в обновленном составе.
К пятой смене состава гости кишлака стали пропускать свои очереди чая и наотрез отказываться от сладостей. У Паши возникли небеспочвенные опасения, что если он наклонится, то из ушей потечет чай, обильно сдобренный крошками восточных сладостей. Положение спасали подушки, которыми Павел обложился со всех сторон. Они не давали сильно наклониться. Пашин друг уже давно перестал жестикулировать, отвечая в пятый раз на одни и те же вопросы, а только улыбался уголками губ – на большее не было сил. А тут и гостеприимные хозяева наконец догадались, что гости больше не в состоянии поддерживать светскую беседу, и повели их устраиваться на ночь. Тем более что на дворе уже стемнело.
Просторная комната с земляным полом, где из мебели – только коврики на полу да большой ворох старых и, похоже, не очень чистых одеял. Впрочем, света нет, а фонари с собой ребята взять забыли. Так что степень чистоты одеял определить можно будет только утром. Но выбирать не из чего. А ночи в горах нежаркие.
Обычно в этой комнате спят женщины и дети. Но ради дорогих гостей женщин с детьми отправили ночевать под открытое небо на берег ручья, предварительно вручив несколько таких же ватных замызганных одеял.
– Паш, а может, мы пошли к ручью? У них же там дети года по три-четыре, – раздался из темноты голос приятеля.
– Давай предложим. Я только за, – отреагировал Павел.
Но хозяин дома, когда понял, чего от него хотят, лишь недоуменно пожал плечами:
– Идите спать. Одеял много. Холодно не будет.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Пришлось подчиниться.
Раздеваться не стали – что за одеяла? Сколько лет тут валяются? Непонятно.
Несмотря на усталость, быстро заснуть не удалось. У Павла возникло неприятное ощущение, что по нему кто-то ползает. Приятель тоже подозрительно крутился с боку на бок. Наконец Павел не выдержал:
– У тебя спички были. Посвети. Что-то ползает, сил нет.
С третьей спички разглядели. По одеялам в большом количестве сновали какие-то насекомые, похожие на клопов. А там кто их знает? В темноте не разобрать. Точно не тараканы! Мелковаты.
Приятели покидали одеяла в угол комнаты и снова улеглись на коврики. Стало прохладно, да и клопы хоть и отступили временно, но совсем покидать поле боя не собирались. Видно, от этих укусов Паша и проснулся. Было уже светло. Раннее алтайское утро. Солнце еще не выбралось из-за недалекого хребта и от реки тянуло холодком.
Река. Разминка
Сборка катамаранов для сплава много времени не заняла. Все было с собой. И надувные гондолы с надежной защитной обшивкой, и дюралевые трубы для рам катамаранов, и даже руки – основной инструмент. Точнее, катамаран был один. На нем в нарушение правил, а отчасти и здравого смысла должен был в одиночку сплавляться Игорь. Дело в том, что, как часто бывает со сложными походами, кто-то в последний момент отпал. И из экипажа катамарана остался только Игорь.
Грести одному на широком судне неудобно. Но у Игоря уже была подобная практика – правда, на реках попроще. Кроме того, ему, подполковнику армии тогда еще СССР, характера хватало, а желания давать задний ход не наблюдалось совсем. Поэтому после совещания с Павлом они решили, что на всем протяжении маршрута впереди будет идти тримаран Павла с экипажем из четырех человек. И после каждого сложного препятствия они будут страховать прохождение Игоря.
Обычно для спортивного сплава из-за лучшей управляемости выбирается катамаран. То есть две гондолы. Но после того, как на Тянь-Шане в мощную июльскую воду, когда реки вздуваются от таяния ледников, у группы Павла в пороге напрочь оторвало одну гондолу, он предпочитал страховаться. А потому ходили они на тримаране. Все-таки три гондолы – это больше, чем две.
Проблема с экипажем была не только у одиночки Игоря. Четверка на тримаране по опыту походов сильно недотягивала для рек такой сложности. Только у кэпа за плечами было несколько походов максимальной категории. Причем Павел бывал и участником, и руководителем.
Формально Женька тоже уже побывал в одном сложном походе. Но то был его первый поход. И он преимущественно или страховал с берега, или шел пассажиром между порогами. В качестве полноценной боевой единицы это был его первый опыт.
Олег бывал раньше в походах, но на цельнодеревянных ставных плотах – совсем другая тема. Да и реки не в пример проще. Надувную конструкцию он осваивал впервые. На тяжелом деревянном плоту главное – заранее выбрать правильную траекторию движения и потом выдержать ее, немного подрабатывая вправо-влево. Резко сместиться не получится – слишком тяжелая конструкция и быстрая вода. А катамаран легкий. Быстро разгоняется, разворачивается, тормозится. И техника прохождения препятствий, и посадка гребца – все другое.
А Витька и в походах толком не бывал. Правда, крепкий, жилистый и вырос на Волге. Там часто ходил под мотором на рыбалку, да и весельную лодку чувствовал неплохо. Так что воду знал и любил. Но воду средней полосы. Когда Витька просился у Павла в поход с ними на Алтай и рассказывал немного о себе, привел аргумент, на который Паша не нашел что ответить: «Я на охоту на медведя ходил». Вроде к сплаву отношения не имеет, но характер демонстрирует! А это уже неплохо.
К вечеру на правом берегу реки Чуя недалеко от воды расположились базовый лагерь и два уже полностью собранных и накачанных судна. А с утра начались тренировки. Дело в том, что самый сложный участок реки, Мажойский каскад, начинался буквально в полутора километрах от лагеря.
Это двенадцать километров реки, зажатой в каньоне. Слева – горы. Справа – приподнятое над Чуей на несколько десятков метров плоскогорье. Препятствия идут в каньоне почти не прерываясь. И возможности как-то постепенно втянуться, сработаться там уже нет. А напротив лагеря – средний такой порог, где можно вспомнить навыки водного слалома, а кому-то и приобрести их.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
ЗиЛ-130 – советский среднетоннажный грузовой автомобиль.
2
АМО – первый советский грузовик.
3
Насвай – местный легкий наркотик. Смесь табака, гашеной извести, золы и бог весть чего еще, вплоть до куриного помета и сухофруктов для придания вкуса.
4
Дувал – глинобитный забор, переходящий в стену постройки и составляющий с ней одно целое. Окружает внутренний двор. Частично или целиком может быть выполнен из булыжника.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: