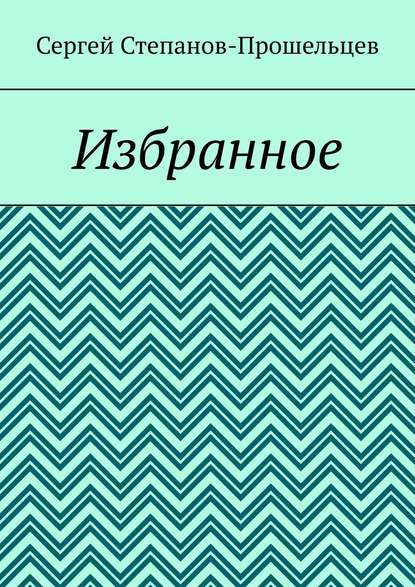По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
гармонию этих весенних созвучий.
Взлетают они лепестковою тенью,
по-детски доверчивы тихие трели.
Да здравствует это безумство круженья,
что мы у небесных светил подсмотрели!
Пусть вновь, как от бега, стесняет дыханье,
пусть будет черемуха в россыпи росной.
И тайна – глубокая, как мирозданье,
в глазах твоих, свет отражающих звёздный.
* * *
Сорок первый. Павлоград. Полымя, геенна.
То последний был парад трубачей военных.
Им велят шагать вперёд – пусть свои застрелят,
пусть угаснет этот род – красных менестрелей.
А они вовсю дудят, туба вопль исторгла,
оглашая этот ад музыкой восторга.
Вот уже оркестр полка в двух шагах от рая.
Кровь струится с мундштука, а кларнет играет.
Он играет как бы сам, сократив длинноты.
Как немой, он по губам прочитал все ноты.
Над землей застыл рассвет, немец чешет темя,
потому что в мире нет гениальней темы.
* * *
Я слышу звёздные лучи, когда весь мир окрашен хной.
Какая музыка звучит в осенней тишине ночной!
Как голос из иных миров, где не присутствует беда,
как будто звон колоколов, что очищает, как вода.
Благоухая, как сандал, она покинуть не спешит —
она со мною навсегда,
ведь это музыка души.
***
Был пианист уже изрядно лыс
и аскетичен, как индийский йог.
Он выходил бочком из-за кулис —
зал еле-еле сдерживал смешок.
И медленно мелодия плыла,
как облака: за слоем – новый слой,
прозрачна, удивительно-светла,
как сад, омытый солнечной водой.
И не было печалей и обид,
и пробирала, как в ознобе, дрожь.
…А фрак на нем рогожею висит.
Нисколько на артиста не похож.
* * *
Шаркал дождь. Было холодно, ветрено, хлипко,
но набрызгал юпитер светящихся струй,
и высокая девочка с тихой улыбкой
вдруг коснулась смычком расколдованных струн.
И не мог я понять: одурманили сны ли,
или что-то, что мне неизвестно пока?