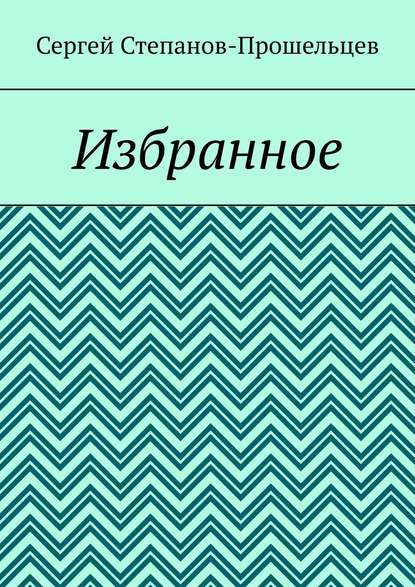По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
можно причудливо спрятать?
Ждут, не дождутся сексоты,
чтобы доносы состряпать.
Я фигурировал часто
в них, меня брали на мушку.
Кажется, было за счастье,
если тюрьма и психушка…
Годы промчались. Покоем
снова не пахнет, а сроком,
всё, как и раньше, такое,
не извлекли мы урока.
Вновь смотрит родственник волком,
вновь унитазы с глазами.
Как бы не сдать мне на двойку
этот повторный экзамен?
* * *
Я опять ни к чему ниоткуда приплыл.
Гауптвахта… Мне здесь не положен матрас.
Выводной, не томи, здесь звереют клопы,
я хочу подышать – ну, хотя б через раз.
Не осмыслят сие ни Платон, ни Декарт,
что отсюда транзит разве только в дисбат.
Это вроде купе, только это – плацкарт,
и страшнее чем это, быть может, лишь ад.
Вот и всё. Мне на жизни поставили крест,
и клопов легион наступает опять
к жениху, потерявшему столько невест,
что уже не способен за них воевать.
* * *
Не мог я совершить побег, не мог сбежать оттуда:
меня гноили на губе в числе гнилого люда.
Да, разношерстный тот народ был славой не увенчан:
кто пил, кто двинул в самоход, я был антисоветчик.
Я был заброшен натощак, как волк, в овечье стадо.
Я самовольно мыслил, как солдату и не надо.
Да много я встречал дерьма, так всё вокруг убого,
ведь наша армия — тюрьма, и разницы не много…
Я думал так, и в чем-то прав, наверно, был я вроде:
когда ты не имеешь прав, такие мысли бродят.
Когда не скрыться никуда от власти фанфаронов,
и попадаешь прямо в ад — во время фараонов…
Какой вираж, какой кульбит без пользы маломальской!
Но что-то там, внутри, свербит: ведь был тогда Даманский.
Один большой, сплошной бедлам, где не понять ни крошки,
и умирали парни там совсем не понарошке.
Увы, другого не дано, нельзя назад ни шагу…
Но как соединить в одно
и рабство, и отвагу?
* * *
Зачем всё это было? На что имелись виды?