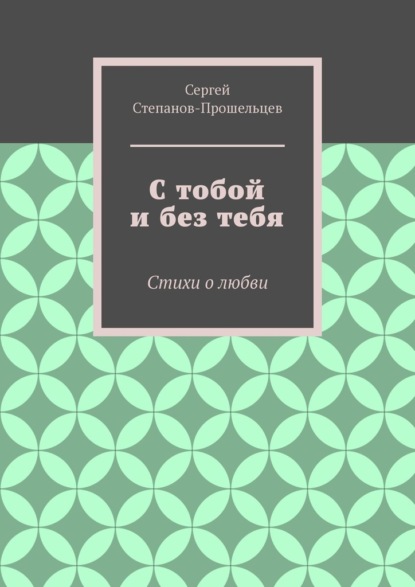По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С тобой и без тебя. Стихи о любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и осушила боль свою до дна,
до капельки последней, до конца.
Приеду я, пусть страх, как зверь, мохнат,
чтобы увидеть, убедиться смог,
что на закрытых ставенках окна
повис самоубийцею замок.
А где её могилка? Где ответ?
Увы, теперь и не узнаю я.
Кого спросить? Деревни больше нет.
Последним умер дедушка Илья.
* * *
Повстречаться снова нам
больше не обмаслится,
прошлое скрывается
в облачном дыму.
Ты была, наверное,
новичок-обманщица —
обманула первая
ты себя саму.
Что же ты наделала?
Поднимись по лестнице,
возвратись, пожалуйста,
в опустевший дом,
ведь такая, в сущности,
это околесица,
если то, что дорого,
мы не бережём.
Вновь тоска дорожная,
и мелькают станции,
степь – фанера серая,
речка у леска…
И наверно, в памяти
лишь она останется —
длинная, плацкартная,
смертная тоска…
А ещё – тяжёлая,
липкая бессонница,
та, что не уносится
вместе с ветром вдаль,
и в том скором поезде
почему-то вспомнится
глаз твоих полуночных
голубой февраль.
Но слепыми вьюгами
годы запорошены
и свою верёвочку
продолжают вить…
Отчего мы в старости
не прощаем прошлое?
Оттого, что прошлое
до капельки последней, до конца.
Приеду я, пусть страх, как зверь, мохнат,
чтобы увидеть, убедиться смог,
что на закрытых ставенках окна
повис самоубийцею замок.
А где её могилка? Где ответ?
Увы, теперь и не узнаю я.
Кого спросить? Деревни больше нет.
Последним умер дедушка Илья.
* * *
Повстречаться снова нам
больше не обмаслится,
прошлое скрывается
в облачном дыму.
Ты была, наверное,
новичок-обманщица —
обманула первая
ты себя саму.
Что же ты наделала?
Поднимись по лестнице,
возвратись, пожалуйста,
в опустевший дом,
ведь такая, в сущности,
это околесица,
если то, что дорого,
мы не бережём.
Вновь тоска дорожная,
и мелькают станции,
степь – фанера серая,
речка у леска…
И наверно, в памяти
лишь она останется —
длинная, плацкартная,
смертная тоска…
А ещё – тяжёлая,
липкая бессонница,
та, что не уносится
вместе с ветром вдаль,
и в том скором поезде
почему-то вспомнится
глаз твоих полуночных
голубой февраль.
Но слепыми вьюгами
годы запорошены
и свою верёвочку
продолжают вить…
Отчего мы в старости
не прощаем прошлое?
Оттого, что прошлое