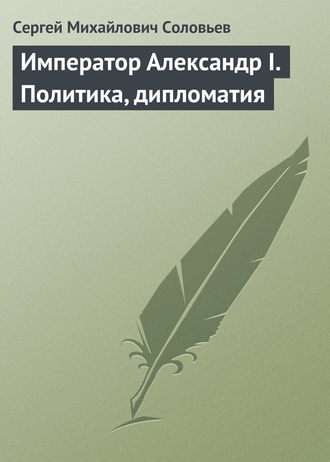
Император Александр I. Политика, дипломатия
Письмо старого короля к сыну, одобренное конгрессом, заключалось в следующем: «Государи решительно высказались против порядка вещей, который, по их мнению, нарушает спокойствие Италии; они даже определяли уничтожить его оружием, если увещательные средства не помогут. Если в Неаполе откажутся от него добровольно, то дальнейшие распоряжения будут сделаны при моем посредничестве; но и в этом случае дворы требуют ручательств, необходимых для безопасности соседних держав. Не стесняя свободы моих действий, союзники, однако, указали мне общую точку зрения, с какой они смотрят на систему, долженствующую сменить нынешний порядок вещей в Неаполе: они желают, чтобы я, окруженный самыми честными и самыми мудрыми людьми в королевстве, согласил постоянные интересы моего народа с сохранением общей безопасности». К этому письму, которое герцог Калабрийский должен был опубликовать, приложено было еще письмо конфиденциальное, в котором король объяснил, что должно разуметь под гарантиями, которых требовали союзники: должно было разуметь временное пребывание в Неаполитанском королевстве корпуса австрийских войск, которые, впрочем, будут находиться под начальством герцога Калабрийского. Против этого тщетно спорили французские уполномоченные: король Фердинанд и Руффо объявили, что они без австрийского войска ни под каким видом не возвратятся в Неаполь.
В ожидании ответа из Неаполя на королевское письмо австрийские войска перешли р. По 5 февраля и вступили в Папские владения, а конгресс занялся обсуждением вопроса о будущем устройстве Неаполитанского королевства, что подало повод к сильным спорам.
Меттерних хотел, чтобы король Фердинанд сделал в Лайбахе какое-нибудь решение, разумеется согласное с видами Австрии, и оставался ему верен в Неаполе. Представители Франции требовали, чтобы предоставить королю полную свободу решать дела в Неаполе: в Лайбахе, говорили они, в стране чужой, у него только один советник, князь Руффо, тогда как в Неаполе он будет окружен самыми сведущими людьми в целом королевстве. Меттерних выразился на этот счет очень откровенно: «Но если король по возвращении в Неаполь примет вашу хартию?» Блака отвечал ему с такой же откровенностью: «В этом случае мы будем поддерживать волю сицилийского величества». Каподистриа, как обыкновенно, был против Меттерниха. Когда он однажды произнес слово «конституция», Меттерних не вытерпел и сказал, что это слово не должно быть произносимо в конгрессе; Австрия не потерпит, чтобы в Неаполе была конституция. «Но если сам король ее даст?» – спросил Каподистриа. «В таком случае, – отвечал Меттерних, – мы объявим войну королю, чтоб заставить его отказаться от конституции, ибо для нас она всегда опасна, как бы ни явилась; и это решение не одной Австрии, но всех государей итальянских».
Впрочем, Меттерних видел, что надобно идти на сделку; он заявил Блака, что он вовсе не враг благоразумной свободы, понимает необходимость благоразумных реформ, и жаловался, что никак не может убедить Руффо в выгоде серьезного совещательного собрания. «Если он не образумится, – прибавил Меттерних, – то мы отошлем его в Вену и обделаем дело без него». 14-го февраля Руффо и Меттерних представили конференции два проекта, сходные в основе: Большой государственный совет для целого королевства; две консульты: одна – в Неаполе из 20 членов, для твердой земли, другая – в Палермо из 12 членов, для Сицилии, составленные из самых богатых собственников, подают свои голоса по всем вопросам администрации, по всем проектам, поступающим в Государственный совет, и специально рассматривают бюджеты для обеих частей монархии. В каждой провинции – Совет, члены которого избираются королем из знатнейших собственников; обязанность Совета состоит в разложении податей и в распоряжении другими предметами местного интереса; для той же цели муниципальные советы в каждой общине. По проекту Меттерниха, более либеральному, каждая консульта сама избирала своего президента; провинциальные советы имели участие в выборе членов консульты, которые отправляли свою должность в продолжение трех лет и не могли снова быть избраны.
Конференция поручила князю Руффо соединить общие черты обоих проектов в одну редакцию, предоставляя королю впоследствии определить подробности, 21-го февраля представители итальянских государств объявили, что основания, изложенные в проекте, могут содействовать утверждению спокойствия в Италии; но сардинский министр прибавил условие, чтобы совещательный корпус был организован в монархических формах; а министр моденский потребовал – избегать всякого вида соглашения с революционной партией. Уполномоченные России, Австрии и Пруссии изъявили желание, чтобы проект оказал благоприятное влияние на страну и был счастливо и совершенно приведен в исполнение. Французские министры, отказываясь выразить свое мнение, объявили, однако, что король их узнает с удовольствием о решении короля Неаполитанского – окружить себя самыми верными подданными для установления учреждений, которые должны обеспечить счастье его подданных и спокойствие Италии. Лорд Стюарт говорил в том же смысле. По этому смыслу выходило, что король Фердинанд окружит себя верными подданными, – это главное; но что выйдет вследствие такого окружения? Ла-Ферроннэ, обратившись к Меттерниху, спросил его: как смотреть на труд, представленный князем Руффо, – смотреть ли на него, как на простой проект, который король Фердинанд может впоследствии изменить, или это обязательство с его стороны. Меттерних смутился неожиданным вопросом и, помолчавши несколько времени, отвечал, что это – обязательство. «Значит, если король, возвратясь в свои владения, захотел бы изменить проект, то он не властен этого сделать?» – спросил опять Ла-Ферроннэ. «Конечно, – отвечал Меттерних. – Итальянские государства не могут смотреть иначе на дело, не могут потерпеть учреждений, несовместимых с их спокойствием». «Благодарю вас, князь, – сказал Ла-Ферроннэ, – мне это только и нужно было знать».
Две противоположные системы олицетворялись в это время в двух деятелях – Меттернихе и Каподистриа; конгресс представлялся боем между этими соперниками; могущественный русский государь стоял между бойцами, и на чью сторону он склонится, та и получит торжество. Держится русский император либерального направления – значит, влияние Каподистриа сильно; уклоняется от этого направления – значит, влияние Меттерниха усилилось, русский император находится в его руках. Так смотрели современники; так повторяется в сочинениях, описывающих эпоху конгрессов. Но мы не считаем согласным с исторической осторожностью и точностью представлять дело именно таким образом: мы не можем приписать Меттерниху такого сильного влияния на императора Александра, на перемену его образа мыслей; не можем допустить и резкости этой перемены. Не Меттерних, но революционные движения, обхватывавшие всю Европу, должны были производить сильное впечатление на императора Александра. Эти движения не могли заставить его переменить своего прежнего взгляда, но должны были, как обыкновенно бывает при столкновении известного взгляда с действительностью, повести к известным ограничениям, определениям, как, например: либеральные учреждения не должны быть добываемы революционным путем; не все народы в равной степени способны пользоваться одними и теми же учреждениями, при введении которых, следовательно, надобно наблюдать постепенность.
Эти определения, особенно второе, должны были очень нравиться, ибо успокаивали: основное направление оставалось нетронутым, только развивалось в подробностях, в приложении, согласно с событиями. Но Меттерних не мог приобретать влияния предложением таких успокоительных определений, ибо к ним можно было прийти, отправляясь от принципов, противоположных принципам австрийского министра. Поццо-ди-Борго мог утверждать, что итальянцы не способны к либеральным учреждениям, и производить своими словами сильное впечатление, ибо отправлялся от мысли, что другие народы, более зрелые, способны к либеральным учреждениям, и император Александр, основываясь на словах Поццо, мог говорить французскому посланнику: «Что полезно вам, просвещенным французам, то вредно отсталым, невежественным итальянцам». Но Меттерних не мог отправляться от мысли, от которой отправлялся Поццо: его взгляд, его система были слишком хорошо известны; подчиняться влиянию Меттерниха могли только люди, или не имевшие собственных взглядов и убеждений, или издавна согласные с направлением австрийского канцлера и находившие в его системе и деятельности лучшее и полнейшее выражение своих убеждений; или, наконец, люди, из страха перед революционным движением круто повернувшие в противоположную сторону. Но император Александр не принадлежал ни к одному из этих разрядов людей; он не мог разорвать со своим прошедшим; он мог, в силу обстоятельств, из слов Поццо вывести известное ограничение или определение для своего взгляда, ибо этот взгляд был у него одинаков с Поццо, но не мог подчиниться влиянию Меттерниха, которого основной взгляд был совершенно иной и который с Венского конгресса не пользовался расположением русского императора. Вся сила, все значение Меттерниха основывались на благоприятных для него, для его системы обстоятельствах, которыми он умел пользоваться; то, что должно было преимущественно приписать силе обстоятельств, приписали личной нравственной силе Меттерниха, тем более что он употреблял все усилия овладеть вниманием и волей русского государя. Но успех австрийского канцлера на конгрессе не был полон уже и потому, что он должен был входить в сделку с прямо противоположным направлением, как то видно из его проекта, несравненно более либерального, чем проект, составленный Руффо.
7-го февраля приехал в Неаполь курьер с письмом от короля Фердинанда к герцогу Калабрийскому: старый король писал, что государи приняли неизменное решение не признавать порядка вещей, созданного в Неаполе революцией, и в случае необходимости сокрушить его силой оружия, следовательно, неотлагательная покорность есть единственное средство предохранить королевство от бедствий войны. Затем Фердинанд давал знать сыну, что государи и в этом случае требуют некоторых гарантий; что же касается до будущего, то указывал на основания, находившиеся в проекте Меттерниха – Руффо. 9-го числа русский, австрийский и прусский посланники объявили регенту: что австрийская армия получила приказ выступить в поход; что она или займет королевство дружественным образом, или проникнет в него силой; что если австрийские войска будут отражены, то русские выступят вслед за ними; что союзные державы полагаются на благоразумие самого герцога, который сумел привести нацию к желаемому порядку вещей. Герцог отвечал, что если бы даже он имел в руках необходимую силу, то и тогда не употребил бы этой силы против нации, от которой никогда не отделится. 13-го числа лайбахские решения были объявлены парламенту; 15-го – парламент объявил их несовместными с достоинством, честью и независимостью неаполитанского народа. Герцог Калабрийский отвечал отцу, что он не может смотреть на его письмо как на свободное выражение его воли и что он решился разделить опасности и судьбу нации и пожертвовать своей жизнью и жизнью своего семейства для защиты прав, независимости и чести родной страны.
Посланники русский, австрийский и прусский выехали из Неаполя; поверенные в делах английский и французский остались. Нерешительные действия Франции, ее колебания между политикой континентальных великих держав и политикой Англии возбуждали неудовольствие императора Александра, который прямо высказал Ла-Ферроннэ, к чему повело такое поведение французского правительства: «Я не менее вашего огорчен в глубине сердца, что Неаполитанский вопрос не разрешился примирительным образом; но для этого было необходимо, чтоб верховное решение принадлежало России и Франции; Австрия и Пруссия всегда хотели войны. Так как Австрия в этом деле, естественно, призвана к главной роли, то я не мог отделиться от нее иначе как разрушивши великий союз, что повело бы к переворотам в Италии, быть может, и в Германии, и я счел своей обязанностью скорее пожертвовать своим личным взглядом, чем допустить до подобных явлений. Притом это верный способ по крайней мере на некоторое время сдержать революционеров и не дать свободы духу анархии и нечестия, представляемому тайными обществами, которые подрывают основания общественного порядка».
26-го февраля Лайбахский конгресс официально закрылся, причем положено было собраться на новый конгресс во Флоренции в сентябре будущего 1822 года. Неаполитанский король должен был отправиться во Флоренцию и там дожидаться, чем кончатся дела в его королевстве. Фердинанда должны были сопровождать дипломатические агенты со стороны великих держав. Австрийский агент получил от своего двора инструкцию не позволять удаляться от оснований, изложенных в проекте Меттерниха – Руффо. Со стороны России отправлялся Поццо-ди-Борго, которого инструкция предоставляла ему только право совета, причем он должен был обращать внимание на мнения короля и нации. Меттерних понапрасну старался заставить зачеркнуть последнее слово. Прусский уполномоченный Бернсторф сказал по этому случаю: «Мы было думали, что император обяжет короля Фердинанда употребить несколько примеров строгости». «Значит, вы ошибаетесь относительно намерений императора, – отвечал Каподистриа. – Совет его величества королю Фердинанду может состоять только в том, чтоб оказывать наибольшую умеренность».
Несмотря на официальное закрытие конгресса, оба императора и министры разных дворов оставались в Лайбахе, дожидаясь успокоительных известий из Неаполя; но пришли тревожные вести из Северной Италии: в Пьемонте вспыхнула революция.
Давно уже политическая жизнь, иссякшая в других частях Италии, сохранялась только в Пьемонте, в значении которого для раздробленной и бессильной Италии нельзя не заметить сходства со значением Пруссии для раздробленной и бессильной Германии. Находясь постоянно между двух огней, между двумя великими державами – Францией и Австрией, стремившимися утвердить свое влияние и владычество в Италии, слабые владельцы Пьемонта герцоги Савойские умели держаться ловкой и далеко не безупречной политики, сходной с политикой великого курфюрста Бранденбургского в борьбе между Швецией и Польшей. Менять по обстоятельствам союз с одной соперничествующей державой на союз с другой, выговаривая себе разные вознаграждения за эти союзы, – служило основанием пьемонтской политики. Как бранденбургские курфюрсты добились наконец королевского титула по освобождении из польского вассальства Пруссии, чем, по словам Фридриха II, заброшено было в гогенцоллернский дом семя честолюбия, которое рано или поздно должно было дать плод, так и герцоги Савойские добились королевского титула по островам, сначала Сицилии, потом Сардинии. И здесь этот титул был, как видно, семенем честолюбия. Сардинские короли начали также хлопотать об усилении себя, об округлении своих владений в Италии, причем не спускали глаз с Миланской области.
«Сын! – говаривал король Карл-Эммануил своему наследнику. – Миланская область – это артишок, который надобно кушать листик за листиком». Еще в 1733 году между парижским и туринским дворами был заключен договор, по которому австрийцы должны были быть изгнаны из Италии; Милан присоединяется к Пьемонту и составляет Ломбардское королевство; Мантуя также присоединяется к Пьемонту, зато Савойя уступается Франции. Бурные движения революционной Франции смыли с карты континентальной Европы Сардинское королевство; после падения Наполеона королевство было восстановлено с придатком Генуи; но правительство и народ восстановленного королевства вынесли из эпохи испытания непримиримую ненависть к Австрии, которая своим поведением во время очищения Италии Суворовым доказала всю свою враждебность к Пьемонту, а теперь, с 1814 года, Австрия пользовалась в Италии самым могущественным влиянием. Знаменитый савояр Жозеф де-Местр писал в 1804 году: «Пока жив, не перестану повторять, что Австрия есть естественный и вечный враг короля (сардинского). Чего хочет король? – утверждения своей власти в Северной Италии. Чего боится Австрия? – этого самого утверждения. Итак…» Это «итак» очень хорошо понимали в Пьемонте.
Теперь Австрия распоряжается в Италии, хочет ввести свои войска в Неаполь, уничтожить там новый порядок вещей. А этот порядок имеет в Пьемонте многочисленных приверженцев; адвокаты, купцы, литераторы, студенты недовольны восстановлением привилегий, вспоминают с сожалением о равенстве, которое было у них во время французского владычества; карбонаризм пустил корни и в Пьемонте; соседство волнующейся Франции, революции испанская, неаполитанская оказывали сильное влияние. Гостиная французского посланника герцога Дальберга была местом свидания недовольных, которые из слов посланника имели право заключить, что в случае восстания они будут поддержаны Францией, 11-го января произошла в Турине студенческая вспышка; солдаты усмирили студентов; но этим дело не кончилось, потому что обширный заговор зрел в войске и даже в высших слоях общества, где хотели французской партии. Молодой принц Кариньянский, глава младшей линии королевского дома и ближайший наследник престола после герцога Генуезского, брата королевского, не имевшего, так же как и король, сыновей, не был чужд замыслам заговорщиков; мы видели, что существовало особое тайное общество «адельфов», действовавшее в пользу либерального герцога Кариньянского.
10-го марта часть Алессандрийского гарнизона с несколькими сотнями патриотов, или так называемых итальянских федератов, провозгласили конституцию, овладели крепостью и учредили временную юнту; в тот же день революция вспыхнула в Пиньероли и на другой день – в самом Турине; здесь революционеры овладели крепостью при криках: «Да здравствует король! Да здравствует испанская конституция! Война австрийцам!» Скоро эти крики раздались по всему городу. Король Виктор-Эммануил, видя, с одной стороны, невозможность сладить с революцией, а с другой – не желая уступить ей, отрекся от престола; и так как брат его, герцог Генуезский, находился в это время у зятя своего, герцога Моденского, то регентом в Турине провозглашен был принц Кариньянский, который принужден был уступить требованиям народа и провозгласить испанскую конституцию. Сильное волнение обнаружилось и в Ломбардии, где также действовали карбонари.
Известия о событиях в Алессандрии и Турине произвели в Лайбахе такое же громовое впечатление, какое в 1815 г. было произведено в Вене известием о высадке Наполеона на берега Франции: смотрели друг на друга в немом ужасе. Боялись, что подобные же явления обнаружатся и в других частях полуострова; что народные массы, поддержанные войсками Неаполя и Сардинии, подавят ненавистную итальянцам австрийскую армию; опасались, что движение отзовется во Франции, в Германии, в Польше. Страх овладел Меттернихом, который вовсе не отличался твердостью духа в опасностях. Но как в 1815 году в Вене, так и теперь в Лайбахе император Александр положил конец этому всеобщему ужасу; он сказал императору Францу: «Мои войска в распоряжении вашего величества, если вы считаете их содействие полезным для себя». Австрийский император принял это предложение с благодарностью, и стотысячная русская армия получила приказ вступить в Галицию; прежде истечения двух месяцев она должна была явиться в Италии.
Сто тысяч русского войска! Да кроме этих ста тысяч русский император приказал готовить еще две другие армии! Значит, опять судьба Европы в руках русского государя, и, раз уничтоживши революционные движения своим войском, император Александр может распорядиться в Италии не так, как бы хотелось Австрии. Поццо-ди-Борго получил же инструкцию принимать в соображение мнение короля и нации! Меттерниху стало страшно; но когда австрийскому министру становилось страшно перед Россией, то он мог быть уверен, что найдет полное сочувствие в Англии. Сочувствие выразилось в том, что Меттерних и Гордон, оба ненавидевшие Францию, решились обратиться к этой державе, чтобы ее силами уравновесить силы России. Император Франц выразил Ла-Ферроннэ желание, чтобы Франция взялась потушить пьемонтскую революцию для отнятия у России предлога двигать свои войска. «Мы не можем, – говорил император, – действовать против Пьемонта, как действуем против Неаполя: австрийцы и пьемонтцы ненавидят друг друга; нас заподозрят в корыстных видах». Ла-Ферроннэ отвечал, что как в Неаполе, так и в Турине французское правительство не позволит себе вооруженного вмешательства и, сильно порицая возмущение пьемонтской армии, ограничится действием чисто нравственным. Делать нечего, надобно было ждать страшной русской помощи.
Но движение русских войск наводило страх не на одну Австрию и Англию; беспокойство овладело всей Европой: сомневались, чтобы такая огромная армия была нужна для потушения пьемонтской революции; подозревали, нет ли соглашения между неограниченными монархами уничтожить всюду либеральные учреждения и потушить самый очаг пожара – во Франции. Ла-Ферроннэ, отправляясь во Францию, счел своей обязанностью высказаться откровенно пред императором Александром насчет этих опасений. Император стал торопить его, чтобы поскорее ехал во Францию и старался там, с одной стороны, уничтожить ложные опасения, с другой – внушить своему кабинету более твердую политику. На прощании и император Франц старался разуверить Ла-Ферроннэ насчет враждебных намерений против французской конституции. «Признаюсь, – говорил Франц, – что я не люблю все эти новые конституции; но мне никогда не приходило в голову касаться существующих учреждений. И потом, относительно Франции, большая разница: эта страна так просвещенна!» Император Александр сказал ему, что скорее пожертвует половиной своей армии, чем допустит какое-нибудь государство посягнуть на территорию или на учреждения Франции. «Столкновение, – сказал он, – может произойти только от вас. Мои войска пойдут медленно, и если в Пьемонте все уладится, то они получат приказ тотчас же остановиться».
Случилось последнее. Неаполитанцы остались верны своей истории, верны преданию не биться с чужими войсками, которым зачем бы то ни было вздумается войти в их владения. Сначала, впрочем, можно было подумать, что неаполитанский характер изменился: 7 марта карбонарский генерал Пепе напал на австрийцев при Риэти; но, убив у неприятеля человек 60, неаполитанцы сочли это совершенно достаточным – и обратились в бегство. Другая неаполитанская армия, стоявшая при Гирильяно под начальством генерала Караскозы, услыхав о поражении Пепе, начала исчезать: волонтеры и старые солдаты толпами покидали знамена; не бежала одна гвардия королевская, но та стояла за короля Фердинанда, каким он был до революции. Герцог Калабрийский, приехавший было принять начальство над войском, счел за лучшее как можно скорее возвратиться в Неаполь. Австрийский генерал Фримон, как видно плохо знавший прежнюю неаполитанскую историю, растерялся при виде такого странного явления; сначала подумал было, что ему готовят западню, но скоро успокоился: дорога была совершенно чиста, никакой западни, никакого сопротивления. 12 марта собрался парламент и вотировал адрес королю Фердинанду: извиняясь в том, что было сделано до сих пор, парламент думал, что действовал согласно с королевским желанием. Парламент умолял Фердинанда явиться среди народа и высказать откровенно свои намерения, объявить как можно скорее улучшения, какие он признает нужными, но чтобы иностранцы, ультрамонтаны, не становились между народом и его главой. Король отвечал напоминанием о своем письме из Лайбаха: там сказано все, что нужно знать его подданным о его будущих намерениях. 24 марта австрийцы вступили в Неаполь при кликах народа: «Да здравствует король!»
Пьемонтская революция также скоро прекратилась; но при этом нельзя останавливаться на одном видимом сходстве явлений. В Пьемонте только половина войска была за революцию; в остальном народонаселении – меньше половины; между людьми, желавшими перемены, образовались две партии – умеренная и крайняя. Умеренная партия, сильная в Турине, имела вождя в принце Кариньянском и хотела конституции с прекращением революционного движения; крайняя партия, господствовавшая в Алессандрии, хотела соединения всей Италии в одно государство, требовала немедленного объявления войны Австрии и нападения на Ломбардию для отвлечения австрийских сил от Неаполя. Крайняя партия брала явный перевес; тогда принц Кариньянский, принужденный каждый день соглашаться на меры, которых не одобрял, тайно ночью (с 21 на 22 марта) выехал из Турина в Наварру, где сосредоточивалось верное прежнему порядку войско, и объявил, что отказывается от должности регента; многие из умеренных либералов последовали его примеру и отказались от своих должностей.
Таким образом, направление движения сосредоточилось в крайней партии, слабой отпадением умеренных и не пользовавшейся сочувствием большинства. Для низложения этой крайней партии не стоило двигать ста тысяч войска, и император Александр выразил желание, чтобы Пьемонт был успокоен увещательными средствами. Русский посланник в Турине граф Мочениго предложил революционному правительству свое посредничество; французский посланник пристал к нему. Граф Мочениго требовал, чтобы революционное правительство оказало безусловную покорность новому королю, и в таком случае не только австрийцы не вступят в Пьемонт, но будет дана полная амнистия и сделаны будут улучшения, административные реформы. Туринская юнта согласилась бы на это охотно; но алессандрийская объявила, что не откажется от испанской конституции, – и революционная армия приняла наступательное движение против роялистской, сосредоточенной, как мы видели, в Наварре под начальством графа Латура. Но в самом начале битвы австрийский корпус явился на помощь роялистам; продержавшись несколько часов против сильнейшего вдвое неприятеля, конституционисты должны были отступить, и отступление скоро превратилось в бегство. Революция была сломлена; члены временного правительства ночью бежали из Турина, и на другой день граф Латур, приближавшийся к столице, встретил депутацию, которая просила его вступить в город только с сардинскими войсками. Латур согласился и 10-го апреля занял Турин; герцог Генуезский принял корону под именем Карла-Феликса.

