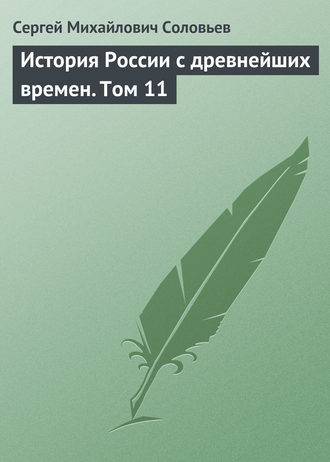
История России с древнейших времен. Том 11
Но в то время как раздоры между Самком, Золотаренком и Брюховецким волновали восточную сторону Днепра, на западной Юрий Хмельницкий собрался с силами и, подкрепленный поляками и татарами, начал наступательное движение. 12 июня козаки западной стороны с поляками и татарами, в числе 6000, напали внезапно на Самка, стоявшего табором в трех верстах от Переяславля; битва длилась с полудня до ночи, и Самко отбился. К нему на выручку прислал князь Волконский из Переяславля московских ратных людей, которые и дали ему возможность отступить в Переяславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко с Москвою и козаками вышел на вылазку и поразил неприятеля, который отступил к Каневу. Кременчукские козаки изменили, 23 июня впустили в город две тысячи козаков Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Ромодановский немедленно выслал к ним на помощь десять тысяч московского войска. 1 июля это войско подошло к Кременчуку и ударило на осаждавших; осажденные сделали с своей стороны вылазку, козаки потерпели совершенное поражение, и Кременчук был очищен от изменников. Ромодановский с главными силами своими и с Золотаренком вступил в Переяславль, соединился здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого, который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкассы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье переменилось: Хмельницкому с татарами удалось разбить под Бужином московский отряд, бывший под начальством стольника Приклонского, и прогнать его за Днепр (3 августа); по донесению Хмельницкого королю, 1 августа под Крыловом истреблено было больше 3000 царского войска; под Бужином погибло 10000, козаки и татары взяли семь царских пушек, множество знамен, барабанов и разных военных снарядов. После этого Ромодановский тотчас велел отступать, бросая тяжести; но султан Магмет-Гирей, переправившись с своими татарами через Сулу, настиг Ромодановского, разбил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Ромодановский ушел в Лубны. Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю, умоляет прислать поскорее помощь, жалуется на свое бессилие, на невозможность удерживать в повиновении украинский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал королю, что, приехав в стан Хмельницкого на Рассаве, он нашел здесь много беспорядков: сам гетман человек усердный, но войско непослушное. И Тетеря настаивал на том же, что необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельницкому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился к королю Грицка Лесницкий с просьбою от Хмельницкого, чтоб король позволил ему сложить гетманство, ибо он не в состоянии более нести эту трудную должность, будучи молод и разорен подарками, которые должен был давать татарам и которые простираются до миллиона. Лесницкий же привез страшную новость, что соперничество между Москвою и Польшею, соперничество, разорившее Украйну и не могущее окончиться по бессилию обеих держав, пролагает дорогу третьему сопернику: татары, говорил Лесницкий, уговаривают всю Украйну, чтоб она отторглась от республики и отдалась в покровительство хана и Порты, которые способны защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не может: поляки ссорятся между собою у себя дома, войско не слушается короля, и если бы не татары, то Польша давно бы уже погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли иметь сильное влияние на чернь. Тетеря доносил, что Войско не терпит Хмельницкого, требует его смены и что едва он, Тетеря, успел уговорить козаков успокоиться; для этого он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то этот богач наймет татар и опустошит Украйну. Мы не знаем, действительно ли Тетеря уговаривал козаков не сменять Хмельницкого; знаем только то, что последний в конце 1662 года сам отказался от гетманства и постригся в монахи, а Тетеря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан придет прежде польского войска, то Украйна распрощается с королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался от гетманства, что не мог получить от короля помощи, и он, Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же, а на Войско Запорожское надежда слаба, потому что в нем больше таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смятений.
В то время как западная сторона переменила гетмана, на восточной по-прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву. Самко бил челом, чтоб государь отставил его от старшинства, потому что нежинский полковник его слушаться не хочет и наносы на него наносит; жаловался, что в Малороссии трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий: последний самовольно прислал своих козаков в города и в полках берет стации; Самко просил уволить его от гетманства и дать оборонную грамоту, чтоб на него и на имение его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жаловался и на князя Ромодановского, просил, чтоб на его место был прислан другой боярин, потому что Ромодановский, не слушая его советов, тратит войско, слушается только Мефодия и Золотаренка, генеральной рады не собирает, отчего смута и своевольство, ибо он, Самко, как гетман несовершенный, распоряжаться не может. «Мефодий и Васюта, – продолжает Самко, – отговариваются от рады отсутствием запорожцев: но у нас всегда, по стародавным правам, гетманов выбирали в городах без запорожцев, потому что Войско Запорожское одно, выходящие из Запорожья должны по своим полкам расходиться. Теперь орда нас заперла и множество людей побила; а на Преображеньев день под самыми Лубнами татары, напавши на табор нежинский, многих побили, сам полковник, табор оставя, наперед ушел в Лубны. Все это приключилось оттого, что епископ и Васюта отвели князя Ромодановского от совета с нами, в поле, в безхлебие вывели; неопытные в делах войсковых, епископ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царского величества верный слуга, хотя и уничижен ими, загоны все из-за Днепра вывел и в Переяславль пришел в целости. Умоляю, милосердый государь, вели князю Ромодановскому или кому-нибудь другому собрать полки козацкие, чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не гинули, но при своих вольностях стояли бы за веру православную, а теперь и сами не знаем, за что погибаем?» Относительно Юрия Хмельницкого Самко извещал, что он посылал к нему каневского полковника Лизогуба уговаривать покориться государю; но Хмельницкий велел расстрелять посланного в Чигирине и с ним вместе многих других каневцев, черкасцев, корсунцев, которые начали было радеть государю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных поляков, «потому что мы, – писал он в Москву, – никакого добра от ляхов не ищем». Потом Хмельницкий дал знать Самку, что слагает с себя гетманство и идет в монахи.
Самко жаловался на Мефодия за то, что епископ этот вместе с Золотаренком советовали Ромодановскому медлить созванием рады; а Мефодий писал царю, что Самко не поехал на раду сам и другим запретил; полковники нежинский и черниговский отговорились дальностью пути и тревожным состоянием страны; иные полковники, боясь Самка и глядя на Золотаренка, не поехали. Брюховецкий писал, что Самко – изменник, потому что хулит московские серебряные копейки, велел спалить суда, которыми царь пожаловал Войско низовое, Кодак уступил татарам, Кременчук, сговорись с Хмельницким, сжег; верных государю людей отослал к Хмельницкому, который, по его письмам, переказнил их. А тут еще церковная усобица: митрополит Дионисий Балабан послал к константинопольскому патриарху с жалобою, что Мефодий изгнал его и силою похитил митрополичий престол посредством мирской власти. По просьбам Балабана и Хмельницкого патриарх выдал на Мефодия проклятие, которое Балабан переслал в Киев, отчего здесь произошло сильное волнение между духовными и мирскими людьми. Мефодий просил царя ходатайствовать у патриарха о снятии проклятия.
В таких смутах проходил 1662 год. Зимою нечего было думать о созвании рады, имевшей прекратить эти смуты, и потому 19 декабря отправлен был из Москвы в Малороссию стольник Ладыженский с объявлением, что весною должна быть непременно рада, на которую обязаны все явиться, а для прекращения неудовольствий на зиму Ладыженский должен был объявить Брюховецкому, стоявшему в Гадяче, чтоб он шел на зиму к себе в Запорожье, а весною приходил опять для рады. Это требование сильно не понравилось Брюховецкому; он отвечал Ладыженскому: «Не дождавшись государева указа и полной рады, в Запороги мне появиться нельзя, свои козаки меня убьют тотчас, зачем я столько людей водил и, не дождавшись рады, пришел. Самко заказ делает в городах крепкий, чтоб в Запорожье никто не ходил и запасов не пропускал; а если надо мною Самко или козаки что сделают, то Запорожье смятется и в городах будет замятия большая. По сношениям с Самком Юраска Хмельницкий многих за Днепром полковников и козаков казнил, которые великому государю добра хотели; а чернь вся и теперь хочет поддаться великому государю; когда выберется гетман всеми вольными голосами, пункты закрепятся и черным людям в поборах легче будет, то за Днепром, смотря на это, черные люди поддадутся великому государю». Ладыженский, по наказу, повторял царское требование; Брюховецкий расплакался: «Рад я государю служить и голову за него положить; но выгреб я с козаками в судах, у козаков лошадей нет, живучи здесь многое время, пропились все донага, зимою идти нельзя, тотчас меня убьют свои козаки; да и Самко великому государю не верен, на дороге меня убьет, как Выговский Барабаша, и если надо мною что случится, то, говорю тебе сущую правду, вся Украйна смутится и Запорожье отложится. Если государь весною полной рады учинить не велит, то я извещаю, что Самко поддастся королю: для этого Юраска Хмельницкий и гетманство сдал Павлу Тетере по родству. Чего прежде у нас никогда не бывало, нынче гетман, полковники и начальные люди все города, места и мельницы пустопорозжие разобрали по себе, всем владеют сами своим самовольством и черных людей отяготили поборами так, что в Цареграде и под бусурманами христианам такой тягости нет. Когда будет полная черная рада и пункты все закрепятся, то все эти доходы у гетмана, полковников и начальных людей отнимут, а станут эти доходы собирать в государеву казну государевым ратным людям на жалованье: поэтому-то наказный гетман и начальные люди полной черной рады и не хотят». 14 января 1663 года у Брюховецкого с его козаками был круг; в кругу козаки кричали, что они наги и бесконны и пешком им в Запорожье никак идти нельзя; а еще накануне, 13-го числа, Брюховецкий написал царю такую грамоту: «Мы, все Войско Запорожское, с великою охотою ради бы указ твой исполнить, но не можем, потому что время зимнее; теперь на зиму из Запорожья в города за хлебом приходят, а не из городов идут в Запорожье; притом же путь туда из Гадяча дальный, с полтораста миль; а за порогами никаких городов нет, ни сеют, ни орут, только отсюда из городов хлеб добывают, и то разве саблею. Умилосердись, государь праведный, не дай погибнуть головам нашим от безбожных изменников, изволь несколько полков ратных людей к нам прислать, а в городах позволь быть нам до полной рады».
В Гадяче Ладыженский нашел и епископа Мефодия, который был совершенно на стороне Брюховецкого и говорил московскому посланнику те же речи, что и тот, так же толковал об измене Самка; приехали полковники – полтавский, миргородский и зенковский – и подтвердили слова Брюховецкого и Мефодия. Ясных доказательств измены Самковой представить не могли и потому внушали, что Юрий Хмельницкий Самку племянник, а Самкова сестра за Павлом Тетерею, которому Хмельницкий сдал гетманство, и как только Самко сделается совершенным гетманом, то непременно изменит. Рассказывали, что Беневский с ханом все пункты положил и хан к королю приказывал, чтоб черкасам для прелести жаловал большие почести, хотя бы кого и в краковские воеводы пожаловал, только бы всех черкас обратил к себе; а когда все черкасы будут под властью короля, то он будет их мало-помалу сжимать и приведет их в свою волю; для этого он и прислал Павла Тетерю и велел ему принять гетманство у Юраски Хмельницкого. В Гадяче Ладыженский узнал, что Золотаренко сблизился с Самком и согласился на избрание его в гетманы; московского посланника известили, что Золотаренко все свое имение перевез из Путивля в Нежин. «По этому их верность знать можно, – толковали Ладыженскому, – пока Золотаренко с Самком не еднался, до тех пор государю и прямил, а теперь имение свое все из Путивля перевез, чтоб у него ничего в старых государевых городах не было». Мефодий говорил Ладыженскому: «Мне по государеву указу ехать в Киев нельзя, не смею, потому что Самко государю не прочит, хочет изменить, а меня велит погубить; государь бы пожаловал, до полной рады велел мне жить в Гадяче».
Когда Ладыженский приехал в Переяславль, то здесь Самко рассыпался перед ним в жалобах, что он служит верою и правдою, а государь его не жалует, гетманом после козелецкого избрания не утверждает. Ладыженский отвечал, что государь не утверждает его по розни полковников, которые не все в Козелецкой раде были, и хочет, чтоб его, Самка, выбрали полною радою, согласно с правами. Самко продолжал: «Если государь епископа Мефодия из Киева и изо всех черкасских городов вывести не велит, а быть ему на раде, то мы и на раду не пойдем; никогда и митрополиты на раду не езжали и в гетманы не выбирали; служить великому государю от таких баламутов нельзя, я гетманство с себя сдаю, выбирайте себе, черкасы, ласкового господаря. Государевы люди живут в Переяславле многое время, государево жалованье дают им деньгами медными, а у нас, в черкасских городах, деньгами медными не торгуют; от этого ратные люди оскудели вконец и начали воровать беспрестанно, многих людей без животов сделали, жить с ними вместе нельзя». Ладыженский упомянул о царской милости к нему. Самку; тот отвечал: «Посланники, приезжая из Москвы, всегда мне государские милости сказывают, а не только что государева жалованья не могу дождаться и своих денег, которые дал взаймы воеводе Чаадаеву на жалованье государевым ратным людям 4000 рублей». Ладыженский отвечал, что деньги не привезены потому, что дороги небезопасны. Потом Самко обратился к Брюховецкому: «Зачем Брюховецкий называется гетманом? В Запорожье бывают только кошевые атаманы; Брюховецкому верить нельзя, потому что он полулях; был ляхом, да крестился, а в войске не служивал и козаком не бывал, служил он у Богдана Хмельницкого, и приказано ему было во дворе, а на войну Богдан его с собою никогда не брал. Козаки порознь по своим лейстрам (реестрам) переписаны, а мужики себе переписаны будут; леестровые козаки станут государю служить, а с мужиков станут собирать государеву казну и хлебные запасы; а теперь, в этой розни, у великого государя все пропадает, называются все козаками, на службу нейдут и государевой казны не платят; а как неприятели наступят, то козаки леестровые многие, не хотя государю служить, а мещане, не хотя податей давать, бегают в Запорожье, да только на себя рыбу ловят, а сказывают, будто против неприятеля ходили».
В то время как Ладыженский жил в Переяславле, приехал человек Самка, Жилка, посыланный к Тетере. Ладыженский зазвал Жилку к себе и расспрашивал, потчевал и дарил и вот что узнал: был он, Жилка, у гетмана Павла Тетери, а Юраска Хмельницкий при нем постригся, и жить ему в Чигирине в Новоскицком монастыре. Писал Самко к Тетере, чтоб им друг с другом жить мирно, а Тетеря писал, чтоб им соединиться и поддаться королю; но козаки говорят, чтоб сложиться с татарами; а татары говорят, что у турского они отягчены великою данью и им бы от турского отложиться да с черкасами жить заодно: Павел Тетеря на той стороне непрочный гетман, пойдет опять в Польшу к королю, потому что он секретарем у короля. Ладыженский после разговоров с Жилкою пошел к Самку и потребовал, чтоб он дал ему все письма, присланные Тетерею. Самко отвечал: «Теперь я начал пить, имею вольность, а какие у меня есть листы, все пошлю в Москву». Тетеря, давая знать королю о сношениях своих с Самкою, писал: «Пан Самченко склоняется отчасти к добру и, как я понял из его письма, прельстится еще больше, если ваша королевская милость уверите его и всех заднепровцев явным ручательством и другою особою привилегиею в том, что не будете мстить ни ему и никому из Заднепровского Войска и что наравне с нами даруете ему свободу и милость».
В Гадяче Ладыженскому говорили, что Золотаренко соединился с Самком, хочет его в гетманы; в Переяславле Самко утверждал, что в Нежине была рада, полковники и чернь выбрали его в совершенные гетманы и лист ему прислали, закрепя руками своими и печатями; а на весну по траве быть раде только затем, чтоб князю Ромодановскому отдать ему при полковниках и при всей черни пункты и привилеи. Но когда Ладыженский сказал об этом в Нежине Золотаренку, тот отвечал: «В Нежине у нас рада была нынче о том, чтоб государь пожаловал, велел до весны полную раду отсрочить, а до полной рады быть старому гетману, Самку, чтоб между нами розни не было; а на полной раде кого всею чернью выберут, тому и быть гетманом; в совершенные гетманы Самка не выбирали; это он затеял; он беспрестанно ссылался с Юраскою Хмельницким, а теперь ссылается с Тетерею, и верить ему нельзя».
И в грамоте к царю Самко повторил просьбу не допускать епископа Мефодия на раду; повторил и жалобу на воровство московских ратных людей, которые били, грабили переяславцев и называли их изменниками; Самко требовал смертной казни виновным и жаловался на переяславского воеводу князя Волконского, который воров не казнит, как будто сам с ними вместе ворует. Царь в марте месяце отправил в Переяславль стольника Петра Бунакова разыскать по жалобе наказного гетмана. Когда Бунаков явился к Самку и подал ему царскую грамоту, тот отвечал, что на царской милости челом бьет, но что розыску обидным делам сделать нельзя: ратные люди обижали персяславцев долгое время, так что иные обиженные побиты на боях, другие взяты в плен, иной челобитчик и есть, да ответчика нет, ответчик налицо, так челобитчика нет, и потому теперь от переяславских жителей на ратных людей челобитья не чаять; пусть великий государь пожалует, вперед своим ратным людям обижать переяславцев не велит. Бунаков жил в Переяславле с 29 мая по 28 июня, на съезжем дворе сидел каждый день, и во все это время только раз приведен был драгун, пойманный в краже, повинился, был бит кнутом на козле и в проводку и отдан на поруки. Бунаков призвал переяславских начальных людей и спросил их, будут ли наконец челобитные от переяславцев на московских ратных людей или нет? Те отвечали, что по прежним челобитным некоторые переяславцы учинили сделки с обидчиками; иные ратные люди в исках сидят в тюрьме и стоят на правеже; а вновь челобитий вскоре не чаять и ему, Бунакову, в Переяславле жить, надобно думать, незачем.
Между тем в апреле месяце Брюховецкий писал к князю Ромодановскому, что Самко с Тетерею тайно войну ведут против великого государя таким обычаем: Тетеря татар призывает, а Самко государевых бедных людей грабит и платеж вымышляет; теперь, говорят, по его же призыву три тысячи татар пошли к Путивлю, чтоб помешать раде. Но татары не помешали раде. Еще в марте государь отправил в Малороссию окольничего князя Данила Великого-Гагина объявить старшине, войску, мещанам и черни, чтоб они учинили черневую генеральную раду для выбора совершенного гетмана всеми вольными голосами, кто им будет люб, по их стародавным войсковым правам и по переяславским статьям. Под Нежином в июне месяце собралась эта рада: приехали епископ Мефодий, Самко, Брюховецкий, все полковники и вся старшина, было все войско и мещане. Брюховецкий и отсюда не замедлил отправить донос в Москву; 8 июня он писал царю: «По указу вашего пресветлого царского величества, благодетеля нашего милостивого, пришел я с войском на раду под Нежин и стою в Новых Млынах, потому что полковники и чернь просят, чтоб я сжидался с ними. А Васюта Золотаренко докладывался у окольничего князя Великого-Гагина, чтоб позволили ему с нами драться, потому что не любит правды, которую ему чернь хочет в глаза говорить и объявлять его измену, что он с Самком усоветовал отложиться от вашего царского величества, для чего и города все укрепили, и колокола на пушки перелили. Только их совет господь разорил счастьем вашего царского пресветлого величества, и если бы эти смутники на сей стороне Днепра чернь не обманывали, то и та сторона давно бы под вашею высокою рукою была; полковник Поволоцкий недавно побил всех ляхов и жидов, которые были в его полку; теперь он один так сделал, а если б не Самко с Васютою смущали здесь народ, то и все полковники за Днепром сделали бы то же, что Поволоцкий». Брюховецкий подписался: «Верный холоп и нижайшая подножка пресветлого престола».
Наконец судьба искателей гетманства решилась. 18 июня была знаменитая черная, или генеральная, рада, о которой так много толковали и переписывались. Не дали еще Гагину дочитать царского указа о гетманском избрании, как с одной стороны раздались крики: «Брюховецкого!», а с другой: «Самка!», но за криками следовала драка: запорожцы Брюховецкого кинулись на приверженцев Самка; бунчук наказного гетмана был сломан, он сам едва мог выдраться из толпы и скрыться в шатер царского воеводы; несколько человек было убито; победители запорожцы столкнули Гагина с его места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, однако, не дал Брюховецкому утверждения от имени царского: Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, приобретенное насилием, не есть законное, что ни он, ни Войско не признает его гетманом и что необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкого, провозгласили его гетманом и стали грабить возы своей старшины; единственною причиною такого отступничества малороссийский летописец полагает непостоянство своих соотечественников. После этого нового избрания, против которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал булаву Брюховецкому. Запорожцы праздновали свое торжество трехдневным убийством: гибли неприязненные Брюховецкому полковники, и их место заступали запорожцы. Новый гетман отправил в Москву благодарственное посольство и вместе с Мефодием по-прежнему твердил об измене Самка и Золотаренка; обвиненные отданы были на войсковой суд, по древнему обычаю казацкому; судьями были враги-победители, которые и приговорили побежденных к смертной казни; приговор был исполнен в Борзне 18 сентября в присутствии обозного Ивана Цесарского, киевского полковника Василия Дворецкого и прилуцкого Данилы Песоцкого. Вместе с Самком и Золотаренком казнены были: Афанасий Щуровский, Аникий Силич (полковник черниговский), Степан Шамрицкий, Павел Киндей, Ананка Семенов, Кирилл Ширяй. Десять человек: Семен Третьяк, Матьяш Панкеев, Дмитрий Черняевский, Самойла Савицкий, Михайла Вуяхеев, Фома Тризнич, Иван Воробей, Семен и Прокофий Кулженские, Левка Бут, лубенского Мгарского монастыря игумен Виктор были отвезены в оковах в Москву; отвезли их те же Цесарский и Дворецкий. Украйна волновалась. В Чернигове все начальные люди радели полякам, купцы и чернь тянули к Москве. Черниговский епископ Лазарь Баранович хвалился, что он удержал Новгород-Северский за Москвою. В Киеве воевода Чаадаев успел приобрести всеобщую любовь, но волновалось войско по причине медных денег: двадцать медных денег платили за одну серебряную.
Таким образом и прекращение распри между искателями гетманства не обещало продолжительного спокойствия в Малороссии; а между тем Польша оправилась, войско получило жалованье, Мы уже упоминали, что в Белоруссии и Литве война продолжалась очень неудачно для Москвы. Осенью 1661 года Хованский вместе с Ординым-Нащокиным потерпел новое поражение при Кушликах от литовского войска, бывшего под начальством Жеромского; из 20000 русских не более тысячи спаслось в Полоцк вместе с Хованским и раненым Нащокиным; Литва хвалилась, что потеряла только человек около 40 убитыми и взяла множество пленных, в том числе сына Хованского; девять пушек, знамена, образ богородицы, бывший с Нащокиным при Валиесаре и которым так дорожили и царь и воевода, достались победителям.
Потеряны были Гродно, Могилев, самая Вильна. В этой столице Литвы сидел воеводою стольник князь Данила Мышецкий только с 78 солдатами. Сам король осадил Вильну и отправил к Мышецкому литовского канцлера Паца и подканцлера Нарушевича с требованием сдачи, обещая для воеводы и всех ратных людей свободный выход к московским границам с казною и со всем имением. Мышецкий отвечал, что сдаст город, если король позволит ему распродать весь хлеб и соль и даст ему под его пожитки 300 подвод. Король не согласился на распродажу хлеба и соли и обещал дать воеводе только 30 подвод. Тогда Мышецкий объявил, что хотя все помрут, а города не сдадут. Король велел своему войску готовиться к приступу. Узнавши об этом от перебежчика, Мышецкий велел у себя в избе, в подполье, приготовить 10 бочек пороху и хотел, зазвавши к себе в избу всех солдат, как будто бы для совещания, запалить порох. Но солдаты проведали об этом умысле, схватили воеводу, сковали и выдали королю. Когда его привели к Яну-Казимиру, то он не поклонился: король, видя его гордость, не захотел с ним говорить сам, а выслал канцлера Паца спросить его, какого он хочет милосердия? «Никакого милосердия от короля не требую, а желаю себе казни», – отвечал Мышецкий. Его желание было исполнено; перед казнью читали сказку, что Мышецкого казнят не за то, что он был добрый кавалер и государю своему служил верно, города не сдал и мужественно защищался, но за то, что он был большой тиран, много людей невинно покарал и, на части рассекши, из пушек ими стрелял, иных на кол сажал, беременных женщин на крюках за ребра вешал, и они, вися на крюках, рождали младенцев. Перед смертию осужденный написал духовную, которую потом один монах доставил в Москву: «Память сыну моему, князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жене моей, княгине Анне Кирилловне: ведайте о мне, убогом: сидел в замке от польских людей в осаде без пяти недель полтора года, принимал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от пяти приступов, а людей с нами осталось от осадной болезни только 78 человек; грехов ради моих изменили семь человек: Ивашка Чешиха, Антошка Повар да Сенька подьячий – и польским людям обо всем дали знать. От этого стала в замке между полковниками и солдатами шаткость большая, стали мне говорить шумом, чтоб город сдать; я склонился на это их прошенье, выходил к польским людям на переговоры и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек разбито, позаделать; но пришли ко мне начальные люди и солдаты все гилем, взяли меня, связали, заковали в железа, рухлядь мою пограбили всю без остатка, впустили польских людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить меня смертию, а сами все, кроме пяти человек, приняли службу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертию». Приговор был исполнен поваром княжеским; тело казненного похоронено в Духовом монастыре. После в Вильне рассказывали, что многие люди видели, как обезглавленный воевода расхаживал около своей могилы.

