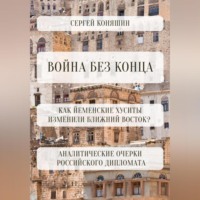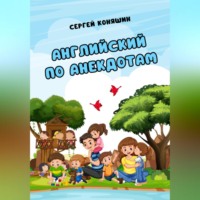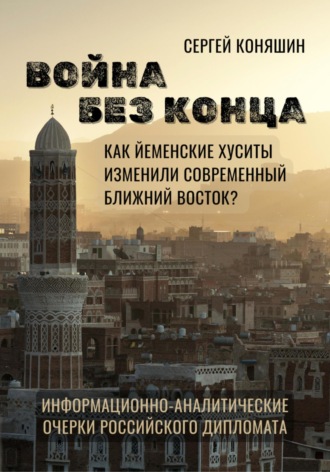
Война без конца: Как йеменские хуситы изменили современный Ближний Восток?
Даже созданный в апреле 2022 года Президентский руководящий совет не устранил внутренние трения среди анти-хуситских сил. Разные фракции – от исламистов до сторонников старого режима и южан – объединились лишь против хуситов и не имеют единого видения будущего страны. Как следствие, им сложно выступать консолидированным фронтом в переговорах, тогда как хуситы, сохраняя относительную сплочённость, пользуются выгодой от фрагментации своих оппонентов. Становится очевидным, что без формирования общего национального института власти, пользующегося поддержкой всех крупных общественных групп, выход из конфликта остаётся проблематичным.
§2.7. Раскол идентичностейПродолжительная гражданская война в Йемене обусловлена не только политическими факторами, но и глубоким кризисом национальной идентичности. Страна изначально была разделена по племенным, региональным и религиозным линиям, а нынешний конфликт лишь усилил эти различия.
Во-первых, бросается в глаза контраст между Севером и Югом. Несмотря на объединение 1990 года, Север и Юг не прошли полную интеграцию. После победы северян в войне 1994 года многие жители южных провинций чувствовали себя фактически «покорённой» территорией, где высокие посты занимали выходцы с Севера, а местные ресурсы и порты использовались в интересах центральной власти в Сане. Формировалось чувство обиды и особая южная идентичность, напоминающая период существования независимого Южного Йемена (НДРЙ). В ходе текущей войны южане, сплотившиеся вокруг Южного переходного совета, ещё больше укрепили эту идентичность: они не воспринимают единую республику как единственно возможный вариант и громко заявляют о праве на самоопределение.
Во-вторых, в Йемене обострились религиозные различия между зейдитами (форма шиитского ислама, преобладающая на Севере) и шафиитами (большинство из которых живёт на Юге и в прибрежных районах). Исторически эти конфессиональные общины сосуществовали относительно мирно, однако война придала их отношениям сектантскую окраску. Хуситы, будучи зейдитами, невольно придали конфликту религиозный подтекст, а их противники – в основном сунниты, поддерживаемые суннитской коалицией – стали рассматривать это противостояние через призму шиитско-суннитских противоречий. Саудовская пропаганда позиционировала хуситов как «иранских ставленников», подогревая религиозную мотивацию в борьбе с ними. С другой стороны, сами хуситы всё громче подчёркивают свою зейдитско-имамитскую идеологию, вводя в образовании и общественной жизни элементы прославления имамата и способствуя появлению эксклюзивной религиозно-политической идентичности. Такие меры укрепляют влияние «Ансар Аллах» на подконтрольных территориях, но одновременно отдаляют их от остального населения, усугубляя конфессиональный раскол и делая конфликт более затяжным и многогранным.
Противоположная тенденция складывается на юге, где, хоть южане и контролируют ситуацию, они пока не торопятся менять учебные программы или государственную символику, формально сохраняя общенациональные атрибуты. Однако культурное размежевание там всё же растёт: жители южных регионов ссылаются на опыт собственного светского социалистического прошлого, с тревогой наблюдая, как «север», управляемый хуситами, движется в сторону теократического уклада. Вполне возможно, что уже в следующем поколении сформируются две весьма различные системы ценностей – северная и южная, что ещё больше осложнит перспективы воссоединения страны.
В-третьих, в Йемене преобладает племенная и локальная лояльность над приверженностью абстрактному национальному государству. Многие жители сельских районов отождествляют себя прежде всего со своим племенем или небольшим районом, а не с Йеменом в целом. Племена исторически гордятся своей автономией и традициями самоуправления, поэтому любые правители в Сане были вынуждены договариваться с шейхами, либо «покупая» их поддержку, либо иным образом завоёвывая их лояльность. В ходе всех последних войн йеменские племена чаще выступали за защиту собственных земель и ресурсов, нежели за ту или иную политическую группировку.
Например, в 2011 году влиятельная конфедерация племён Хашед раскололась: часть поддержала революцию против Салеха, часть решила сохранять нейтралитет. С приходом хуситов в их районы одни племена сотрудничали с повстанцами, другие активно сопротивлялись. В таких обстоятельствах идеи единой национальной идентичности для многих остаются далёкой абстракцией: людям важно, кто обеспечит местную безопасность и экономическую выгоду, и не так принципиально, какую именно «большую цель» он декларирует.
Хуситы пытаются встроиться в эту систему, предлагая племенам те или иные льготы и поощряя межплеменные браки. Одновременно они жёстко подавляют любые очаги сопротивления, провоцируя рост кровной мести и круговой вражды. Похожими методами пользуется и «официальное правительство», раздавая племенным лидерам посты и награды, но возможности властей при этом ограничены их слабостью. В целом такая структура препятствует формированию в стране единого политического сообщества: множество полуавтономных объединений поддерживают друг с другом временные союзы, опираясь на сиюминутные интересы.
Различия религиозные, региональные, племенные и политические во многом лишают йеменцев общей национальной идентичности, которая могла бы стать базой для единения. Нет единого канона истории: для одних праздник – это годовщина революции в Северном Йемене 1962 года, для других – день объединения государства в 1990-м, а для третьих – ещё не свершившаяся дата восстановления независимого Юга. Нет и общих символов, принимаемых всеми: каждая сила насаждает собственный нарратив. Хуситы видят себя наследниками имамата и борцами против внешней агрессии; южане – прямыми потомками Южной республики; исламисты ставят на первый план противостояние «шиитской ереси».
В школах на подконтрольных разных группировкам территориях детям прививаются различные ценности и видение истории. Таким образом, молодёжь не формирует общенационального самосознания, а усваивает, скорее, идентичность «северян-хуситов», «южан-сепаратистов» и т. п. Если эта тенденция сохранится, то по завершении войны в стране может почти не остаться граждан с цельным ощущением общей национальной принадлежности, и это создаёт риск дальнейшего распада Йемена.
§2.8. Экономическая система войныЭкономический аспект конфликта в Йемене играет не меньшую роль, чем политическая, религиозная или племенная составляющие. Йемен всегда оставался беднейшей страной арабского мира, испытывая острую нехватку ресурсов и существенную отсталость инфраструктуры. Высокая безработица, массовая нищета и слабые перспективы улучшения жизни стали благодатной почвой для недовольства властью. Многие обездоленные граждане видели в восстаниях – будь то «кофейная революция» 2011 года или движение хуситов – возможность покончить с социальным гнётом. Бездействие правительства в вопросах элементарного благополучия населения (доступ к питьевой воде, продовольственная безопасность, медицина) подрывало его легитимность. Символичным примером стало решение властей незадолго до падения режима Хади (2014 год) убрать субсидии на топливо по настоянию международных институтов, без компенсирующих мер для бедных слоёв. В итоге такое нововведение лишь ускорило крах правительства.
Долгие годы экономика Йемена зависела от экспорта нефти. Однако объёмы её добычи всегда были скромными, а в 2000‑х начался спад. К началу войны казна страны оказалась на грани истощения: внешняя помощь иссякала, инвестиции отсутствовали. Это делало борьбу за контроль над ограниченными ресурсами особенно острой. Несправедливое распределение доходов между регионами только усиливало протестные настроения: и хуситы на севере, и южане жаловались на то, что центральная власть в Сане присваивает нефтяные доходы, не заботясь о развитии отдалённых провинций. К примеру, промышленность и сельское хозяйство на севере оставались в запустении, а доходы от нефти почти не реинвестировались. Юг также обвинял столицу в том, что вся прибыль от добычи в Маарибе или Шабве уходит «наверх», в то время как местные жители получают лишь разрушенную инфраструктуру и безработицу. Президент Хади, продвигая федерализацию, обещал решить эти перекосы, но многие аналитики считали, что его проект лишь увековечивал неравномерное распределение ресурсов официально.
С началом войны экономика страны практически рухнула. Блокада портов, разрушение инфраструктуры и резкое сокращение нефтяного экспорта привели к тому, что ВВП Йемена уменьшился более чем наполовину, а национальная валюта (риал) сильно обесценилась. Миллионы людей остались без средств к существованию, завися от гуманитарной помощи извне. Тем не менее, у некоторых участников конфликта возникли новые возможности для обогащения, что способствует затягиванию войны. Возникла своеобразная «военная экономика», в которой группы, контролирующие определённые территории, распоряжаются финансовыми потоками и незаконной торговлей, получая выгоду от продолжающейся нестабильности.
§2.9. Почему конфликт продолжается?Сочетание политических, социальных, конфессиональных и экономических факторов привело к тому, что кризис в Йемене остаётся крайне сложным для разрешения. Многоуровневая конкуренция разнородных группировок исключает простой двусторонний подход: если, к примеру, попытаться заключить сделку только между хуситами и «официальным» правительством, это сразу же вызывает недовольство других сил – южан, племён, исламистов или сторонников старого режима. Вместо реального решения проблема просто «переместится» в другую форму конфронтации.
Отсутствие общенационального консенсуса и единого видения будущего Йемена усугубляет ситуацию. Хуситы предполагают теократическую модель государства, южане требуют независимости или крайней автономии, суннитские силы опасаются шиитского доминирования, а племена стремятся к максимальной самостоятельности. Привести эти позиции к компромиссу почти невозможно, особенно в условиях глубокого недоверия, сформировавшегося за годы войны. Почти каждая крупная группировка на собственном опыте убедилась в ненадёжности обещаний и непредсказуемости союзников: южане ссылаются на обман после событий 1990 и 1994 годов, хуситы – на свое отстранение от процесса национального диалога и предательство со стороны Салеха, исламисты – на враждебность ОАЭ к партии «аль-Ислах». В подобных условиях продолжать боевые действия зачастую оказывается безопаснее, чем пойти на риск примирения.
Кроме того, у многих командиров и политиков нет реальных стимулов завершать войну. Они заняли определённые территории, распоряжаются финансовыми потоками и властью. Мир может означать для них потерю влияния в новом йеменском государстве. Хуситы, прочно обосновавшись в Сане, не согласятся разоружиться без надёжных гарантий своей роли в будущем правлении; южане не вернутся под контроль «севера» без жёстко закреплённого международным соглашением статуса автономии. Одновременно каждая сила рассчитывает, что время в итоге сыграет на её руку: хуситы уверены, что Саудовская Аравия рано или поздно устанет и фактически признает их власть, правительственные круги надеются на дипломатическое давление и нарастающую усталость повстанцев, а южане полагаются на поддержку Эмиратов и де-факто отделение от остальной страны.
В результате война стала затяжной «игрой на выдержку», в которой элиты выжидают, а основные тяготы и страдания ложатся на миллионы обычных йеменцев.
Внешние акторы также влияют на достижение компромисса. В последние годы Саудовская Аравия и Иран предприняли шаги к разрядке: их примирение в 2023 году дало надежду на снижение внешней напряжённости. Саудовцы даже вступили в прямые переговоры с хуситами в 2022–2023 годах, пытаясь заключить двусторонние соглашения о безопасности. Это привело к заметному снижению интенсивности боевых действий и к самому продолжительному за время войны перемирию (с апреля по октябрь 2022 года). Тем не менее стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, чтобы продлить режим прекращения огня, и полного политического урегулирования достичь не удалось. Однако даже эта короткая передышка продемонстрировала усталость всех участников от многолетнего конфликта и показала, что при более приемлемых перспективах они готовы идти к миру.
Проблема в том, что каждая сторона по-своему представляет себе «мир». Хуситы хотят признания своего доминирования на севере, значительной доли власти в национальных институтах и снятия экономической блокады. Правительство стремится к возврату хотя бы части контроля над страной и возвращению в Сану. Южане настаивают, чтобы их не заставляли оставаться в границах единого Йемена против их воли. Для простых граждан главным является прекращение бомбардировок и голода.
К началу 2025 года Йемен пребывает в состоянии «ни войны, ни мира»: масштабные наступательные операции прекратились, основные игроки контролируют каждую свою часть территории, однако финального мирного соглашения нет. Страна фактически поделена между разными администрациями. Переговоры в различных форматах продолжаются, но ощутимого прогресса пока нет.
Таким образом, конфликт в Йемене остаётся трудноразрешимым по совокупности причин. Его истоки – в исторических обидах хуситов и южан, провале переходного периода после 2011 года и неспособности местных элит адекватно реагировать на вызовы. Война внутри страны чрезвычайно фрагментирована: это не один, а несколько пересекающихся конфликтов, что мешает прийти к единому решению. Йеменское общество сильно расколото как в социальном, так и в конфессиональном плане, не имея общей национальной идентичности. При этом война разрушила экономику, но дала некоторым игрокам выгоду в виде «военной экономики», которую они не хотят терять. Все стороны понесли тяжёлые потери и ожесточены друг против друга. Каждый очередной раунд дипломатических усилий вынужден учитывать множество факторов, и даже спустя десять лет конфликт так и не исчерпан, подпитываемый накопленными противоречиями.
Чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, вероятно, необходим поэтапный процесс. В первую очередь – надёжное прекращение огня и устранение гуманитарной катастрофы, затем – непростые переговоры о федеративном или конфедеративном устройстве и гарантиях безопасности всем участникам. Потребуется также справедливое распределение ресурсов и длительная работа по восстановлению единого гражданского общества. Возвращение доверия и достижение национальной солидарности станут труднейшим испытанием. При этом международное сообщество и региональные державы могут помочь, но решающие шаги должны сделать сами йеменцы. Главное открытый вопрос – смогут ли они преодолеть прошлые обиды и прийти к новому общественному договору?
Пока же Йемен остаётся в состоянии разобщённости и разрухи, где каждая группировка опирается на оружие, опасаясь остаться в проигрыше. Это и есть причина, по которой мир в Йемене столь трудно достижим: нужно устранить коренные проблемы, такие как политическая замкнутость, социальная несправедливость, религиозный раскол и экономическая безысходность. Лишь в таком случае самый кровопролитный конфликт в арабском мире за минувшее десятилетие может завершиться.
Очерк 3. История происхождения движения «Ансар Аллах»
Движение хуситов возникло в 1990-х годах в северной части Йемена и стало отражением возрождающейся зейдитской общины. Его инициатором был зейдитский религиозный деятель Хусейн Бадр ад-Дин аль-Хуси из провинции Саада, который в 1993–1997 годах заседал в йеменском парламенте. Первоначально это была молодёжная религиозная организация «Верующая молодёжь», основанная примерно в 1992 году и занимавшаяся возрождением зейдитских традиций. Хусейн аль-Хуси вёл лекции и проповеди, а его сторонники создавали клубы при школах и устраивали летние лагеря, в которых к середине 1990-х годов обучились около 20 тысяч человек. Первоначальные идеи организации сводились к защите интересов зейдитского меньшинства и проповеди терпимости.
Постепенно Хусейн аль-Хуси стал открыто критиковать президента Али Абдаллу Салеха, упрекая его в коррупции и чрезмерной зависимости от США и Саудовской Аравии. После начала войны в Ираке в 2003 году он, под влиянием ливанской «Хезболлы», ввёл знаменитый лозунг протеста против американского и израильского «империализма», известный как «саркха»:
«Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа ислама!»
Власти Йемена настороженно восприняли эту радикальную антизападную риторику. Летом 2004 года, опасаясь распространения подобных взглядов, они попытались арестовать Хусейна аль-Хуси, что привело к вооружённому восстанию его последователей. В сентябре того же года Хусейн аль-Хуси погиб во время столкновений с правительственными силами, и руководство движением перешло к его младшему брату – Абд аль-Малику аль-Хуси, который возглавляет «Ансар Аллах» по сей день. В период 2004–2010 годов хуситы вели целую серию вооружённых столкновений с центральной властью (так называемые «войны в Сааде»), отражая при этом и вмешательство со стороны Саудовской Аравии.
Начиная с 2011 года, когда в Йемене вспыхнули народные волнения, хуситы воспользовались ослаблением правительства, заручившись поддержкой части племён и бывшего президента Али Абдаллы Салеха. В результате в сентябре 2014 года они заняли столицу Сану и к 2015 году установили контроль над большинством северных областей страны.
§3.1. Идеология хуситов и зейдизмИдеология хуситов сформировалась как ответ на социальное и религиозное давление, которому, по их мнению, подвергались зейдиты, а также на внешнее влияние, в частности со стороны США и Саудовской Аравии. С начала 1990-х годов их лидеры стремились возродить зейдизм и укрепить зейдитскую идентичность в противовес радикальным суннитским идеям, поддержанным королевством Саудовской Аравии. Постепенно к религиозно-культурной повестке добавился ярко выраженный антиимпериализм: хуситы обвиняли США и саудовскую монархию в том, что те поддерживают коррумпированный режим Али Абдаллы Салеха и вмешиваются во внутренние дела Йемена.
Символом радикализации движения стало принятие официального лозунга, направленного против США и Израиля, который хуситы объясняли стремлением защитить независимость страны и интересы обездоленных слоёв населения. Противостояние внешнему влиянию сблизило их с «осью сопротивления», включающей Иран и «Хезболлу», однако сами хуситы подчеркивают, что их цель – не служить чужим интересам, а обеспечить суверенитет Йемена. Соединение социальной риторики с призывами к сопротивлению «империализму» и внешнему диктату позволило хуситам расширить свою базу поддержки и позиционировать себя как движение, борющееся за равноправие зейдитского севера и за самоопределение всех йеменцев.
Зейдизм, лежащий в основе идей «Ансар Аллах», – это специфическая ветвь шиитского ислама, распространённая почти исключительно в Йемене. Зейдиты признают имамами лишь первых пять потомков имама Али (включая Зейда ибн Али, жившего в VIII веке), тогда как более распространённые шииты-двунадесятники почитают двенадцать имамов, но не признают Зейда.
В отличие от других шиитских течений, зейдиты не считают имамов непогрешимыми и не полагают, что имамат по божественному указу передаётся строго по одной линии наследования. С точки зрения зейдитов, любой достойный этого потомок рода Али может стать имамом, если возглавит вооружённую борьбу против несправедливого правителя. Таким образом, идеал сопротивления тирании стоит в центре учения, а исторически зейдитские имамы Йемена часто опирались на взаимодействие с суннитским большинством населения, демонстрируя более рационалистический и гибкий подход к религиозным вопросам.
Зейдитский мазхаб нередко характеризуют как «пятый» в исламе, подчёркивая близость к суннитским правовым школам. Зейдитские обряды и догматика, в отличие от двунадесятников, изначально не предполагали масштабного празднования шиитских дат вроде Гадир Хум или траура по имаму Хусейну (Ашура). Однако в XX веке, особенно после Исламской революции в Иране, под влиянием взаимодействия с Ираном и «Хезболлой» зейдиты стали перенимать некоторые практики двунадесятников. С 2010-х годов, при поддержке хуситов, в Йемене всё активнее отмечают Ашуру и день Гадир, хотя прежде эти даты праздновались менее публично.
Несмотря на контакты с иранским духовенством и Корпусом стражей исламской революции, хуситы продолжают подчёркивать свою особую зейдитскую традицию, отвергая обвинения в желании восстановить монархический имамат. Ссылаясь на труды Хусейна аль-Хуси, они говорят о «наставничестве» (аль-худа) – власти праведного потомка Пророка, действующего в интересах народа, – и настаивают, что это не равно возрождению феодальной династии.
§3.2. Организационная структура движения«Ансар Аллах» состоит из военного, племенного и политико-административного компонентов и за последние годы превратился в своеобразное параллельное государство на подконтрольных территориях, имея собственную армию, управленческие структуры и службу безопасности. Изначально хуситы были небольшой повстанческой группой, но к 2020-м годам у них сформировалась полноценная военная организация численностью в десятки тысяч человек: ополчение, профессиональные части, а также перебежавшие к ним подразделения бывшей йеменской армии, включая бронетехнику и ракетное вооружение. Общее руководство движением обеспечивает Абдул-Малик аль-Хуси и близкие ему командиры, тогда как повседневными боевыми действиями занимаются опытные полевые офицеры, многие из которых сражаются с 2004 года.
Решающим фактором в таком разнородном обществе, как Йемен, оказалось умение хуситов выстраивать отношения с племенами. Традиционная племенная структура на севере принадлежит крупным конфедерациям Хашед и Бакиль, чьи шейхи обладают значительной автономией. При правлении Али Абдаллы Салеха доминировал клан аль-Ахмар из Хашед, что вызывало недовольство у иных влиятельных родов. Подъём хуситов изменил эти расклады, и многие племена, изначально поддержав их по идеологическим или прагматичным причинам, фактически согласились на формулу «не противостоять “Ансар Аллах” – взамен на гарантии собственной автономии». Хуситы также используют традиционные механизмы переговоров и примирительных советов старейшин, что помогает им минимизировать вспышки внутреннего сопротивления.
Ошибки внешних сил, например неточные авиаудары коалиции, затронувшие нейтральные племена, иногда способствуют укреплению позиции хуситов: некоторые шейхи, оскорбленные такими ударами, выбирают союз с «Ансар Аллах». Тем не менее эти альянсы могут оказаться временными и вынужденными: если расстановка сил изменится, часть племенных групп (преследуя собственные выгоды) может отвернуться от хуситов.
§3.3. Политические и административные органыВо взятых под контроль районах хуситы сформировали собственные органы власти, тем самым фактически создав параллельное государство. В 2015 году, после отстранения президента Хади, они учредили Революционный комитет под руководством Мохаммеда Али аль-Хуси (двоюродный брат лидера движения), наделив его функциями временного правительства.
Позже для придания своей власти большей легитимности был учреждён Высший политический совет, в состав которого вошли представители «Ансар Аллах» и союзная им часть партии бывшего президента Салеха. Этот совет, возглавляемый в разные периоды разными фигурами из числа хуситов (например, Салех ас-Самад до 2018 года, затем Махди аль-Машат), выполняет роль верховного руководства на неподконтрольных правительству территориях. Ему подчиняется т.н. Правительство национального спасения (совет министров хуситов).
Помимо официальных структур, хуситы создали и неформальную «надстройку» власти для внедрения своей идеологии. В каждом министерстве, регионе и госучреждении действует специальный куратор (называемый «мушриф»), назначаемый напрямую Абдул-Маликом аль-Хуси. Официально такие кураторы борются с коррупцией и следят за эффективностью работы местных администраций, но фактически они обеспечивают политическую лояльность и выполнения указаний хуситского руководства. Эта система «супервизоров» зародилась ещё в 2011 году в Сааде, а после захвата Саны была распространена на всю территорию, подконтрольную движению.
Кроме того, хуситы учредили новые структуры, отражающие их приоритеты. В частности, был создан Всеобщий орган по делам закята и Управление вакфов – они централизуют сбор религиозных налогов и пожертвований, направляя полученные ресурсы на нужды движения. Для распределения иностранной гуманитарной помощи и регулирования деятельности НКО хуситы организовали Высший совет по управлению и координации гуманитарных дел, через который фактически контролируют поток международной поддержки.
Таким образом, «Ансар Аллах» объединил военные, племенные и административно-идеологические компоненты. Абдул-Малик аль-Хуси остаётся главным духовным и военным лидером, а разработанные подотчётные советы и комитеты управляют повседневной жизнью. В результате возникла параллельная вертикаль власти, где ключевые решения принимают доверенные лица, часто из числа родственников или земляков лидера.