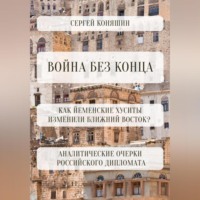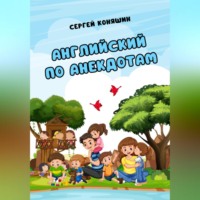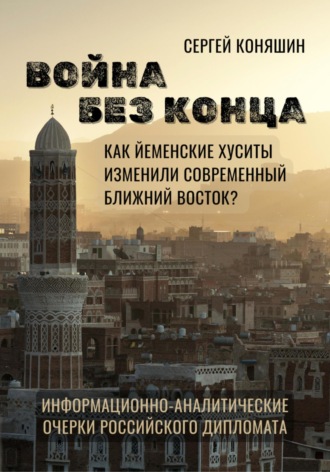
Война без конца: Как йеменские хуситы изменили современный Ближний Восток?
Саудовская Аравия и ОАЭ наиболее глубоко вовлечены в йеменский кризис, рассматривая его как прямую угрозу собственной безопасности. Саудовское королевство возглавляет коалицию арабских государств, которая с 2015 года воюет против хуситов. После атаки беспилотников в Абу-Даби в январе 2022 года, унесшей жизни нескольких человек, коалиция ответила авиаударами по столице Йемена Сане. Бригадный генерал Турки Аль-Малики, официальный представитель коалиционных сил, назвал действия хуситов «враждебными нападениями террористов», угрожающими не только региональной, но и мировой стабильности.
Сдерживание иранского влияния у своих границ стало ключевой мотивацией для Саудовской Аравии и ОАЭ. Усиление поддерживаемых Ираном хуситов они считают экзистенциальной угрозой – особенно на фоне шиитско-суннитских противоречий в регионе. Тем не менее, при всём объёме военных и финансовых ресурсов коалиции, ей не удалось нанести хуситам решающее поражение. А многочисленные нападения повстанцев на объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ демонстрируют уязвимость даже передовыми военными системами перед асимметричной тактикой. Со временем йеменский конфликт превратился в поле прокси-противостояния между Ираном и аравийскими монархиями, а также между разными глобальными блоками.
Ситуация ещё более осложнилась после ноября 2023 года, когда хуситы начали ракетные и беспилотные удары по судам, курсирующим через Красное море, предполагая, что они могут быть связаны с Израилем. Этот шаг расширил географию конфликта и привлёк к нему повышенное внимание мировой общественности в плане безопасности морских коммуникаций.
На практике йеменский кризис показывает, как внутреннее противостояние при вмешательстве внешних сил превращается в международную проблему. Иран, США, Саудовская Аравия и ОАЭ определяют динамику конфликта, часто ставя собственные геополитические цели выше интересов йеменского народа. Пока шансы на урегулирование остаются туманными: для достижения устойчивого мира необходимо согласовать позиции всех вовлечённых акторов, что крайне затруднительно ввиду нынешних противоречий. Отягощает ситуацию и тяжёлая гуманитарная обстановка, приносящая страдания миллионам мирных жителей.
Главный урок, который даёт йеменский конфликт, состоит в том, что решение современных региональных кризисов немыслимо без учёта влияния внешних игроков и без создания механизмов их координации. Лишь комплексный подход, сочетающий дипломатические усилия и надёжные меры безопасности, способен проложить путь к долгосрочной стабилизации в Йемене и во всём регионе.
Очерк 2. Причины конфликта и внутренняя динамика войны в Йемене
Гражданская война в Йемене, начавшаяся в начале 2010-х и к 2014 году переросшая в полномасштабный вооружённый конфликт, стала одним из самых затяжных и сложных кризисов современности. Страна фактически распалась на ряд территорий, контролируемых различными силами, имеющими мало общего друг с другом. Кроме того, война привела к катастрофическим гуманитарным последствиям: по данным ООН, к концу 2021 года число погибших (включая жертв голода и болезней) превысило 377 тысяч человек, причём свыше 70% из них были детьми. Чтобы понять, почему более десяти лет спустя конфликт всё ещё не урегулирован, необходимо изучить его истоки и внутреннюю динамику, включая политические, социальные, этноконфессиональные и экономические аспекты, заложившие основу для нынешнего противостояния.
Современное государство Йемен возникло в 1990 году в результате объединения Северного Йемена (Йеменской Арабской Республики) и Южного Йемена (Народной Демократической Республики Йемен), которые до этого имели разную историческую траекторию развития. Тем не менее, несмотря на формальное объединение, Йемен оставался расколотым по ряду признаков: региональному, племенному, конфессиональному и другим. Север длительное время сохранял сильную племенную структуру и зейдитскую религиозную традицию, тогда как южные районы пережили сначала британское колониальное правление, а затем – период существования светского социалистического государства.
Уже через четыре года после объединения (в 1994-м) на юге вспыхнул вооружённый мятеж за отделение, который был жёстко подавлен северными войсками. Однако стремление к автономии в южных провинциях никуда не исчезло и со временем возродилось в виде «Южного движения» (аль-Хирак) в 2007 году. Его сторонники протестовали против дискриминации и игнорирования интересов жителей юга центральным правительством. Параллельно на севере набирало силу другое движение – хуситы, представляющие часть зейдитского населения. Таким образом, к рубежу 2010-х Йемен оказался в состоянии углубляющихся внутренних противоречий, которые вскоре переросли в открытую конфронтацию.
§2.1. Исторические корни движения хуситовОдним из важнейших очагов будущего конфликта стало зейдитское движение хуситов на севере Йемена. Зейдиты (ветвь шиитского ислама) исторически проживали в горных районах Северного Йемена и вплоть до революции 1962 года доминировали в политической жизни через институт имамата. После установления республиканского режима их прежние привилегии заметно пошатнулись. К концу XX века у части северного населения накопилось чувство, что центральная власть в Сане пренебрегает регионом и его религиозно-культурными традициями. Именно на этой почве в 1990-е годы возникло движение «Ансар Аллах» под руководством семьи аль-Хуси, стремившееся защитить зейдитскую идентичность.
Хуситы выступали против «размывания» зейдизма, опасаясь усиления суннитского ислама и влияния Саудовской Аравии на севере. В определённый момент они заговорили о восстановлении отдельных элементов имамата, при котором потомки пророка (сэйиды) обладали бы политическим лидерством, как это было до 1962 года. Помимо религиозно-культурных факторов, хуситы имели и социально-экономические претензии к руководству страны. Провинция Саада – оплот движения – была одной из наиболее бедных и недоразвитых областей Йемена, страдавшей от нехватки инвестиций и инфраструктуры.
Раздражение вызывало также внешнеполитический курс президента Али Абдаллы Салеха, который активно сотрудничал с США и Саудовской Аравией, включая поддержку американской «войны с террором» и операции в Ираке. Лидер хуситов Хусейн аль-Хуси, возмущённый такими шагами, призывал к антиамериканским и антисаудовским лозунгам. В начале 2000-х в обиход движения вошёл ставший известным боевой девиз:
«Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа ислама!»
Открытое восстание 2004 года стало кульминацией накопленных противоречий. Поводом послужила попытка властей арестовать Хусейна аль-Хуси, который в итоге погиб в бою, но само движение лишь усилилось. С 2004 по 2010 год в северной провинции Саада произошло шесть серьёзных раундов столкновений между повстанцами-хуситами и войсками Салеха. Бои были ожесточёнными и приводили к тяжёлым потерям среди гражданского населения. Правительство не смогло подавить горное повстанческое движение, но и хуситам не удавалось выйти за пределы своего региона. Тем не менее они постепенно завоевали у части населения репутацию единственной силы, способной бросить вызов коррумпированному режиму Салеха.
К 2010 году хуситы и А. А. Салех заключили шаткое перемирие, однако ключевые проблемы противостояния никуда не исчезли. Движение «Ансар Аллах» сумело легализовать своё политическое крыло и стало расширять влияние за пределами Саады. Уже после 2014 года хуситы сыграют решающую роль в разрастании гражданской войны, однако переломным моментом для всей страны станет «Арабская весна» 2011 года, обнажившая глубокие кризисы йеменской политики.
§2.2. Арабская весна и «кофейная революция»Волнения 2011 года, охватившие арабский мир, затронули и Йемен. Подъём народного недовольства был вызван усталостью от более чем тридцатилетнего правления Али Абдуллы Салеха, коррупцией, кумовством, а также отсутствием реального развития. При этом специфической чертой йеменских событий стало то, что изначальный молодёжный протест вскоре оказался инструментом в руках различных элитных групп, уже давно искавших возможность сместить Салеха и перераспределить власть.
Под давлением массовых выступлений и внешних игроков (прежде всего Совета сотрудничества арабских государств Залива и США) Салех в ноябре 2011 года согласился покинуть пост. «Инициативное соглашение ССАГЗ» передавало власть вице-президенту Абд Раббо Мансуру Хади, гарантировавшему Салеху неприкосновенность. В феврале 2012 года Хади формально стал президентом переходного правительства с планом, предполагавшим к 2014 году выработку новой конституции и проведением реформ.
В 2013 году под эгидой ООН состоялся Национальный диалог (НДК), где 565 представителей главных политических и общественных сил, включая хуситов и «Южное движение», пытались найти модель нового государственного устройства. Однако долгие обсуждения не дали решающего результата: особенно остро встал вопрос федерализации. Южане добивались фактического возвращения к двум крупным субъектам (Север и Юг), а хуситы стремились получить гарантии политического представительства и ресурсов для северных регионов.
После завершения НДК в начале 2014 года президент Хади своим указом объявил о делении Йемена на шесть федеральных регионов: четыре на территории бывшего Северного Йемена и два – на территории бывшего Южного. Этот шаг сразу же встретил резкую критику хуситов и сепаратистов юга. Хуситы сочли такое деление ущемляющим их интересы: их родная провинция Саада не получала выхода к морю и оказывалась обделена нефтяными богатствами. Южане же выступали за разделение страны максимум на два субъекта в границах бывших независимых государств. Подобное нежелание учесть региональные особенности лишь усилило фрагментацию государства.
Слабость и непопулярность переходного правительства Хади усугубляли ситуацию. Летом 2014 года, выполняя требования МВФ, были отменены топливные субсидии, что вызвало резкий рост цен и новую волну недовольства. Хуситы, выступая «защищающей народ» силой, организовали массовые протесты с социально-экономическими требованиями, преодолевая рамки сугубо зейдитской повестки и пытаясь привлечь на свою сторону суннитское население Саны.
В итоге в сентябре 2014 года хуситы, опираясь на часть военных, связанных с бывшим президентом Салехом, перешли к силовым действиям и стремительно заняли столицу. Президент Хади оказался заблокирован в своей резиденции, а хуситы, объявив о «Мирном договоре и партнёрстве», фактически взяли в руки власть в Сане. Уже тогда возникло сомнение, что любое формальное соглашение будет соблюдаться, ведь хуситы продолжали укреплять позиции, а Хади стремительно терял остатки легитимности.
§2.3. Переворот хуситов и интервенция коалицииЗахват хуситами столицы Йемена, Саны, в сентябре 2014 года фактически ознаменовал государственный переворот, хотя формально Абд Раббо Мансур Хади всё ещё оставался президентом. В следующие месяцы хуситы систематически укрепляли контроль над госинститутами. В январе 2015 года они заняли президентский дворец, вынудив Хади и правительство подать в отставку. К февралю движение «Ансар Аллах» официально распустило парламент и объявило о создании собственного Революционного комитета, что положило конец действовавшему после ухода Али Абдаллы Салеха Правительству национального согласия.
Сам Салех, ранее непримиримый противник хуситов, стал их союзником. Его сторонники в армии и среди племён поддерживали хуситов в расширении подконтрольных территорий. Этот неожиданный альянс имел в основном тактический характер: Салех и его партия Всеобщий народный конгресс чувствовали себя отстранёнными при президенте Хади, а хуситам требовались военные кадры и племенная база для продвижения на юг. Объединившись, весной 2015 года силы хуситов и Салеха заняли большую часть страны, приблизившись вплотную к порту Аден на юге.
Наступление на Аден в марте 2015 года встревожило Саудовскую Аравию и ряд других стран: Эр-Рияд считал подъём шиитских хуситов на севере результатом иранского влияния и прямой угрозой у своих границ. Опасаясь повторения «ливанского сценария» (проиранской вооружённой группировки рядом), саудовцы решили силой восстановить статус-кво.
25 марта 2015 года, после бегства Хади из Адена и его официального запроса о помощи, Саудовская Аравия возглавила международную коалицию и начала военное вмешательство против хуситов. В коалицию вошли ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Египет, Марокко, Судан и другие, заручившись политической поддержкой США. Под названием «Буря решимости» начались массированные авиаудары по позициям повстанцев, причём декларированная цель заключалась в восстановлении «законной власти» Хади в Сане.
Таким образом, к середине 2015 года конфликт был интернационализирован, превратившись в региональную войну между Саудовской Аравией и её союзниками, с одной стороны, и хуситским движением, пользующимся поддержкой Ирана, – с другой. Однако эта внешняя интервенция не разрешила противостояния, а лишь усложнила его. Борьба за власть между внутрииеменскими силами переросла в геополитическое столкновение, которое часто рассматривают как прокси-войну между Саудовской Аравией и Ираном. В результате конфликт затянулся, ни одна из сторон не добилась решающей победы, и Йемен погрузился в долгую, изматывающую войну.
§2.4. Фрагментация войныНередко в описаниях конфликта в Йемене упоминают два противоборствующих лагеря – хуситов (со своими союзниками) и силы, лояльные президенту Хади (поддерживаемые коалицией). Однако на практике формируется куда более сложная мозаика, в которой помимо этих лагерей действует множество групп, каждая со своими целями и внутренними противоречиями. Гражданская война фактически раскололась на несколько параллельных конфликтов, а страна распалась на зоны контроля, управляемые различными вооружёнными формированиями. Это привело к феномену «войны всех против всех», где иногда враждующие силы заключают временные союзы, а локальные интересы превалируют над общенациональными.
Самую организованную силу на севере по-прежнему представляет движение хуситов «Ансар Аллах». Это гибридное военно-политическое объединение зейдитского происхождения, которое после 2014 года фактически управляет подконтрольной территорией. Хуситы удерживают Сану и значительную часть густонаселённых северо-западных областей, сформировав там квазигосударственные структуры вроде Революционного комитета, сменившегося затем Переходным политическим советом. К ним примкнула часть военных подразделений, оставшихся после режима Салеха, а также часть суннитов-северян, уставших от беспорядка и рассчитывающих на стабильность. Идеология хуситов сочетает зейдитский религиозный мессианизм, антиимпериалистические настроения и призывы к национальному сопротивлению «внешнему вмешательству». Иран обеспечивает хуситов военной и политической поддержкой, однако её масштаб является предметом споров, учитывая глубокие различия между иранским шиитским исламом и зейдитской традицией северного Йемена.
Международно признанное правительство Йемена в 2015 году лишилось контроля над большей частью страны и существовало фактически в изгнании в Саудовской Аравии. Формально во главе государства оставался Абд Раббо Мансур Хади, но его реальное влияние стремительно ослабло. Благодаря усилиям арабской коалиции в 2016–2017 годах были отбиты у хуситов южные и восточные провинции (включая Аден, Хадрамаут, Шабву и Маариб), где временной столицей объявили Аден. Однако «лагерь Хади» оказался внутренне неоднородным, состоя из остатков национальной армии, проправительственных племенных отрядов, исламистской партии «аль-Ислах» (связанной с «Братьями-мусульманами»), а также разных южных группировок, получавших поддержку от ОАЭ. С 2018 года политическая роль самого Хади ещё более ослабела, поскольку де-факто контроль на местах перешёл к полевым командирам и структурам, ориентирующимся на своих внешних союзников (Саудовскую Аравию или ОАЭ). В апреле 2022 года Хади по настоянию Эр-Рияда передал полномочия Президентскому руководящему совету, куда вошли восемь представителей основных анти-хуситских сил. Тем не менее, в самом этом совете отсутствует согласованное видение будущего страны, и его участники объединяются лишь общей враждой к движению «Ансар Аллах».
Южный переходный совет (ЮПС) сформировался в ходе войны как крупная независимая сила. Исторически многие южане ощущали себя ущемлёнными после, как они считали, несправедливого объединения 1990 года и поражения в гражданской войне 1994-го. В 2017 году лидеры «Южного движения» при поддержке ОАЭ объявили о создании ЮПС во главе с Айдарусом аз-Зубейди, официально заявив курс на восстановление независимого Южного Йемена.
Формально ЮПС входил в коалицию против хуситов и участвовал в боях на западном побережье. Однако параллельно между южанами и правительством Хади возникло острое противостояние: каждая сторона стремилась контролировать освобождённые от хуситов районы. В январе 2018 года и снова в августе 2019-го отряды ЮПС (именуемые «бригадами Пояса безопасности» под кураторством ОАЭ) выбили из Адена пропрезидентские силы. В итоге южные сепаратисты фактически установили собственное управление в Адене и провинциях Лахдж, Дали и Абьян. В ноябре 2019 года при посредничестве Саудовской Аравии был подписан Эр-Риядский договор о совместном управлении югом, однако реализация этого соглашения пробуксовывает. ЮПС не отказывается от идеи отделения, формально участвует в правительстве, но одновременно формирует параллельные структуры власти, рассчитывая на переговоры о будущем статусе региона. В южных городах вновь повсеместно развеваются флаги бывшей Народной Демократической Республики Йемен.
Кроме того, хаос войны позволил укрепиться радикальным джихадистским группировкам и другим исламистским силам. «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), давно имевшая ячейки в стране, воспользовалась внутренним кризисом: в 2015 году боевики захватили Эль-Мукаллу, крупный порт на юго-востоке, и освободили сотни своих сторонников из местных тюрем. На короткое время они создали там свой «эмират», хотя к 2016 году силы ОАЭ и местные племена вернули город под контроль правительства. Тем не менее, АКАП продолжает действовать в ряде центральных и восточных провинций (Шабва, Маариб, Абьян), иногда обеспечивая некоторую видимость порядка и завоёвывая тем самым лояльность части населения.
«Исламское государство» (ИГИЛ) также предприняло попытки закрепиться в Йемене: в марте 2015 года его ячейки организовали теракты против шиитских мечетей в Сане, унеся жизни свыше 140 человек. Однако, в отличие от АКАП, влияние ИГИЛ в Йемене заметно меньше. Их группировки, насчитывающие лишь несколько сотен бойцов, орудуют главным образом в провинции Эль-Бэйдаа и частично в Адене. США и их союзники периодически наносят авиаудары по командирам АКАП и ИГИЛ, а проасадовские силы и хуситы противостоят джихадистам там, где их интересы пересекаются. Всё это ещё сильнее усложняет запутанную картину йеменского конфликта.
§2.5. Роль племён и локальных ополченийВ традиционном племенном обществе Йемена, особенно в периоды ослабления центральной власти, ключевую роль играют местные племена и формируемые ими ополчения. Во время текущей гражданской войны они нередко оказываются решающим фактором в отдельных регионах. Множество северных племён долгие годы были союзниками Али Абдаллы Салеха, однако в 2017 году, когда Салех попытался разорвать коалицию с хуситами, рассчитывая на их поддержку, большинство шейхов предпочло занять выжидательную позицию, оценивая риски и выгоды. В итоге отсутствие серьёзной племенной поддержки предопределило гибель бывшего президента, убитого хуситами. Этот эпизод ярко показывает, что для племенных вождей зачастую более важны прагматические расчёты и безопасность собственных общин, нежели идеологические принципы.
В центральных и восточных провинциях (Маариб, Джоуф, Хадрамаут) многие племена взяли на себя оборону от хуситов, получая при этом помощь от арабской коалиции. В богатом нефтью Маарибе племенные отряды смогли удержать регион от наступления хуситов во время крупнейшего штурма в 2020–2021 годах, обеспечив тем самым контроль за одной из ключевых экономических зон Йемена. При этом внутри самих племенных структур нередко возникают внутренние конфликты, когда одни кланы сотрудничают, например, с «Аль-Каидой» или занимаются контрабандой, в то время как другие поддерживают официальные власти. С одной стороны, племена поддерживают местный порядок и не дают стране полностью погрузиться в хаос, а с другой – они препятствуют восстановлению сильного центрального государства, предпочитая отстаивать собственные групповые интересы.
Уже к 2016–2017 годам гражданская война в Йемене утратила видимость единого фронта, превратившись в сплетение нескольких параллельных конфликтов:
Противостояние хуситов с коалицией и поддерживающим её «официальным правительством».
Столкновения хуситов с локальными племенами и исламистскими группами.
Борьба южан против «единого Севера», включая хуситов и политическое наследие Салеха.
Конфликты южан с некоторыми составляющими той же панарабской коалиции.
Противоречия внутри самого анти-хуситского лагеря.
Различные межплеменные распри.
Противостояние с радикальными исламистскими группировками (АКАП, ИГИЛ) и т.д.
Эти линии противостояния накладываются друг на друга и зачастую меняются по ходу войны. Например, южане могли временно взаимодействовать с хуситами ради борьбы с исламистскими формированиями партии «аль-Ислах». Хуситы и окружение Салеха были непримиримыми врагами, но на время объединились, а затем вновь вступили в конфликт, кульминацией которого стала гибель Салеха в декабре 2017 года, когда он попытался перейти на сторону про-саудовской коалиции.
Отсутствие единого центра власти и присутствие множества разнообразных акторов привели к тому, что «большая война» в Йемене распалась на множество «маленьких войн». Как метко отметил Chatham House, даже если получится остановить главные сражения, существует риск фрагментации страны на целый ряд локальных конфликтов, урегулировать которые будет ещё сложнее.
§2.6. Коллапс государства и кризис легитимностиОдной из главных причин йеменской войны стала хрупкость и фактический распад государственных институтов, а также непрекращающаяся борьба элит за власть. Ещё до начала конфликта управление страной носило крайне неэффективный и коррумпированный характер. Режим Али Абдаллы Салеха (1978–2012) держался на патронажной системе, где президент раздавал посты и ресурсы влиятельным племенным шейхам, генералам и партийным лидерам, пытаясь уравновесить их интересы. Однако к концу его правления эта схема стала всё более клептократической и не справлялась с накопившимися вызовами. «Кофейная революция» 2011 года вскрыла слабые места этого режима, но, передав власть Абд Раббо Мансуру Хади, никто не избавился от прежних проблем. Те же старые элиты продолжали оказывать закулисное влияние, поэтому переходный период проходил под знаком продолжающегося соперничества и недоверия.
По сути, «арабская весна» в Йемене привела лишь к смене фигуры президента, без реальных политических реформ. Хади, выходец с юга, не имел прочной базы: южане видели в нём «ставленника Салеха», а жители севера считали его слабой фигурой, опирающейся на внешние силы. Всё это подорвало легитимность центральной власти. Когда в 2015 году хуситы свергли правительство, государственные институты окончательно прекратили работать как единая система. Международно признанное правительство фактически сохранило авторитет лишь на бумаге – благодаря резолюции 2216 Совбеза ООН, признававшей Хади легитимным главой страны. Но внутри Йемена его влияние оставалось ничтожным. В то же время хуситы, контролируя столицу и часть госаппарата, создали параллельное образование, которое, хоть и не признано за пределами страны, сумело заручиться поддержкой значительной части северян. Противостояние между двумя непризнанными друг другом центрами власти ввергло Йемен в глубокий политический тупик.
Ситуацию усугубило внешнее вмешательство. Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживали Хади в стремлении не допустить усиления Ирана, однако эта поддержка дискредитировала власти в глазах многих йеменцев, позволив хуситам выставлять оппонентов как «ставленников саудовской агрессии». В итоге внутренний диалог оказался парализован. Формально переговоры велись, но учесть все интересы – хуситов, южан, племён, исламистов – в рамках одной модели оказалось чрезвычайно сложно. Даже когда заключались частичные договорённости (например, Стокгольмское соглашение 2018 года), они не затрагивали фундаментальных противоречий между множеством групп. Структурная фрагментация Йемена и отсутствие центральной власти, пользующейся общим доверием, по-прежнему не дают выйти из состояния войны.