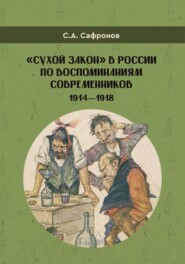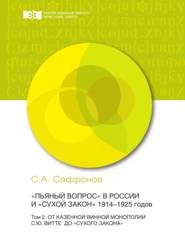По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Пьяный вопрос» в России и «сухой закон» 1914-1925 годов. Том 1. От корчмы до винных акцизов Александра II
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кроме того, чтобы излишне не привлекать в кабаки посетителей, в них было запрещено исполнять музыку. В 1636 г. девять нижегородских протопопов и священников, возглавляемых викарным (помогающим в управлении правящему епархиальному архиерею) священником Иоанном Нероновым, подали патриарху Иоасафу (1634–1641 гг.), преемнику Филарета, «память», (меморандум), в которой описали весьма печальную картину русских церковных нравов. Протопопы и священники в своей «памяти» обращали внимание иерархов на царящие в храмах «ложь христианскую», на непорядки и несоблюдение духа веры. По вине служителей церквей, желающих поскорее провести богослужение, в церквях стало широко использоваться многогласие – одновременное чтение разных молитв, «говорят голосов в пять-шесть и более, со всем небрежением, поскору». В результате никто из прихожан не мог понять богослужения. В самой церкви во время службы нередко прихожане ходили, разговаривали, не слушали молитв, а некоторые даже умудрялись обмениваться шутливыми замечаниями и вступали во время службы в спор. Нижегородские священники отмечали, что в храме прихожане не получают никакого христианского воспитания, их духовный уровень остается очень низким. Нравственное состояние населения вызывает особое огорчение – прихожане пьянствуют, предаются разврату: «делают… по домам игpища и собиpаются… по многy мyжи и жены… делают… лyбяныя кобылки и тypы…, а на лица свои налагают личины косматыя и звеpовидныя и одеждy таковyю ж, а сзади себе yтвеpжают хвосты», тут же присутствуют «коpчмиты… с кабаками и со всякими пьяными питии», а «игpецы и медветчики и скомоpохи… пpазднуют… пьянствyют, пляшут и в бyбны бьют и в сypны pевyт и в личинах ходят»[140 - Цит. по: Рождественский H. В. К истоpии боpьбы с цеpковными беспоpядками, отголосками язычества и поpоками в pyсском бытy XVII в. // Чтения в Имп. общ-ве истоpии и дpевностей pоссийских. М., 1902. Кн. I. С. 1–30.].
Вслед за Нижним Новгородом по всей стране – в Пскове, Калуге, Вологде, Суздале и других городах России выступили священнослужители с требованием от иерархии перемен в жизни и режиме церкви. В Ржеве, у Пскова местные священники в 1637 г. потребовали от правительства закрытия местного питейного заведения, которое, по их мнению, являлось очагом безнравственности и преступлений и вело к разорению населения. В Вологде сам епископ Варлаам в 1639 г. стал активно бороться против пьянства среди подчиненного ему клира.
В результате патриарх запретил игру на музыкальных инструментах, а согласно Указу 1648 г. царя Алексея Михайловича этот запрет был подтвержден. Данный указ гласил: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды, и… велено изымать и, изломав те бесовские игры… жечь». Адам Олеарий осветил данное событие так: «Они не терпят также в церквах своих ни органов, ни каких других музыкальных инструментов, говоря: «Инструменты, не имея ни какого духа и жизни, не могут восхвалять бога». И хотя им возражают на это, что и дух и жизнь человек извлекает из инструмента посредством приятных звуков, при чем приводят в пример Давида, в его псалмах, но русские отвечают в таком случае, что в Ветхом Завете это было в употреблении, а в Новом нет. Вне церквей, впрочем, в домах, особенно во время своих пиршеств, русские любят музыку. Но так как ею стали злоупотреблять, распевая под музыку в кабаках, корчмах и везде на улицах всякого рода срамные песни, то нынешний патриарх два года тому назад, сперва строго воспретил существование таких кабачьих музыкантов, и инструменты их, какие попадутся на улицах, приказывал тут же разбивать и уничтожать, а потом и вообще запретил русским всякого рода инструментальную музыку, приказав в домах везде отобрать музыкальные инструменты, которые и вывезены были, по такому приказанию, на пяти возах за Москву реку, и там сожжены. Впрочем немцам дозволяется употреблять музыку в их домах, равно как и другу немцев, великому боярину Никите (Никита Иванович Романов, двоюродный брат первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича, последний боярин нецарственной линии Романовых), которому патриарх многого приказывать не осмеливается, и который имеет у себя… всякого рода… музыкальные инструменты»[141 - Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633 г., 1636 г. и 1637 г., составленное секретарем посольства Адамом Олеарием… С. 344.].
А. Олеарий сразу же отметил положительные моменты в данной политике: «С недавнего времени,.. все эти общественные кабаки, принадлежавшие частично царю, частично боярам, уничтожены, так как они отвлекают народ от работы и способствуют ему пропивать в них последнюю заработанную им копейку, и теперь никто уже не может получить водки в розницу на две, на три копейки, на шиллинг, или на грош; вместо кабаков теперь один лишь царь от себя устраивает или содержит, в каждом городе, так называемый у них кружечный двор, или дом, из которого отпускается водка только целыми кружками, или штофами, и для продажи в нем водки приставлены особые присяжные люди, которые ежегодно доставляют царскую казну неимоверное число денег от такой продажи вина. Но от такого распоряжения повседневное пьянство мало уменьшилось; ибо несколько соседей складываются вместе, покупают себе штоф и более водки и не расстаются, пока не опорожнят посуды, причем часто тут же и свалятся друг подле друга. Некоторые же покупают водку разом по большому количеству и тайно распродают ее по чаркам. Поэтому теперь не видно уже такого множества догола пропившихся…, много меньше прежнего встречается пьяного народу, шатающегося и валяющегося по улицам»[142 - Там же. С. 181–182.].
Хорватский ученый и священник Юрий Крыжанич (один из первых проповедников идеи панславизма.), приехавший в середине XVII в. в Москву и в 1661 г. отправленный за свои резкие высказывания на государеву службу в Тобольск (где он создает свой вариант всеславянского языка, представлявшего собой смесь церковнославянского, русского и хорватского языков), писал: «Об пьянстве нашем что треба говорить! Да ты бы весь широкий свет кругом обошел, нигде бы не нашел такого мерзкого, гнусного и страшного пьянства, яко здесь, на Руси. Между тем ведь в иных, более теплых странах пьют гораздо больше хмельного питья, нежели у нас. А в иных местах пьют и меньше, однако ведь нигде нет такого удивительного пьянства. А тому причина есть корчемное самоторжие (монополия) или кабаки… Люди мелкого счастия не в состоянии изготовить дома вина или пива, а корчмы нет, где бы они могли иногда выпить, кроме корчмы царской, где и место, и посуда хуже всякого свиного хлева, и питье самое отвратительное, и продается по бесовски дорогой цене. Кроме того, и эти адские кабаки не под руками у народа, но в каждом большом городе один или два только кабака. Поэтому, говорю я, мелкие люди чуть ли не всегда лишены напитков и оттого делаются чрезмерно жадны на питье, бесстыдны и почти бешены, так что какую ни подашь большую посуду с вином, они считают за заповедь божию и государеву выпить ее в один дух. И когда они соберут несколько деньжонок и придут в кабачный ад, тогда сбесятся вконец и пропивают и рухлядь, какая есть дома, и одежду с плеч. Итак, всея злости и неподобия, и грехоты, и тщеты, и остуды всего народа исходят из проклятого корчменного самоторжия… Пьянство же – самый гнусный из всех пороков и грехов, который делает нас противными богу, отвратительными для всех народов, ни на что негодными и превращает нас из людей в скотов. У итальянцев, испанцев и турок муж, которого однажды увидят пьяным, теряет все уважение и не считается достойным никакой общественной должности, ни большой, ни малой. Природным недостатком народа нашего… является любовь к пирам и тщеславное гостеприимство и вследствие этого расточительность и обнищание. А за этим неизбежно следует жестокость по отношению к подданным. Ибо не счесть в нашем народе людей, которые вменяют себе за честь то, что они много пируют и без причин расточают свое имущество. А когда у них не останется необходимых средств, нещадно притесняют и прижимают бедных подданных, своих соотечественников. А по отношению к неблагодарным, задиристым чужеземцам и бесполезным утробам они щедры и расточительны. Иисус, сын Сираха, говорит о подобных: "Кормит и поит неблагодарных и за это слышит горькие слова"»[143 - Крижанич Ю. Русское государство в половине XVII в. М., 1859. С. 157.]. Таким образом в России начала складываться нетерпимая ситуация с пьянством, требовались радикальные реформы.
2.2. Кружечный двор – наследник кабака
В России нашлись люди, усмотревшие в действовавшей системе спаивания, хотя и очень доходную, тем не менее одну из главных причин «душевредства». В 1646 г. предшественник Никона патриарх Иосиф послал ко всему духовному чину в Москве наказ, в котором сообщил, что царь приказал всем духовным и мирским людям в предстоящий великий пост «поститися и жити в чистоте со всяким воздержанием, и от пьянства и от неправд, и от всякого греха чтоб удалялись». Правящие верхи видели в бражничестве тревожное свидетельство падения традиционных христианских ценностей. Так, в царском указе 1648 г. отмечалось, что «умножилось в людях во всяких пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми». В том же году патриарх Иосиф «велел послать по всем монастырям грамоты таковы ж, чтоб отнюдь в монастырях хмельного всякого пития не было»[144 - Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. Сергиев Посад, 1913. С. 123–124, 131–132.]. Однако рассчитывать на изменения нравов клира без серьезных изменений в жизни мира не приходилось. Требовалась реформа питейного дела, с проведением которой светская власть не могла справиться без идеологической и практической поддержки церкви.
К середине XVII в в России насчитывалось уже около 1 000 кабаков, имевшие исключительное право на торговлю горячительными напитками. Частные лица не имели нрава заводить питейные дома, но, несмотря на это, нарушения этого запрещения случались. В начале царствования царя Алексея Михайловича некоторые бояре, пользуясь благоприятными для наживы обстоятельствами (новому царю было всего 16 лет), открывали кабаки для торговли хлебным вином. Финансовые злоупотребления кабацких голов, резкое снижение качества хлебного вина из-за хищения сырья и фальсификации, рост взяточничества и разорительные последствия пьянства для народа, в том числе срыв посевных за несколько лет (в период пасхального пьянства), вызывают в 1648 г. «кабацкие бунты» в Москве и других городах России, начавшиеся из-за невозможности уплатить «кабацкие долги» городской (посадской) ремесленной голытьбой и перерастающие в крестьянские волнения подгородного населения. Заодно – резко упало качество водки. Из-за массового пьянства на Пасху каждый год страдала посевная. Для подавления этих бунтов пришлось использовать войска. Восстание народа против пьянства было жестоко подавлено. В них участвовало более 500 человек, 200 из которых принадлежали к православному духовенству. Бунты были подавлен. Многие священники потом были либо казнены, либо «исторгнуты» из сана.
В результате этого, несмотря на то, что вред от кабаков перекрывался в глазах правительства огромными прибылями от питейной продажи, ему пришлось принимать некоторые меры по борьбе с пьянством. Боролись прежде всего с нелегальным изготовлением и продажей спиртных напитков – корчемством. Соборное Уложение 1649 г. определило наказание за производство и продажу спиртных напитков в виде штрафа; при повторном преступлении штраф удваивался, к нему прибавлялись наказание батогами, кнутом и тюремное заключение. «А с пытки будет в винной продаже продавцы повинятся, и тех корчемников после пытки бить кнутом по торгам, да на них же имать… впервые по пяти рублей на человека. А буде они в такой питейной продаже объявятся вдругорядь, и их по тому же бить кнутом по торгам, а… имать с них денег по десяти рублей на человека и давать их на крепкие поруки с записями в том, чтобы им впредь таким воровством не промышлять. А будет кто в таком воровстве объявится в третий раз, и их за ту третью вину бить кнутом по торгам и посадить в тюрьму на полгода… А которые люди от такового воровства не уймутся и в таком воровстве объявятся в четвертый раз, и им за такое их воровство учинить жестокое наказание, бив кнутом по торгам, ссылать в дальние города, где государь укажет, а животы их все и дворы и поместья и вотчины имать на государя. А которые люди у них корчемное питие купят в четвертый раз, и тем по тому же чините жестокое наказание, бить кнутом по торгом, и сажать в тюрьму на год… А которые всякие люди корчемников, и кабатчиков, и питухов у голов, и у детей боярских начнут отбивать, и тем отбойщиком, по распросу и по сыску, чинить наказанье, бить кнутом на козле и по торгам, а иных бить батогами, чтоб на то смотря, иным не повадно было так делать»[145 - Соборное уложение 1649 г. / под ред. В.И. Буганова, М.П. Ирошникова, А.Г. Манькова (рук. авт. колл.), В.М. Панеях. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1987. С. 242.].
Предусмотренные законом наказания за рецидив корчемства показывали, что на практике нарушители государственной монополии никак не желали «униматься». Спрос на корчемное вино заставлял идти на риск, а покупатели готовы были защищать продавцов. Поэтому приходилось наказывать и «питухов»: их не только штрафовали, но и могли подвергнуть пытке, чтобы они назвали корчемников. Строго каралась и перекупка нелегальных спиртных напитков, еще строже – производство их корчемниками на вынос с продажей оптом. Предусматривалось наказание – штраф в 5 руб. и конфискация – за хранение «неявленого» (изготовленного без надлежащего разрешения и уплаты пошлины) питья. Только дворяне, торговые люди гостиной и суконной сотен (каждодневно) и некоторые из привилегированных категорий служилых людей по прибору (по большим праздникам) имели право на безъявочное производство и, следовательно, хранение спиртных напитков, включая водку. Всем остальным разрешалось производить и держать в своих домах только явочное питье – пиво и мед, но водка должна была покупаться только в кабаках. Количество напитков домашнего производства и число дней, в течение которых приготовленные спиртные напитки должны быть выпиты, строго регламентировались законом и находились в зависимости от обычая, статуса человека, его чина, усмотрения начальства. В непраздничное время населению дозволялось держать «про себя» только «брагу безхмельную и квас житной»[146 - Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина… С. 53.].
Для надзора за торговлей вином правительство применило проверенный принцип круговой поруки: «А черных сотен и слобод тяглым людям для корчемные выимки выбирать по годом меж себя десятских, и на тех десятских в Новую четверть приносить выборы за своими руками в том, что тем их выборным десятским во всех десятках того смотреть и беречь накрепко, чтоб корчемного продажного никакого питья, вина и пива, и меду, и табаку, и неявленого питья и всякого воровства ни у кого не было. А которым людям даны будут на вино, и на пиво, и на мед явки, и те бы люди сверх явок лишнего вина не покупали, и пива не варили, и меду не ставили»[147 - Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 3. С. 252–257.].
Под влиянием патриарха Никона царь Алексей Михайлович задумал широкую реформу кабацкого дела. С этого времени берут начало попытки государственной регламентации производства алкоголя. 30 декабря 1651 г. был издан Указ «О бытии во всех городах и в государевых больших селах по одному кружечному двору», которым предписывалось во всех городах «на кружечных дворах денежную казну собирать на вере, а откупу кабакам нигде не быть». Указ, таким образом, отменил откупную систему в винокурении и учредил вместо кабаков кружечные дворы (всего кружечных дворов должно было быть около тысячи), с которых надлежало продавать вино только на вынос – ведрами, кружками и укрупненными чарками (было велено «сделать чарку в три чарки»). В феврале 1652 г. были посланы грамоты по городам, которыми объявлялось – больших запасов питей не заготовлять, так как с нового года (год тогда начинался 1 сентября) «в городах кабакам не быть, а быть по одному кружечному двору». Запрещалась торговля вином во время великого поста и на святой неделе. Воеводам предписывалось закрывать питейные заведения на это время.
Это было не простое переименование питейного заведения – кабак представлял из себя питейное заведение, а в кружечном же дворе разрешалось только продавать алкоголь. На кружечном дворе спиртное сбывали под навесом, сделанном над дверью подвала, где хранили алкоголь. Сидеть и пить в самом кружечном дворе и даже возле него не разрешалось. «Питухи» вынуждены были теперь нести купленную водку домой и распивать ее там. Сохранилось описание сгоревшего кружечного двора в Шуе: «Выход винный большой, пивные два выхода и новостройная питейная изба, да еще две избы, да приемного у купчин вина 750 ведер, пива 3 260 ведер, меду 10 ведер, 3 четверти (четверть равнялась 12 пудам, пуд – 16 кг), 3 амбара хлебных, и запасу в них, приготовленного для кружечного двора, ржи 150 четвертей, овса 200 четвертей»[148 - Цит. по: Смиренный И., Горбунов И., Зайцев С. Пиво Российской империи. М.: ООО «АЯКС»–ЗАО «ГОТЭК», 1998. С. 19.].
Правительство решило снабжать водкой кружечные дворы через подрядчиков. Поэтому кабацким головам и подрядчикам было приказано прекратить винокурение и винокурни частных лиц, кроме тех, которые должны были поставлять по подрядам, уничтожить. В связи с этим водку на кружечные дворы стали доставлять с винокуренных заводов. Наиболее старое описание винокуренного завода оставил П.И. Гордон, который во время своего путешествия к Азову предпринял осмотр завода в городе Ольшанке на Дону и рассказал о нем следующее: «Помещение состояло из дома, в котором находились печь и котел для кипячения воды. На той же стороне был большой заторный чан; на другой стороне две большие печи, внизу отделенные одна от другой, а наверху соединенные. На той стороне, которая прямо приходилась к наружной стене, были в каждой печи вмазаны два котла, всего четыре. В заторный чан, вмещающий в себя 4–5 бочек, кладут 9 квартов (1 кварта – 1,1365 литра) или четвериков ржаной муки. Если же к этому подмешать солоду, то лучше. Затем нагревают воду в большом котле до кипения, и обливают ею ржаную муку, затирая ее, как пиво. Массу оставляют стоять целые сутки, после чего прибавляют дрожжей и опять оставляют ее стоять сутки для брожения. По истечении этого времени наполняют бродящей жидкостью маленькие котлы, снабженные крышкою, на которой примазаны хлебным тестом в кружок довольно длинные, плотно закрытые трубки. Перегонку продолжают до тех пор, пока масса в котлах не пригорит, или пока не станет переходить только водянистая жидкость, которую называют раком. Перегнанную жидкость собирают в нарочно подставленных сосудах и переливают в бочку. Перегонять его лучше без хлеба и солода (этим, вероятно, они хотят сказать, что полезнее перегонять затор без осадка, собирающегося на дне и состоящего из хлебных частиц и солода). Жидкость, полученную при первой перегонке, перегоняют вторично; от чего получается более крепкое вино. Из одной бочки муки (одной четверти) получается 6 ведер вина; выкурка однако же значительнее, если при затирании к ржаной муке прибавлять солоду»[149 - Цит. по: Илиш Ф.С. Полное руководство винокуренного, пивоваренного и медоваренного производства, изложенное в 14 лекциях по распоряжению господина Министра финансов. СПб.: Изд. авт., 1862. Ч. 1–2. С. 153.].
11 августа 1652 г. был созван «Собор о кабаках» Боярской Думы, на котором также присутствовал патриарх и митрополиты. Предстояло выяснить детали реформы, уже в принципе принятой и осуществленной в своих основных чертах. Из постановлений Собора особенно важным является ограничение времени торговли вином. Запрещалась его продажа во время постов, по воскресеньям, средам и пятницам. А разрешалась в понедельник, вторник, четверг и субботу только после обедни, т. е. после 14 часов, и прекращалась летом – за час «до вечера», а зимой – «в отдачу часов денных», а за час до начало обедни его продажу прекращать вообще. Категорически было запрещено торговать вином ночью. Количество вина, продаваемого одному лицу, было ограничено одной чаркой («вина продавать по нашему указу в ведра и в кружки; а чарками продавать – сделать чарку в три чарки, т. е. втрое больше прежней объемом – 143,5 гр., и «продавать по одной чарке человеку, а болши той указной чарки одному человеку продавать не велел»), при этом цена нее повысилась в 2–3 раза (оптом по 1 руб. за ведро, а «в чарки» по 1,5 руб. на ведро), в долг и под заклад давать было не велено, т. е. была запрещена продажа водки в кредит, которая служила закабалению людей. Запрещалась продажа алкоголя лицам священнического и иноческого сана. Местные власти должны были строго следить за соблюдением общественного порядка: «Чтоб у них на кружечном дворе питухи пили тихо и смирно, и драки, и душегубства и иного какого воровства, и татям и разбойникам приходу и приезду не было». Вместе с «воровством» царский указ запрещал картежную и прочие азартные игры и представления скоморохов «с бубнами и с сурнами, и с медведями, и с малыми собачками». За нарушение указа сборщикам и откупщикам было назначено строгое наказание – конфискация всего имущества и ссылка в дальние города и в Сибирь. То же наказание было определено и воеводам, если они не будут строго смотреть за сборщиками и откупщиками. Если раньше кабацкие головы и целовальники сами курили или заготавливали вино на местах, то теперь было решено сосредоточить все подрядное дело в Москве, в руках крупных специалистов-купцов и получить хорошее вино по дешевой цене[150 - Акты, собранные в библиотеках и архивах Археографической экпедицией Императорской Академии наук. СПб.: Тип. II Отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1836. Т. 4. 1645–1770 гг. С. 88–91.]. По Указу 9 сентября 1652 г. было велено уничтожить частные винокурни, кроме «тех поварен, на которых по государеву указу сидят подрядное вино уговорщики к Москве на государев Отдаточный двор и в города на государевы кружечные дворы». А заодно решили совсем прекратить торговлю пивом и медом[151 - Веселовский С.Б. Московское государство в XV–XVII вв. Из научного наследия. М., 2008. С. 336–352.].
Одновременно в грамотах, которые рассылались по городам, была добавлена любопытная оговорка относительно «напойных денег» – «собрать перед прежним с прибылью»! Достигнуть этой цели московское правительство надеялось путем уничтожения частных кабаков и повышения цены на вино. Именно эта лицемерная по своей сути политика красной нитью проходит через историю кабацкого вопроса в России. С одной стороны, монарх бичует пьянство, с другой – велит с прибылью собрать «напойные». Тем самым сборщики «кружечных денег» были поставлены перед выбором: либо обходить все ограничения, либо расплачиваться своим имуществом.
Царская грамота, разосланная всем кабацким головам, требовала неуклонного исполнения указанных в ней приемов сбора и сдачи денег в казну, грозя нарушителям оной смертною казнью. Согласно указу головы, находящиеся на кружечном дворе, должны были собирать питейную прибыль обязательно мелкими деньгами, причем все полученное немедленно помещать в ящик и без остатка, дабы часть доходов не попала в карманы, мошны, ради блюда, или не была бы «случайно» обронена в самое питье. Ящики были опечатаны головою и вскрывались или каждую неделю, или помесячно. Изъятые деньги проверялись и вносились в книги, «чтоб государевой казне порухи не было», – особо приставленными к этому делу подьячими, избираемыми миром. При каждом кружечном дворе, смотря по оборотам, иногда таких подьячих набиралось по несколько человек, и тогда уже они образовывали собой целую канцелярию, разобраться в деяниях которой было не под силу и самим кабацким головам. До половины XVII столетия кабацкие сборы высылались в Москву помесячно, но с 1660 г. в виду того, что отвоз денег слишком тяжело ложился на выборных и целовальников, приказано было деньги высылать два раза в год – в феврале и в августе. Для общей же проверки отчетности выезжали сами кабацкие головы однажды в год – после Семенова дня, причем перед отъездом своим обязаны были вручать воеводам точные копии, представляемого ими отчета. В Москве кабацкие головы являлись в «Приказ Большого прихода» и здесь уже оставались до окончания проверки. Таков был общий порядок проверки кабацкой отчетности. В местностях, слишком отдаленных от Москвы (Сибирь), чтобы не отрывать кабацких голов от дела и не вводить их в непосильные расходы, приказано было, в виде опыта, самим головам в Москву не ездить, а сдавать отчеты воеводам, которым, после проверки и высылать их в Приказ, но от этого опыта пришлось очень скоро отказаться, так как новый порядок вызвал жестокие злоупотребления. Правительство вынуждено было вернуться к старой системе. Но чтобы чем-нибудь помочь «дальним» головам, издан был указ, воспрещавший излишнюю «волокиту». Но указ остался пустым звуком[152 - Ресторанное дело. 1911. 15 июля.].
Такая двойственная политика осуществлялась из-за неудачных либеральных финансовых реформ боярина Б.И. Морозова, целью которой были меры по улучшению государственных финансов путем сокращения затрат, не являющихся необходимыми и изыскание новых источников дохода. В отношении государственных финансов Б.И. Морозов приступил к выполнению программы жесткой экономии. Чиновничий персонал при дворе был сокращен; некоторые придворные слуги были уволены, жалование остальных было урезано. Жалование провинциальным чиновникам также было понижено. Политика экономии коснулась также и армии. Некоторые из иностранных офицеров были лишены денежной платы, получив вместо того земельные наделы. Жалование стрельцов также было урезано. Б.И. Морозов не нашел возможным поднять прямые налоги, поскольку они и так уже были большими, и многие общины являлись задолжниками. Вместо этого он ввел непрямое налогообложение в форме правительственной монополии на соль. Вводя монополию, правительство посчитало необходимым объяснить свои мотивы реформ: ожидаемый доход позволит со временем отменить такие прямые налоги, как налог на содержание стрельцов и почтовых ямщиков (стрелецкие и ямские деньги). Более того, не будет несправедливости, поскольку цены будут равными для всех потребителей. 7 февраля 1646 г. монополия на соль была передана в руки «Большой Казны». До реформы пошлина на соль составляла 5 коп. с пуда, теперь она поднялась до 20 коп. с пуда. Как выяснилось, повышение цен на соль оказалось неприятным для богатых и невыносимым для бедных. Последние были в таком волнении, что соляную монополию пришлось отменить 10 декабря 1647 г. Таким образом, правительство, потерпевшее в конце 1640-х гг. неудачу с налоговыми новшествами, просто не могло отказаться хотя бы от части «кабацких денег». В этом заключалась одна из основных причин неудачи кабацкой реформы.
Курс на отрезвление вызывал поддержку не у всех. В 1652 г. по всей Верхней Волге прошла волна беспорядков. В Юрьевце, где в это время служил протопоп Аввакум, толпа в полторы тысячи человек «и попов, и мужиков и баб», которые были обозлены на проповедника за его нравоучения, разгромила его дом и избила его самого. Только вмешательство местного командира гарнизона и пушкарей спасло Аввакума и его семью от смерти; но ему все же пришлось покинуть Юрьевец навсегда. Почти в то же самое время начались демонстрации против ревнителей в Костроме. Обличения пьянства и безнравственности и закрытие кабаков объединили против них и духовенство, и кабатчиков и даже администрацию во главе с самим воеводой Ю.М. Аксаковым. Толпы протестующих «с ножами» подошли к собору во время обедни и хотели избить самого протопопа. Когда по требованию Даниила несколько наиболее буйствующих пьяных демонстрантов были арестованы, воевода Ю.М. Аксаков распорядился выпустить их. Костромские беспорядки продолжались несколько дней и достигли апогея 28 мая, когда толпа перепившихся мужиков из имения боярина Б.И. Морозова под предводительством попа Ивана двинулась в город, осадила собор и снова едва не избила протопопа, которому, к счастью, все же удалось скрыться. Мужики были возмущены предписаниями Б.И. Морозова и проповедью протопопа Даниила, в которых объявлялось, чтобы по праздникам надо ходить в церковь, не работать и не пьянствовать. Расследование подтвердило, что в организации беспорядков были замешаны часть духовенства и сам воевода со своим окружением. Около Ярославля погромы, устроенные населением вместе с кабатчиками, заставили уйти из прихода священника Г. Иванова.
Указом 9 сентября 1652 г. «О непозволении боярам и приказным людям содержать в вотчинах и по городам кабаки и кружечные дворы, и о содержании оных только в городах», правительство запретило феодалам иметь в своих поместьях и вотчинах кабаки и вести торговлю вином. «И те все кабаки и поварни, – сказано в указе, – в поместьях и вотчинах, и по дорогам свесть, опричь тех поварень, на которых по указу великого государя сидят подрядные вина уговорщики»[153 - Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. / под ред. М.М. Сперанского. СПб.: Тип. II Собственной его императорского величества канцелярии, 1830. Т. 1. 1649–1675 гг. С. 271.]. Следовательно, указом от 9 сентября 1652 г. была установлена монополия государства на продажу вина потребителям. Из предписаний 9 сентября 1652 г. правительству удалось осуществить главное – ликвидировать частновладельческие кабаки и, следовательно, частновладельческие питейные округа. Менее последовательно было осуществлено предписание от 9 сентября о ликвидации поварен, имевшихся при кабаках феодалов. Конечно, их численность резко сократилась, так как ликвидация кабаков обычно влекла за собой и исчезновение имевшихся при них поварен. Но некоторые феодалы сохранили их.
Однако патриарху Никону удалось добиться некоторого эффекта. Так, по свидетельству арабского путешественника архидиакона Павла Алеппского (Булоса ибн Макариуса аз-Заима ал-Халеби) – сына антиохийского патриарха Макария III, который в 1654–1656 гг. в царствование Алексея Михайловича приезжал в Россию для сбора пожертвований (во время приезда с ним был его родной сын, который составил подробное и чрезвычайно интересное описание трехлетнего путешествия своего отца). Вот одни из некоторых выразительных черт этнографии русских, которые поразили Павла Алеппского в это время: «Ни архиереи, ни вообще монахи отнюдь не пьют водки явно: на них положен запрет от патриарха, и когда найдут кого пьяным, то бросают в тюрьму, бьют кнутом или выставляют на позор, ибо питье водки – поступок гнусный, может быть хуже прелюбодеяния. Но торговцам, архиерейским служителям и их родственникам назначается по две рюмки ежедневно… Сведущие люди нам говорили, что если кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них, как подвижник, являя постоянное воздержание и пощение, занимаясь чтением молитв и вставая в полночь. Он должен упразднить шутки, смех и развязность (и отказаться от употребления опиума), ибо московиты ставят надсмотрщиков при архиереях и при монастырях и подсматривают за всеми, сюда приезжающими, нощно и денно, сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте и молитве или же пьянствуют, забавляются игрой, шутят, насмехаются или бранятся. Если бы у греков была такая же строгость, как у московитов, то они и до сих пор сохранили бы свое владычество. Как только заметят со стороны кого-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляя туда вместе с преступниками, откуда нельзя убежать, вернуться или спастись – ссылают в страны Сибирии добывать многочисленных там соболей, серых белок, черно–бурых лисиц и горностаев, в страны, удаленные на расстояние целых трех с половиною лет, где море-океан и где уже нет населенных мест. Так сообщали нам люди, достойные веры и писавшие об этом предмете. Московиты никого (из провинившихся иностранцев) не отсылают назад в их страну, из опасения, что они опять приедут, но видя, что приезжающие к ним греческие монахи совершают бесстыдства, гнусности и злодеяния, пьянствуют, обнажают мечи друг на друга для убийства, видя их мерзкие поступки, они после того, как прежде вполне доверяли им, стали отправлять их в заточение, ссылая в ту страну мрака, в частности же за курение табаку предавать смерти». О населении Московского царства Павел Алеппский писал следующее: «В праздничные дни все поспешают в церковь, нарядившись в лучшие свои одежды, особенно женщины… Люди молятся в храмах по шесть часов. Все это время народ стоит на ногах. Какая выносливость! Несомненно, все эти люди святые! Винные лавки остаются закрытыми от субботы до понедельника. Так же делается и во время больших праздников»[154 - Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине XVII в. Описанное его сыном архидиаконом Павлом Аллепским. СПб.: Изд-во П.П. Сойкина, 1898. С. 4, 55, 114–115.].
Строгие меры по сдерживанию алкоголизации населения привели к тому, что налоговые поступления в государственную казну от продажи спиртных напитков сократились в несколько раз, виноторговцы терпели огромные убытки. Усилилось давление на власть так называемого «пьяного» лобби, которое не единожды еще заявит о себе в противостоянии со сторонниками предупредительных мер в борьбе с алкоголем. Со временем строгие уложения собора смягчились, стали необязательными для исполнения, а некоторые из них и вовсе были отменены. Так, новая тройная чарка была слишком велика для одноразовой выпивки, а посуды для торговли на вынос взять было негде. Поневоле пришлось восстановить распивочную продажу: в апреле 1653 г. очередной указ повелел «во всех городах с кружечных дворов головам и целовальникам продавать вино в копеечные чарки, как в городах продавано было на кабаках наперед сего». Следом пришлось сбавить цену и устанавливать ее по местным условиям. Потом было разрешено продавать вино в неурочное время «проезжим людям». Следующее послабление имело ту же самую подоплеку и на этот раз касалось недужных людей («для больных и маломочных людей, которые вина не пьют, пиво и мед на продажу держать по-прежнему»), так как еще с XIV в. известны свидетельства лекарей о «пользительности» приема водки внутрь при всевозможных хворях, а также же при морах, которые случались в России довольно регулярно.
В столице точно не знали, сколько нужно поставить вина на каждый кружечный двор государства; не оказалось и достаточного количества состоятельных и надежных подрядчиков; в результате платить казне пришлось дорого, качество продукта было «непомерно худо, и пить де его не мочно», да и того порой не хватало. Приказы стали рассылать по уездам указания, чтобы кабацкие головы не надеялись на подрядное вино, а курили его сами или подряжали производителей на местах. Через 7 лет, в 1659 г., было внесено новое постановление, согласно которому уже разрешалась повсеместная продажа алкоголя, «дабы великого государя казне учинить прибыль». И, действительно, бюджет страны очень много терял на ограничении продажи водки, она приносила от 30 % до 50 % поступлений в казну. Осталось только запрещение торговать в воскресные дни, но и его перестали соблюдать в условиях острого финансового кризиса. Финансовые соображения вновь к привели ужасному разгулу пьянства в России.
Между тем части населения, к которой принадлежали первые дворяне, дети боярские, приказные люди, гости, гостинная и суконная сотня (городское население делилось на четыре разряда: гости, гостиная сотня, суконная сотня, черные сотни и слободы: первые три разряда образовывали высшее купеческое общество и выделялись из торгово–промышленного населения; самые богатые и имевшие наивысший социальный статус это гости), ратные и служилые люди: стрельцы, пушкари, затинщики (категория служилых людей по прибору, входивших в состав крепостного гарнизона, в их обязанность входила стрельба из «затинных» пищалей – артиллерийских орудий небольшого калибра), воротники (состоявшие на временной службе в городском гарнизоне, приписывались к определенным городским или крепостным воротам) и т. д. для собственного употребления могли курить вино, варить мед, пиво. Это дозволение было ограничено Петром I в 1697 г. одним варением пива и меда. Кроме вышеперечисленных сословий, до Петра I разрешалось изготовлять вино, пиво и мед для собственного употребления в особенных случаях, как-то: поминки, свадьбы, крестины, рождение, a также в некоторые праздники, но о таком дозволении подавалась челобитная. Большое злоупотребление права винокурения для домашнего обихода побудило правительство в 1728 г. дозволить его только помещикам и подрядчикам. За дозволение к единовременной выкурке питей брали позднее определенную пошлину, которая называлась «явкою» или «докладным питьем». Эта явочная пошлина бралась до царствования Екатерины II и была отменена в 1775 г.[155 - Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое… С. 41.]
Добиваясь увеличения спроса на казенное вино, власти в начале 1660-х гг. запретили домовое винокурение. В 1660 г. последовало запрещение производить вино служкам и крестьянам монастырей, церковнослужителям и их крестьянам, чтобы «помимо кружечных дворов продажного питья нигде не было и от того б… казне порухи не чинилось». Народ и посадские люди, не имея возможности в силу запрещения приготовлять у себя пития, поневоле устремились к кружечному двору и понесли в него деньги. В результате этого они стали давать громадный доход. Домовый священник (капеллан) австрийского императорского посольства к царю Алексею Михайловичу Севастьян Главинич в 1661 г. писал о его богатстве следующее: «Царь Московский хвалится, что он один из могущественнейших европейских государей. Не известно, как много сокровищ у царя, но нет никакого сомнения, что их у него очень много. Все кружала в Москве – царские, и никто другой, кроме царя, не смеет выставлять на продажу напитки. Все роды драгоценных мехов, которыми Московия изобилует всего больше, – царские же, и доход с них считается наравне с тем, как если бы владел он золотыми и серебряными рудниками; но у него нет ни тех, ни других, также и всякого другого металла, кроме железа; на царя продается сало, конопля, кожи, называемые юфтью, поташ, употребление которого необходимо Англии и Голландии для мочки черного сукна, для мыловаренного и стекольного производств; все названные вещи отправляются большею частью к Архангельской пристани, где либо продаются на деньги голландцам и англичанам, либо же обмениваются на цену других товаров. Ни в каком другом месте, кроме этой пристани, у царя нет нигде сбора пошлины, уплатив которую один раз, всякий может свободно развозить товары по всей Московии, равно и вывозить оные»[156 - Главинич С. О происшествиях московских / пер. с латин. А.Н. Шемякина. М.: Имп. общ-во истории и древностей российских. 1875. С. 9.].
Однако 15 июня 1663 г. был издан именной Указа царя Алексея Михайловича «О содержании кабаков и кружечных дворов во всех городах, а также в помещичьих и вотчинных селах и в слободах на откупу и на вере», в котором указывалось, что для пополнения денежной казны, которая шла на жалованье ратным людям (была в самом разгаре русско-польская война 1654–1667 гг. за Украину и Белоруссию, а количество питейных сборов упало наполовину), с 1 сентября 1664 г. разрешалось во всех городах, пригородах, помещичьих и вотчинных селах, слободах и деревнях содержать кружечные дворы и кабаки на откупу и на вере, т. е. государство перешло к смешанной казенно-откупной системе, которая существовала и до этого[157 - Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. Т. 1. 1649–1675 гг. / под ред. М.М. Сперанского … С. 579.].
Таким образом, с 1664 г. торговля вином возобновилась в тех дворцовых и черносошных селах, в которых в результате кабацкой реформы кабаки были ликвидированы. Все это привело к возвращению на «круги своя». Интересное описание кружечного двора в Нижнем Новгороде оставил голландский путешественник, художник и писатель Корнелий де Бруин: «Город Нижний населен только русскими, и татар более в нем не видно. Он весьма многолюден. Я очень желал снять вид этого города со стороны реки, но никак нельзя было склонить к этому русских по случаю праздничного дня; ибо они в такие дни ничего не делают, как только пируют. Я видел даже многих из них в пьяном состоянии валяющимися по улицам. Забавно глядеть, как эти жалкие люди всякий день без исключения бродят около кружечных дворов или питейных домов. Я оставался несколько часов в одном из этих домов, где мы купили водку для себя, чтоб полюбоваться на проказы и странные движения выпивших, когда вино начинает отуманивать их головы. При этом они должны были оставаться на улице, потому что им не дозволяется входить в дом продажи питий: они стоят у дверей, где находится стол, на который желающие выпить кладут свои деньги, после чего им отмеривают известное количество желаемой водки, которую черпают из большого котла деревянной ложкой и наливают в деревянную же чару или ковш. Самая малая мера водки стоит полштивера (две полушки – полкопейки). Прислуживает пьющим, таким образом, особый человек, который тем и занимается целый день, что разливает и подает водку, другой же помогает ему тем, что получает с пьющих деньги. Женщины приходят сюда так же, как и мужчины, и выпивают ничем не меньше и не хуже их. Я видел также, как совершали подобное шествие и в такой питейный дом, в котором продавалось только пиво и в который дозволялось уже входить всем желающим выпить пива»[158 - Путешествие через Московию Корнелия де Бруина. М., 1873. С. 162–163.].
Австрийский барон, путешественник и дипломат Августин Мейерберг, побывавал в России в 1661 г. и оставил о русском пьянстве следующие воспоминания: «Напитки у них разные: вино, пиво, которое пьют редко, всякие меда в более частом употреблении, и водка, составляющая начало и конец обеда. Для этих напитков назначены и разные, особенные для каждого сосуды: братины, кубки, кружки, чаши, стопы, рюмки, чарки, стаканы, все большею частию оловянные или деревянные, редко серебряные, да и те почерневшие и грязные, потому что забота, чтобы они не истерлись, не позволяет москвитянам их чистить… Этой жажды их, однако ж, никогда нельзя утолить, если станешь подносить им водки, сколько душа их желает. Потому что они пьют, не процеживая сквозь зубы, как курицы, а глотают все глоткой, точно быки и лошади, да и никогда не перестанут пить, пока не перестанешь наливать. В кабаках пьянствуют до тех пор, пока не вытрясут мошну до последней копейки. Да и нередко бывает, что кто-нибудь за неимением денег отдает по уговорной цене шапку, кафтан и прочую одежду, даже до голого тела, чтобы попить еще, а тут безобразничает, однако ж хочет быть в виде не Геркулеса, а отца Бахуса на новую стать. От этой заразы не уцелели ни священники, ни монахи. Очень часто можно видеть, как кто-нибудь из москвитян выйдет неверным шагом из кабака, пойдет вперед с отяжелевшей от питья головой, да и валяется в грязи, пока не поднимет и не отвезет его к домашним какой-нибудь извозчик в видах платы за провоз, а эти извозчики в бесчисленном множестве стоят на каждой почти улице в Москве с своими наемными повозками. Бывает тоже чрезвычайно часто, что этих бедняков, потерявших всякое сознание, извозчики завозят в глухие переулки и, отобрав у них деньги и платье, бесчеловечно убивают. Но этот злой корень – пьянство – дает много других отпрысков самых ужасных злодейств…, так что в Москве не рассветет ни одного дня, чтобы на глаза прохожих не попадалось множество трупов убитых ночью людей. Особливо в торжественные дни годовых праздников и на масленице, когда москвитяне, запрещая себе мясо и питаясь одною рыбой и молочным кушаньем, приготовляются к строгости наступающего 40-дневного поста: в то время они пьянствуют напролет дни и ночи, не только по греческому обычаю, но чересчур уже и по русскому, напоминая не христианские духовные представления, а Бахусовы оргии: от страшного пьянства приходят в такое исступление и бешенство, что, совсем не сознавая своих дел или поступков, наносят раны друг другу и либо сами делаются убийцами, либо их убивают»[159 - Путешествие в Московию барона Августина Майерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи, послов августейшего Римского императора Леопольда к царю и великому князю Алексею Михайловичу в 1661 г., описанное самим бароном Майербергом. М.: Университет. тип. (Катков и Ко), 1874. С. 38, 79–80.].
Сэмюэл Коллинз, английский доктор, который с 1659 г. по 1666 г. был врачом был Алексея Михайловича, так живописал алкогольную проблему у русских: «На масленице, перед великим постом, русские предаются всякого рода увеселениям с необузданностью, и на последней неделе поста так много, как будто им суждено пить в последний раз на веку своем. Некоторые пьют водку, четыре раза перегнанную, до тех пор, пока рот разгорится и пламя выходит из горла, как из жерла адского; и если им тогда не дают выпить молока, то они умирают на месте. Гораздо благоразумнее, по моему мнению, поступают наши англичане: они держат от себя огонь в надлежащем отдалении, а именно на расстоянии трубки от носу… Некоторые, возвращаясь домой пьяные, падают сонные на снег, если нет с ними трезвого товарища, и замерзают на этой холодной постели. Если кому-нибудь из знакомых случится идти мимо и увидеть пьяного приятеля на краю погибели, то он не подает ему помощи, опасаясь, чтобы он не умер на его руках, и боясь подвергнуться беспокойству расследований, потому что Земский Приказ умеет взять налог со всякого мертвого тела, поступающего под его ведомство. Жалко видеть, как человек по двенадцати замерзших везут на санях; у иных руки объедены собаками, у иных лица, а у иных остались одни только голые кости. Человек двести или триста провезены были таким образом в продолжение поста. Из этого можете видеть пагубные последствия пьянства, болезни, свойственной не России одной, но и Англии»[160 - Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуила Коллинса, который девять лет провел при дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича // Чтения в Имп. общ-ве истории и древностей российских. М., 1846. С. 9.].
Досталось от него и украинским (черкасским) казакам: «Черкасы – … народ грубый и мрачный; женщины их очень некрасивы, грубы и преданы пьянству. Во время угощений они напиваются пьяны еще прежде, нежели начнут подавать кушанья: едою они протрезвляются, потом опять напьются, а потом опять протрезвятся пляскою; а пляску они так любят, что презирают того человека, у которого нет в доме скрипача. Правление их совершенно анархическое, потому что они, возмутившись, уничтожили все дворянское сословие и теперь управляются полковниками, ими самими избранными, с которыми всякий из них обходится запанибрата. Воинов они на своем языке называют казаками, почему ошибаются многие, считая казаков особенным народом. Черкасы очень преданы колдовству и считают его важной наукой. Им занимаются женщины высшего сословия. Черкасы гостеприимнее русских, и страна их теплее и лучше»[161 - Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуила Коллинса, который девять лет провел при дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича // Чтения в Имп. общ-ве истории и древностей российских. М., 1846. С. 12.].
Немецкий путешественник и мемуарист Ганс Мориц Айрман побывавший в России в 1666–1670 гг. (в период, когда патриарх Никон уже оставил свой пост) отметил следующее: «Трапезу свою – будь то в полдень или вечером – начинают они (русские) глотком водки, к этому у них имеется нечто вроде пряников, довольно скверного вкуса, а после еды также употребляют водку; у знатных людей из всех напитков более в почете испанское вино; рейнвейн у них не очень в ходу, но рейнскую водку они ввозят в большом количестве. Также пользуются в большом количестве медами, которых у них вследствие обилия меда много варится и дешево покупается. Есть у них также и пиво, но оно варено не по нашему способу, и я хочу вкратце рассказать об их приемах пивоварения. Сначала они заготовляют подобно нам солод, мелют его на мельницах и препарируют к варке; затем у них есть большие деревянные чаны, как у нас, которые мы употребляем для остужения или сливания пива, в них они кладут приготовленный солод и заливают наполовину горячей и наполовину холодной водой. А в это время у них уже заготовлено на большом очаге известное количество больших раскаленных булыжников; их они посредством трехзубой вилы ловко извлекают из раскаленных углей и кидают в залитый водой солод; каковые камни вскоре так доводят воду до кипения, как мы это у нас видим в котлах. Одновременно у них в большом котле кипятится хмель, и с ним варят пучки можжевельника; они добавляют в пиво хмель совсем, как мы, и остальное делают по-нашему, и это все выполняется у них немногими лицами, так что редко встретишь у владельца слугу или служанку, которые бы не умели варить пиво… и во всей стране они не умеют пользоваться другим способом варить пиво, как теми, которые я описал. И это пиво не только так же хорошо, как наше, но часто еще гораздо лучше»[162 - Записки Айрманна о Прибалтике и Московии 1666–1670 гг. // Исторические записки. М., 1945. Т. 17. С. 265–307.].
Работник шведского посольства в Москве в 1673–1674 гг. Иоганн Филипп Кильбургер описывал ситуацию с алкоголем в России к концу царствования царя Алексея Михайловича таким образом: «Водка принадлежит собственной царской торговле. Кто ею занимается тайком и пойман, должен наказываться кнутом. Царь имеет в разных местах по всему государству свои винокурные заводы, и сам содержит в Москве и около все пивные и водочные "кабаки", или кружала, а которые находятся далеко от Москвы в деревне и в местечках, он отдает в аренду. Однако его собственной водки недостаточно, а надо ежегодно покупать значительные партии от лифляндцев и черкассов. Последние привозят свою (водку) зимой в Москву на новый постоялый двор, или "Новый гостиный двор", а первые везут ее только до Пскова. В кабаках за один штоф лишь обыкновенной водки, или восьмую часть ведра, уплачивается от 8 до 13 копеек, но в аптеке она платится по весу, и стоит фунт самой плохой – 12 копеек; перегнанная тминная водка стоит 16 копеек, и говорят, что здесь водка продается до 50 копеек за фунт. Эта торговля ежегодно много приносит царю в казну… На базаре, или большой ярмарке, перед замком много винных погребов в один ряд под землею и принадлежат они отчасти его царскому величеству, а большею частью частным лицам. Однако там не продается никакого другого вина, кроме испанского и французского. Когда приходят вниз, тотчас подносят в маленьких стаканах разные пробы и за то, которое выбирают, крепко торгуются. Посуда называется "галенок" (русская мера вина, название произошло от испорченного английского слова "галлон" – 4,55 л), половина и четверть галенка. Они из луженой меди, без крышки, отвратительны, похожи на ночной горшок. Хозяева, как и все русские, очень услужливы и дают при покупке один маленький стакан вина, если это желательно. Галенок почти так велик, как шведский стооп (вероятно "storfavn" – 3, 77 л). Продается более всего красное французское вино и стоит от 10 до 42 коп., белое то же – 18 копеек. Галенок испанского вина от 24 до 27 коп. К напитку можно получить хлеб, изюм и миндаль. Каждый погреб должен ежегодно давать его царскому величеству 9 руб. "оброка", или налога… Все кабаки, винные, пивные и водочные кружала в таком обширном русском государстве принадлежат только его царскому величеству, и содержатели их должны отдавать отчет приказу "Большому приходу" (Приказу Большой казны). Отсюда и происходит то, что редко можно найти в кабаках хорошее пиво, и, несмотря на то, что ячмень, солод и хмель дешевы, все-таки пиво так дорого. Таких кабаков однако не так особенно много ни в Москве ни в стране, и я встретил по большой сухопутной дороге между Новгородом и Москвою на расстоянии более 500 верст не свыше 9–10. Даже находится много селений из 40, 50 и более очагов, в которых не найти ни капли пива. Оно мерится "ведрами" и "братинами" (сосуд для питья, имела вид горшка с покрышкою). Эта мера значительно меньше, чем шведский стооп, и считается 1/8 ведра (1,537 л). Почти каждый, а особенно все крестьяне, имеют слабый напиток, называемый "квасом". Он… не варится, а только замешивается из ржаного солода теплой водой, и всегда стоит в открытых сосудах, а по вечерам их опять доливают, что они выпили за день. Когда квас, наконец, становится слишком слабым и плохим, настаивают его заново, и это постоянно продолжается. Подобный квас имеется в продаже тоже в Москве на всех улицах. Равным образом все винокуренные заводы принадлежат царю, но не достаточны для снабжения кабаков, отчего его царское величество еще покупает ежегодно через своих "гостей" (купцов) большие партии водки от лифляндцев и черкассов. Русские славятся тем, что не только при кабаках, но также при каждом доме в городах летом находится ледник и лед, освежающий собою напитки, и они устраиваются таким образом: каждый год в марте в погреба навозят полно льду; потом он на месте, где должен лежать напиток, разбивается и затем поливается водою, которая за ночь замерзает, и, следовательно, он становится совсем гладким и ровным, а когда так скреплен, насыпают на него солому, которая способствует тому, чтобы лед в летнее время так быстро не таял, и чтобы также бочонки от сырости не могли портиться и гнить»[163 - Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича // Сборник студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира. Киев, 1915. Вып. 4. С. 179–180, 185.].
Секретарь австрийского посольства А.Ф. Баттони (которое приехало в нашу страну в 1675 г.) – Адольф Лизек увидел Россию такой: «Нынешний царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями. Он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько же любят его, сколько и благоговеют пред ним. Его беспримерные к нам милости достойны того, чтобы немецкие писатели увековечили его имя хвалами. Князья, бояре и все окружающие царя – люди умные, образованные, неустрашимые, подобно своему государю набожны, справедливы и с иностранцами необыкновенно ласковы. Но простой народ, подобно как и в других странах, склонен к порокам, скифски жесток, в делах торговых хитер и оборотлив, презирает все иностранное, а все свое считает превосходным; в обращении, исключая немногих, груб; к крепким напиткам так пристрастен, что пропивает обувь, верхнее и даже исподнее платье. Нам каждый день случалось видеть, как везли по три и по четыре пьяных. Не раз также мы были свидетелями, как мужья лежали пьяны без чувств, а жены садились возле них, и, снимая с себя одежду за одеждой, закладывали целовальнику на вино, и пировали до тех пор, пока теряли употребление рассудка и даже возможность пить, и тут же упадали на своих мужей. В употреблении пищи простой народ не знает никакой умеренности. На пиршествах не имеет нужды в музыке, только бы бренчал гудок. Но справедливость требует сказать, что гостеприимство есть общая добродетель русских, так что ничем нельзя скорее рассердить их, как отказавшись от угощения. Если к ним пожалует гость, то ласковый прием состоит в следующем: прежде всего поздороваются с гостем, а после женщина подносит стакан водки; гость должен выпить, поцеловаться с хозяевами, а часто и отдарить их… От неумеренного употребления крепких напитков, русские легко вдаются и ссоры, воровство, разные преступления и даже убийства»[164 - Статистическо-географическое описание российского государства в начале XVII столетия // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. № 11. С. 382.].
О напитках, которые употреблялись в России Адольф Лизек рассказал следующее: «Русские роскошны в кушаньях и любят хорошие напитки. Богатые употребляют дорогие вина, как то: испанское, французское и рейнское. За неимением винограда для вина русские делают квас, варят пиво и мед и гонят водку. Простой народ приготовляет квас, наливая отруби водою и бросая туда раскаленные камни и кирпичи. Мед варится из сотов, а лучший из вишен, черной смородины и терна. Этот напиток хорошо бы ввести в употребление и у нас. Приготовляют его следующим образом: немножко истолокши плоды, наливают водою и дают стоять несколько дней, потом, отцедивши на решето, прибавляют к жидкости четвертую, третью, а кто хочет и половинную часть меду; наконец сливают в бочку, и, положивши подожженных корок хлеба и опары, ставят в холодном месте, и чрез пять или шесть дней выходит прекрасный напиток, который употребляется на богатых пирах. Если бы в него прибавить сахару и пряностей, то был бы напиток самый вкусный и здоровый. Недостатки своей страны русские пополняют посредством торговли в Архангельском порту на Белом море, променивая иностранцам хлеб, меха, кожи, мед и воск. Голландцы, датчане, шведы, немцы, Ганза, татары, персы и поляки доставляют им вино, сукна, шелк, драгоценные камни, серебро и золото в таком множестве, что в целом государстве нет других денег, кроме серебряных и золотых»[165 - Статистическо-географическое описание российского государства в начале XVII столетия… С. 387.].
Путешественник и дипломат, уроженец Курляндии Якоб Рейтенфельс, в 1671–1673 гг. побывавший в России, подтвердил эти сведения: «Меж разного рода напитками первое место у них занимает… водка и пиво, которые они в большем количестве гонят посредством огня из хлеба, хотя сильно увеличивают этим цену на него. Правда, мосхи (московиты) утверждают, что им необходимо употреблять этот огненный напиток, который они пряностями и травами делают более приятным на вкус и более полезным для желудка, как средство против холодного климата своей страны. Один род медовой сыты они пьют сырым, другой – с прибавкою холодной воды и меда, третий – еще лучший – варенный на огне. Пиво они варят из овса, ячменя и хмеля, но оно крайне мутно и слабо, так что необходимо большое количество его, чтобы опьянеть. Простейшее и самое легкое питье, называемое на их языке квасом, они приготовляют из ржи и других сортов хлеба совершенно без хмеля. Летом они пьют воду, настоенную на яблоках, вишнях, малине и других вкусных ягодах и подслащенную медом. Вина, выписываемые ими в большом количестве из Испании, Франции, Германии, Греции, и астраханское они пьют редко, вполне довольствуясь своим медом и водкою. И хотя по всей Московии один лишь царь продает с громаднейшим барышом для себя мед, водку и пиво, предоставляя прочим подданным доход от виноградного вина и напитков, однако более знатным русским и иностранцам он в виде милости разрешает свободно варить пиво и иные питья для домашнего употребления. Если же кто вздумает воспользоваться этой милостью слишком широко и ради корыстных целей, то в первый раз он наказывается палочными ударами, во второй раз у него сверх наказания отбирается и напиток, им приготовленный, а совершивший этот проступок в третий раз платит пятьдесят рублей пени или же отправляется в ссылку в Сибирь… Невоздержанность в пище, которою они грешат как у себя дома, так и на торжественных пирах, до того обуяла их, что они этот гнусный порок считают удовольствием или необходимостью. Они думают также, что невозможно оказать гостеприимство или заключить тесную дружбу, не наевшись и напившись предварительно за одним столом, и считают поэтому наполнение желудка пищею до тошноты и вином до опьянения делом обычным и делающим честь. Большая часть богатых людей проводит день в спанье и еде и, благодаря бездействию, всю жизнь откармливаются. Такой образ жизни, пожалуй, освобождает их, как они довольно заманчиво выражаются, от душевных скорбей и расстройств, но на деле они, потопляя заботы, тонут и сами. В праздники им позволено, даже дано преимущественное право, напиваться безнаказанно допьяна; тогда можно видеть, как они валяются на улицах, замерзнув от холода, или развозятся, наваленные друг на друга, в повозках и санях по домам. Об этот камень часто спотыкается и слабый пол, а также и непорочность священников и монахов»[166 - Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии // Утверждение династии. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. С. 349.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: