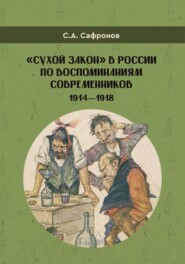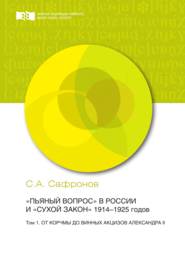По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Пьяный вопрос» в России и «сухой закон» 1914-1925 годов. Том 2. От казенной винной монополии С.Ю. Витте до «сухого закона»
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В целом в последний период существования винного акциза, введенного в период правления Александра II, было явственно заметно, что он не оправдал возложенных на него задач. Винзаводчики находили различные способы обходить многочисленные новшества, появившиеся в результате либеральных реформ и прекрасно адаптировались к новой системе. Коррупция опять начала проникать в органы власти и достигла примерно такого же уровня, как и при откупной системе. Государство можно было преспокойно обманывать и наживать при этом огромные капиталы. Население при акцизной система пило больше, так как стоимость водки подешевела, но доходы от продажи вина и водки увеличивались лишь с ростом населения и практически не превышали доходы при откупах. Борьба с финансовыми нарушениями при продаже и производстве спиртного не приносили большого успеха. Между тем российский бюджет требовал новых денежных поступлений. Подготовка к новому переделу мира вызывала необходимость модернизации армии, что существенно повышало затраты на ее содержание. Возникла необходимость введения казенной винной монополии.
1.2. Николай II – «маленький царь большой империи». Причины трагедии на Ходынском поле во время коронационных торжеств – водка или случайность?
Казенная винная монополия в России была введена с 1 января 1895 г. в период царствования Николая II Александровича. Он родился 6 мая 1868 г., в Царском Селе. Николай Александрович получил домашнее образование в рамках большого гимназического курса и в 1885–1890 гг. – по специально написанной программе, соединявшей курс государственного и экономического отделений юридического факультета университета с курсом Академии Генерального штаба. Учебные занятия Николая Александровича велись по тщательно разработанной программе в течение 13 лет. Особое внимание уделялось изучению политической истории, русской литературы, английского, немецкого и французского языков, которыми он овладел в совершенстве. Лекции читались выдающимися русскими учеными-академиками с мировым именем: Н.Н. Бекетовым, Н.Н. Обручевым, Ц.А. Кюи, М.И. Драгомировым, Н.Х. Бунге, К.П. Победоносцевым. В довершение образования отец выделил в его распоряжение крейсер для путешествия на Дальний Восток. За девять месяцев он со свитой посетил Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, а позднее – сухим путем через всю Сибирь возвратился в столицу России. В Японии на Николая Александровича было совершено покушение. По одной версии его ударил шашкой японский фанатик. Он удара у него откололся кусочек черепа. Его рубашка с пятнами крови хранится в Эрмитаже. Начав военную службу первые два года Николай Александрович служил младшим офицером в рядах Преображенского полка. Два летних сезона он проходил службу в рядах кавалерийского гусарского полка эскадронным командиром, а затем последовал лагерный сбор в рядах артиллерии. 6 августа 1892 г. он был произведен в полковники. Мундир полковника Николай Александрович носил всю жизнь.
Первая встреча Николая II с будущей супругой состоялась в 1884 г. (принцессой Викторией Алисой Еленой Луизой Беатрисой Гессен-Дармштадтская – дочерью великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории), а в 1889 г. он просил у отца благословения на брак с ней, но получил отказ так как все мужчины в ее роду болели гемофилией, болезнь эта попала в ее род от королевы Виктории. 14 ноября 1894 г. (через месяц после смерти Александра III) состоялось бракосочетание Николая II с немецкой принцессой Алисой Гессенской, принявшей после миропомазания имя Александры Федоровны. В последующие годы у них родились четыре дочери – Ольга (3 ноября 1895 г.), Татьяна (29 мая 1897 г.), Мария (14 июня 1899 г.) и Анастасия (5 июня 1901 г.). 30 июля 12 августа 1904 г. в Петергофе появился пятый ребенок и единственный сын – цесаревич Алексей Николаевич. Он болел гемофилией. Эту болезнь тщательно скрывали. По заключению врачей Алексей Николаевич дожил бы максимум до 23 лет.
Генерал Ю.Н. Данилов довольно точно обрисовал внешность Николая II: «Государь был невысокого роста (168 см), плотного сложения, с несколько непропорционально развитою верхнею половиною туловища. Довольно полная шея придавала ему не вполне поворотливый вид и вся его фигура, при движении, подавалась как-то особенно, правым плечом вперед. Император Николай II носил небольшую светлую овальную бороду, отливавшую рыжеватым цветом, и имел серо-зеленые спокойные глаза, отличавшиеся какой-то особой непроницаемостью, которая внутренне всегда отделяла его от собеседника. Может быть, это впечатление являлось результатом того, что император никогда не смотрел продолжительно в глаза лицу, с которым говорил. Его взгляд или устремлялся куда-то вдаль, через плечо собеседника, или медленно скользил по всей фигуре последнего, ни на чем особенно не задерживаясь. Все жесты и движения императора Николая были очень размеренны, даже медленны. Эта особенность была ему присущей, и люди, близко знавшие его, говорили, что государь никогда не спешил, но никуда и не опаздывал. Император Николай встречал лиц, являвшихся к нему, хотя и сдержанно, но очень приветливо. Он говорил не спеша, негромким, приятным грудным голосом, обдумывая каждую свою фразу, отчего иногда получались почти неловкие паузы, которые можно было даже понять, как отсутствие дальнейших тем для продолжения разговора. Впрочем, эти паузы могли находить себе объяснение и в некоторой застенчивости и внутренней неуверенности в себе. Эти черты государя выявлялись и наружно нервным подергиванием плеч, потиранием рук и излишне частым покашливанием, сопровождавшимся затем безотчетным разглаживанием рукою бороды и усов. В речи императора Николая слышался едва уловимый иностранный акцент, становившийся более заметным при произношении им слов с русской буквой "ять" (разговорным языком в его семье был английский). В общем, государь был человеком среднего масштаба, которого, несомненно, должны были тяготить государственные дела и те сложные события, которыми полно было его царствование… Простой в жизни и в обращении с людьми, безупречный семьянин, очень религиозный, любивший не слишком серьезное чтение, преимущественно исторического содержания, император Николай безусловно, хотя и по своему, любил Россию, жаждал ее величия и мистически верил в крепость своей царской связи с народом»[53 - Данилов Ю.Н. Мои воспоминания об императоре Николае II и великом князе Михаиле Александровиче // Архив русской революции. Берлин, 1928. Т. 19. С. 212–242.].
Николай II был совершенно не похож на своего отца – императора Александра III. По воспоминаниям великого князя Александра Михайловича «будущий император Николай II рос в напряженной атмосфере вечных разговоров о заговорах и неудавшихся покушениях на жизнь ею деда императора Александра II. Пятнадцати лет он присутствовал при его мученической кончине, что оставило неизгладимый след в его душе. Николай II был мальчиком общительным и веселым. Детство его протекало в скромном Гатчинском дворце в семейной обстановке, среди природы, которую он очень любил. Его воспитатели были сухой, замкнутый генерал, швейцарец-гувернер и молодой англичанин, более всего любивший жизнь на лоне природы. Ни один из них не имел представления об обязанностях, которые ожидали будущего императора Всероссийского. Они учили его тому, что знали сами, но этого оказалось недостаточным. Накануне окончания образования, перед выходом в лейб-гусарский полк будущий император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, который принял бы его по знанию английского языка за настоящего англичанина. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий языки. Остальные его познания сводились к разрозненным сведениям по разным отраслям, но без всякой возможности их применять в практической жизни. Воспитатель-генерал внушил, что чудодейственная сила таинства миропомазания во время священного коронования способна была даровать будущему российскому самодержцу все необходимые познания»[54 - Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний // Иллюстрированная Россия. Париж, 1933 С. 109–115.].
Социал-демократ С.А. Цион (псевдоним – Антон Горемыка) описал в своей книге очень интересные увлечения будущего царя: «Будучи наследником, он находился под влиянием своего дяди великого князя Сергея Александровича, … и последний успел в короткое время совершенно развратить будущего русского царя. В Петербурге не было ни одного великосветского притона, ни одной высокопоставленной проститутки, где нельзя было встретить молодого Николая II. Почти ежедневно он устраивал с Сергеем вакхальные оргии, которые гремели на весь Петербург и часто случалось, что гвардейские офицеры уносили его на руках домой, бесчувственно пьяного… К тому времени относится его роман с одной петербургской дамой из среднего сословия столицы. Красавица – девушка, иностранка, молодая еврейка, прекрасная как Юдифь, полонила сердце молодого наследника. Услужливые друзья помогли ему познакомиться с заинтересовавшей его девушкой… Николай сумел стать любовником этой девушки… Связь их была довольно продолжительна… Но ничто не вечно под луною… Нашлись добрые люди, которые донесли Александру III, что его сын живет с еврейкой… Александр III… пришел в ужас и решил принять надлежащие меры. На семейном совете решено было выслать девушку административным порядком в 24 часа из пределов России, и обер-полицмейстеру Грессеру предложено было привести высочайшее повеление в исполнение. Когда Грессер явился с приказом об административной высылке к красавице-еврейке, то та, улыбаясь, пригласила его в свой будуар, где уже находился наследник-цесаревич… "Коля, – сказала девушка, обращаясь к Николаю, – посмотри, в чем там дело!" Николай вырвал из рук Грессера приказ, разорвал его и указал обер-полицмейстеру Петербурга – дверь… Грессер, огорченный тем, что ему не удалось успешно выполнить возложенное на него поручение, отправился домой и подал прошение об отставке. Тем не менее девушка была выслана из Петербурга, и жандармы провожали ее до границы… отец… послал в наказание своего сына в далекое продолжительное путешествие в Японию»[55 - Горемыка А. Николай II, его личность, интимная жизнь и правление. Лондон, 1906. С. 5–6.].
«Смерть отца, – продолжал Александр Михайлович, – застала его командиром батальона лейб-гвардии Преображенского полка в чине полковника, и всю свою жизнь он остался в этом сравнительно скромном чине. Это напоминало ему его беззаботную молодость, и он никогда не выражал желания произвести себя в чин генерала. Он считал недопустимым пользоваться прерогативами своей власти для повышения себя в чинах. Его скромность создала ему большую популярность в среде офицеров-однополчан. Он любил принимать участие в их вечерах, но разговоры офицерских собраний не могли расширить его умственного кругозора. Общество здоровых, молодых людей, постоянной темой разговоров которых были лошади, балерины и примадонны французского театра, могло быть очень приятно для полковника Романова, но будущий российский монарх в этой атмосфере мог приобрести весьма мало полезного. В семейной обстановке он помогал отцу строить дома из снега, рубить лес и сажать деревья, так как доктора предписали Александру III побольше движения. Разговоры велись или на тему о проказах его младшего брата Михаила, или же о моих успехах в ухаживании за его сестрой Ксенией. Все темы о политике были исключены. Поэтому не было случая увеличить запас знаний. В царской семье существовало молчаливое соглашение насчет того, что царственные заботы царя не должны были нарушать мирного течения его домашнего быта. Самодержец нуждался в покое. Монарх, который сумел обуздать темперамент Вильгельма II, не мог удержаться от смеха, слушая бойкие ответы своих младших детей»[56 - Там же. С. 109–115.].
По утверждению заместителя Министра внутренних дел в будущем правительстве С.Ю. Витте князя С.Д. Урусова, за два года до смерти Александр III заболел «инфлюэнцией» после чего его здоровье быстро «пошло под гору». Это очень долго скрывали, и новость долго не проникала за стены царского дворца. Александр III сильно изменился, похудел, стал злым и мстительным, «реакционная система усиливалась и наконец достигла той степени, какая характеризует маньяка». У приближенных царя даже возникла дерзкая мысль удалить Александра III на такое расстояние от Санкт-Петербурга, чтобы устранить его физическое участие в управлении государством. Местом его пребывания сначала выбрали Беловежье, потом – Спалу, а затем – Ливадию. Существовал также проект перевезти его на остров Корфу. Однако больной царь воспротивился этому. Между тем состояние его здоровья ухудшалось, и он согласился уехать в Ливадию. Смертельно больной Александр III продолжал работать, «засыпая над бумагами». Заграничные газеты уже вовсю писали о его будущей смерти и о том, как она повлияет на судьбу Европы. Последним делом Александра III было редактирование будущего Манифеста о восшествии на престол Николая II, где главной темой проходило требование преданности русского народа престолу[57 - Князь У… Император Николай II. Жизнь и деяния венценосного царя. Лондон, 1910. С. 36–40.].
О смерти Александра III российские подданные узнали из иностранных газет, одновременно с этими сообщениями в Исакиевском соборе Санкт-Петербурга служились молебны о «выздоровлении» уже умершего царя. Наконец, о его смерти было объявлено, и народ начал приносить присягу новому царю Николаю II. Однако произошел скандал. Марь Николая II, императрица Мария Федоровна, отказалась ему присягать. Министры и придворные «совершено растерялись от такой неожиданности». Дело принимало тревожный характер. Запахло дворцовым переворотом, на который рассчитывал великий князь Владимир Александрович (третий сын императора Александра II). Волнение достигло наивысшего предела, никто не решался обратиться к Марии Федоровне с требованием принести присягу. Наконец, в отчаянии придворные обратились к Одесскому генерал-губернатору А.И. Мусину-Пушкину, известному своей храбростью. Тот в сопрождении придворных вошел к императрице, «громко провозгласил императором Николая II, ободренные придворные поддержали его, и императрице ничего не оставалось, как преклониться перед совершившимся фактом… ее партия, с Воронцовым-Дашковым во главе, оказалось совершенно бессильной»[58 - Там же. С. 46–47.].
Чем же был вызван столь отчаянный шаг Марии Федоровны? По мнению князя С.Д. Урусова, мать наследника опасалась, что «освободившийся от родительской опеки молодой царь» попадет «под влияние либералов» (Александр III отметил в 1892 г., когда наследнику было уже 24 года: «Он совсем мальчик, у него совсем детские суждения»). Следует отметить, что эти опасения были не напрасными. Либералы действительно ожидали от Николая II «чего-нибудь лучшего», чем «режим насилия, окриков и ударов». «Надежды зашевелились» сразу же после приезда нового царя из Ливадии в Санкт-Петербург. Новый император выразил недовольство полицией, «оттирающей» от него народ, не захотел ездить среди «шпалер солдат и шпионов», милостливо призвал поляков, которых не хотели к нему пускать. Во время поездки в Лондон он сказал депутации евреев, что «не любит религиозных и национальных гонений»[59 - Князь У… Император Николай II. Жизнь и деяния венценосного царя… С. 48–49.].
Русский историк и публицист, журналист С.С. Ольденбург отметил следующее: «Государя императора Николая Александровича мало знали в России ко времени его восшествия на престол. Мощная фигура императора Александра III как бы заслоняла наследника цесаревича от глаз внешнего мира. Конечно, все знали, что ему 26 лет, что по своему росту и сложению он скорее в свою мать, императрицу Марию Федоровну; что он имеет чин полковника русской армии, что он совершил необычное по тому времени путешествие вокруг Азии и подвергся в Японии покушению азиатского фанатика. Знали также, что он помолвлен с принцессой Алисой Гессенской, внучкой королевы Виктории, что его невеста прибыла в Ливадию перед самой кончиной императора Александра III. Но облик нового монарха оставался обществу неясным… Император Николай II… обладал совершенно исключительным личным обаянием. Он не любил торжеств, громких речей; этикет ему был в тягость. Ему было не по душе все показное, искусственное, всякая широковещательная реклама (это также могло почитаться некоторым недостатком в наш век!). В тесном кругу, в разговоре с глазу на глаз он зато умел обворожить своих собеседников, будь то высшие сановники или рабочие посещаемой им мастерской. Его большие серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу. Эти природные данные еще более подчеркивались тщательным воспитанием»[60 - Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Мюнхен, 1949. С. 31.].
По свидетельству действительного статского советника И.И. Колышко, «вступив на престол еще более "неожиданно", чем его отец, Николай II знал Россию лишь по урокам Победоносцева (гражданское право) и Витте (политическая экономия) и по своему короткому путешествию на Восток… Царствование Николая II, как и его прадеда, началось с либеральных веяний… Чуть ли не с первых дней этого царствования в Царское Село стали ездить два ничего общего между собой не имевших человека: земский статистик Клопов и редактор "Петербургских ведомостей" князь Э. Ухтомский… Князь Ухтомский был одним из лиц, сопровождавших царя, тогда еще наследника, в его путешествии на Дальний Восток. Путешествие это, как известно, закончилось покушением японского фанатика, после чего наследник был спешно вызван обратно и уже ни в какие путешествия не выпускался… А с воцарением Николая II… стал во главе тогдашних либеральных кружков. Было время, когда гранки набора "Петербургских ведомостей" отсылались на просмотр в Царское Село. Царь стал как бы редактором газеты. А в состав своей редакции Ухтомский пригласил известнейших тогдашних столпов радикализма (во главе с Ашешовым). Была таким образом налажена оригинальная связь между самодержавием и революцией. Под двуглавым орлом печатались статьи, которых не решались печатать левые газеты. А ближайшие к Александру III лица, во главе с князем Мещерским, очутились в опале… Конец этим затеям положил Победоносцев при содействии графов Шереметева и Воронцова и императрицы Марии Федоровны. Из Царского Села был изгнан Клопов, а из редакции "Петербургских ведомостей" – революционеры. Ухтомский мгновенно перекрасился в правого… Витте написал свою нашумевшую книгу против земств. Царь произнес перед делегацией от земств свою речь о "бессмысленных мечтаниях". На смену либеральствовавшему Горемыкину был выдвинут Шереметевым обер-реакционер, близкий родственник князя Мещерского, Сипягин. А этот последний наладил примирение царя с издателем "Гражданина". Словом, был восстановлен во всей чистоте культ Александра III. Мечты царя о славе эмансипатора России разбились. Но их поспешили заменить другими»[61 - Колышко И.И. Великий распад. Воспоминания… С. 40–43.].
Постепенно «связь князя Мещерского с Царским Селом стала настолько тесной, что стороны перешли на "ты". Влияние императрицы-матери и дворцовой "камарильи" стушевалось. Закадычный друг князя Мещерского, адмирал Нилов, став флаг-капитаном его величества, разъезжал между Петербургом и Царским Селом, обменивая настуканные на машинке послания князя Мещерского (у Мещерского был такой почерк, что царь однажды взмолился: "Пожалей меня, разобрать твои каракули я не в силах") – на послания царские, каллиграфически написанные и запечатанные печатью с двуглавым орлом. В одном из таких пакетов в начале 1900-х гг. появилось письмо с заглавной дважды подчеркнутой фразой: "Я уверовал в себя!". "Союз" самодержца с подданным был типичен личными чертами "союзников". Мещерский брюзжал и капризничал, а царь истеризировал: "Не могу же я во всем тебя слушаться", – писал он "союзнику". Мещерский ослаблял нажим. Только лишь в отношении к Витте Мещерский не сдавался. Трижды царь за спиной своего "союзника" подписывал отставку Витте, но, застигнутый "союзником" (которого Витте предупреждал), рвал отставку и подписывал сочиненный Мещерским благодарственный рескрипт. Эта самоотверженная настойчивость Витте не спасла, а "союзу" Мещерского с царем нанесла почти смертельную рану»[62 - Колышко И.И. Великий распад. Воспоминания… С. 41–42.].
В.И. Гурко, заместитель министра внутренних дел П.А. Столыпина, вспоминал о абсолютном внешнем спокойствии Николая II: «Внешний индифферентизм государя, его кажущаяся бесстрастность сильно вредила его популярности, способы создания которой были ему вообще совершенно чужды. Так, в Петербурге с возмущением передавали о том, как государь легко отказался в пользу Японии, ради заключения с ней мира, от половины острова Сахалина. Посол Северо-Американских Штатов, по совету которого была сделана эта уступка, приехал во дворец, когда царь играл в теннис. Когда доложили о приезде посла, он спокойно прекратил игру, а затем после переговоров с ним, решивших судьбу Сахалина, вернулся к прерванной партии, не выказывая ни малейшего волнения. Утверждали также, что он отнесся спокойно, если не равнодушно, к гибели нашего флота в 1905 г. у Цусимы»[63 - Гурко В.И. Царь и царица. Париж: Возрождение, 1927. С. 13.].
Распорядок семьи Николая II был такой: вставали в 8–9 утра (Александра Федоровна – в 11 часов), будила их прислуга стуком деревянного молотка в дверь. У царя был свой кабинет, у царицы – свой. Первый завтрак начинался в 9 часов, второй – в 13, обед – в 20, длился полтора часа, до половины десятого вечера (обычай из Дании). Рабочий день начинался с утра до 2–3 часов дня (6–8 часов в день). Своего секретаря у него не было (у Александры Федоровны – был), поэтому он ставил печати сам, а иногда поручал это дело камердинеру. У Александры Федоровны было больное сердце и ревматизм. Она месяцами не вставали с постели. Свою болезнь она оценивала по трехбалльной шкале: «единица», «двойка», «тройка». Начиная с «двойки» к ней заходить было нельзя.
На завтрак подавали чай, подсушенный хлеб (тосты), масло, английские бисквиты, тортильи (лепешки), редко – пирожные. Александра Федоровна была вегетарианкой и не прикасалась к мясу и рыбе. Ела сыр, масло, яйца, иногда выпивала бокал вина с водой. Перед дневным завтраком и обедом подавали закуски – осетрину и икру. Перед вторым завтраком Николай II выпивал рюмку водки, в основном «сливовицы». Во время перекусов ели стоя. Во время войны в Ставке за завтраком пил мадеру и красное крымское вино. В обед – мадеру, красное французское и белое удельное. По торжественным дням шампанское – «Абрау-Дюрсо». Рядом с царем всегда стояла бутылка дорогого вина, из которой он пил один и иногда угощал великого князя Николая Николаевича. Второй завтрак состоял из мяса, рыбы, нескольких сортов вина. Николай II не любил икру и рыбу. На обед была рыба, мяса, овощи, десерт. Во время обеда Николай II выпивал 1 или 2 бокала портвейна. После обеда – кофе, пили стоя. Во время кофе он курил.
Из всех царей Николай II был, пожалуй, самым заядлым курильщиком. Курил он преимущественно папиросы, набитые первоклассным турецким табаком. В списке императорских поставщиков с 1895 г. значились два поставщика, подданные Османской империи, специализировавшихся именно на поставках табака для российского императора. Николай II, как заядлый курильщик, видимо очень дорожил своим запасом табака, который ему доставлялся из Турции, в виде подарка от султана. До Первой мировой войны Николай II угощал всех сигаретами, но во время войны поставки сигарет из Турции прекратились, приходилось быть экономным и он перестал это делать. В 1914 г. возникла первая крупная российская табачная монополия, «Санкт-Петербургское торгово-экспортное акционерное общество». Организация включала 13 табачных фабрик в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Феодосии и производила 56 % табачных изделий, выпускаемых в России. Большие плантации в России засевались только в Кубанской области. В остальных районах преобладало мелкое (участки менее десятины) огородничество. Мелкие производители продавали высушенный табачный лист оптовикам-посредникам, а те уже везли его на фабрики, где табачный лист сортировался по качеству и резался. Поскольку родина табака – субтропики, климат России для него был неблагоприятен, что отражалось на качестве продукта. Больше половины табачного листа шло в третий сорт. Поэтому табаки высших сортов приходилось докупать в Турции и Америке. Основным продуктом, который выпускали табачные фабрики, был фасованный курительный табак разных сортов. Потребители курили его в трубках, самокрутках либо набивали в отдельно купленные папиросные гильзы. Производились также папиросы, нюхательный табак, сигары, сигареты. Сигары, сигареты, курительный табак первого сорта и папиросы первого сорта (т. е. дорогие, «элитные» изделия) фабрикантам продавались по «вольным» ценам. А вот на папиросы и табак второго и третьего сортов государством в законодательном порядке были установлены предельные цены. Фабрикант обязан был указывать их на каждой пачке выпускаемых изделий. Продавать дороже ни фабрикант, ни розничный торговец не имели права. На упаковку любых табачных продуктов фабрикант был обязан наклеить «бандероль» – ярлык об уплате акциза. Дорогому продукту соответствовала дорогая бандероль: табачные изделия для оклейки их бандеролями разделялись соответственно установленным государством продажным ценам на три (табаки) или два (папиросы) сорта. Фабриканты покупали бандероли у государства. В этом и заключалась оплата акциза. Поскольку бандероли на табак третьего сорта были дешевле, чем другие, их отпускали только по свидетельствам акцизного управления «о количестве, в котором означенные бандероли могут быть приобретены фабрикантом». А это количество зависело от выпущенного фабрикантом табака первого сорта. На фунт первосортного табака можно было выпустить два фунта табака третьего сорта и получить соответствующее количество дешевых бандеролей. Табачный акциз являлся важным средством пополнения казны. Папиросную бумагу обычно использовали любители дорогих табаков. Гильзы также употребляли обеспеченные курильщики. Они предпочитали отдельно покупать хороший табак, отдельно гильзы и лично набивать папиросы. Гильзы для папирос «домашней выделки» производились на специальных гильзовых фабриках, в гильзовых мастерских, а также отдельными кустарями. Кроме того, кустари-одиночки (обычно женщины) не только клеили гильзы, но и набивали их табаком, а потом продавали врассыпную. «Домашнее» производство папирос составляло серьезную конкуренцию фабричному. По данным депутата III Государственной думы октябриста Карякина, в 1905 г. «домашним способом» выделывалось 40 млрд папирос, а фабричным – только 12 миллиардов. Таким образом, табачные фабриканты были лишены кустарями громадного рынка. Отобрать его фабриканты не могли, так как папиросы, набитые самими потребителями или кустарями (женщины-«папиросницы»), были заведомо дешевле фабричных, поскольку не облагались акцизом[64 - Селезнев Ф.А. Конституционные демократы и обсуждение «табачных» законопроектов в Государственной думе (1906–1909 гг.) // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 1. С. 213.].
Генерал-лейтенант А.А. Мосолов красочно описал механизм императорской кухни: «Все, что относилось к столу и к церемониалу обедов и завтраков, находилось в заведовании гофмаршала двора графа Бенкендорфа. У него было два помощника – князь Путятин и фон Боде, которым присвоена была кличка "полковники от котлет"… Стол разделялся на три категории, или класса: 1) стол их величеств и их непосредственной свиты; 2) стол гофмаршала, для свиты не непосредственной и для сановников, приглашенных ко двору; 3) стол прислуги с двумя подразделениями соответственно чинам. Первый стол предназначался для лиц, специально приглашенных их величествами. Если особа, представлявшаяся их величествам, не получала приглашения к столу, то она довольствовалась у гофмаршала. Первый завтрак подавался в апартаментах. Он состоял из кофе, чая, шоколада – по выбору. Приносили также масло, разные сорта хлеба (обыкновенный, сдобный, сладкий). Всякий мог потребовать себе ветчины, яиц, бекона. Затем приносились еще калачи. Это была традиция, веками установленная и сугубо освященная поощрениями государыни, очень полюбившей именно калачи… Завтрак подавали в полдень. В Ливадии и во время охоты свита садилась за высочайший стол в полном своем составе. В столовую надо было являться за 5 минут до назначенного времени. Государь входил, здоровался с присутствующими лицами и отправлялся к столу с закусками. Всякий брал, что хотел, и ели их стоя. Из закусок перечислю: икра, балыки, селедка и "канапе", т. е. маленькие сандвичи. Подавались также два или три сорта закусок горячих: сосиски в томатном соусе, горячая ветчина, "драгомировская каша" и т. д. Государь выпивал две рюмки водки и брал себе чрезвычайно маленькие порции закусок. Государыня считала негигиеничным начинать завтрак с еды стоя и никогда не подходила к столу с закусками. Все это продолжалось около 15 минут. Фрейлины подходили по очереди к государыне, которая разговаривала с каждой из них. После закуски всякий садился на предназначенное ему место. Искать это место в присутствии их величеств не полагалось: рекогносцировка поэтому производилась заблаговременно… Во время завтрака подавались два блюда, каждое в двух видах: яйца или рыба, мясо белое или черное. У кого был очень хороший аппетит, те могли получать все четыре блюда. Ко второму блюду подавали овощи, для которых имелись особые добавочные тарелки весьма оригинальной формы – в виде четверти луны. В конце завтрака подавались компоты, фрукты и сыр. Лакей, державший блюдо, должен был класть вам надлежащую порцию на тарелку: таким образом, мужчинам не приходилось услуживать дамам. Но государь всегда брал с блюда сам, другие стали ему подражать, и прежний обычай понемногу стал изменяться… Когда не было приглашенных, кофе подавался за тем же столом. В 5 часов вечера чай подавали в апартаментах… Выходя к обеду в 8 часов вечера, их величества здоровались с теми лицами, которых им не пришлось видеть в течение дня. Я всегда себя спрашивал: как это они устраивались, чтобы никогда не ошибиться… В Ливадии вечером не подавали закусок. Во время охот, наоборот, подавались особо обильные закуски. Обед начинался с супа с маленькими волованами (пикантная закуска приготовленная из слоеного теста в форме башенки, полая внутри – прим. автора), пирожками или небольшими гренками с сыром… Затем шли: рыба, жаркое (дичь или куры), овощи, сладкое, фрукты. Кофе подавался в столовой. Конечно, в торжественных случаях число блюд увеличивалось соответственно общим правилам интернациональной кухни. Как питье подавали мадеру, белое или красное во время завтрака (пиво, по желанию), за обедом давали разные вина, как это делается во всем цивилизованном мире. К кофе – ликеры… За завтраком государь пил только мадеру: большую рюмку особо выбранной для него марки. Бутылка мадеры всегда ставилась перед прибором царя. Он не любил, чтобы ему наливал вино лакей, "всегда слишком деловитый и услужливый". Царь наливал себе вино сам. Всем остальным лакеи наливали мадеру, белое и красное вино, как это принято в известном порядке за границей. За обедом было более разнообразия в винах. Все эти вина были превосходны. Но имелся еще заповедный погреб, "запасной", в котором содержались, так сказать, вина выдающихся годов. Граф Бенкендорф зорко наблюдал за этим заповедным погребом, настоящим предметом наших вожделений. Чтобы добраться до этого погреба, надо было пускаться на хитрости. Надо было, чтобы сам министр двора заговорил о заповедном погребе. Для сего требовался приличный предлог. Брался календарь и отыскивались святые. Когда оказывалось подходящее имя, отправлялись к Фредериксу и объясняли ему, как обстоит дело. Он призывал Бенкендорфа и говорил ему: "У меня сегодня семейный праздник. Вы уж не откажите нам в бутылочке старого винца". "Боже мой! Эти вина берутся на случай больших торжеств…". Приходилось слегка поторговаться и в конце концов на столе появлялись стаканы "особого назначения". Заметив их, государь смеялся: "Опять совершеннолетие племянницы. Интересно знать, кто об этом первый вспомнил… Держу пари, что Нилов или Трубецкой…". Фредерикс особенно любил некий "Шато-Икем", именовавшийся нектаром. Не было никакой надежды получить стакан нектара, если на обеде присутствовала государыня. Заповедный погреб погиб во время Октябрьской революции. Подвалы Зимнего дворца были разгромлены. Чего не могли выпить, то вылили на мостовую. Тела пьяных лежали кучами. Площадь Зимнего дворца походила в эту ночь на настоящее поле сражения»[65 - Мосолов А.А. При дворе императора. Рига: Филин, 1938. С. 59–61.].
Николай II чувствовал себя наиболее свободно и уверенно именно в офицерской среде. Очень любил физически труд на свежем воздух, рубил, для моциона дрова и много работал у себя в Царском Селе в парке. Верховой езды он не любил, но зато много и неутомимо ходил, приводя этой своей способностью в отчаяние своих флигель-адъютантов, не всегда своим сложением подходивших для столь длинных и утомительных прогулок. Дома Николай II ходил в простой красной русской рубахе, с мягким воротником, в высоких шагреневых сапогах, подпоясанный кожаным ремнем. Большую часть времени Николай II жил с семьей в Александровском дворце. Осенью, когда Россия уже была покрыта снегом, он отдыхал в Крыму в Ливадийском дворце, очень любил долгие прогулки в горах. Для отдыха также ежегодно совершал двухнедельные поездки по Финскому заливу и Балтийскому морю на яхте «Штандарт». Романовы бродили по лесам, собирали ягоды и цветы, устраивали пикники. Николай II любил бывать в Финляндии, заходил в села, беседовал с крестьянами. Читал он как легкую развлекательную литературу, так и серьезные научные труды, часто на исторические темы. Николай II увлекался фотографией, любил также смотреть кинофильмы. Фотографировали также и все его дети. Также у него было 11 собак.
Довольно распространено мнение, что Николай II злоупотреблял спиртными напитками. Ю.Н. Данилов отрицал это: «Еще в 1904-м г., во время частых железнодорожных путешествий государя по России, равно как в различные периоды мировой войны, мне приходилось много раз быть приглашаемым к царскому столу, за которым картина была всегда одинаковой. Не существовало, конечно, … "сухого" режима… Государь подходил к закусочному столу; стоя, выпивал он, по русскому обычаю, с наиболее почетным гостем одну или много две чарки обыкновенного размера особой водки "сливовицы"; накоротке закусывал, и, после первой же чарки, приглашал всех остальных гостей следовать его примеру. Дав время всем присутствовавшим закусить, император Николай II переходил к обыденному столу и садился посередине такового, имея неизбежно против себя министра двора, по наружному виду чопорного и накрахмаленного графа Фредерикса, в действительности же очень доброго и приветливого старика. Остальные приглашенные усаживались по особым указаниям гофмаршала. Обносимые блюда не были многочисленны, не отличались замысловатостью, но бывали прекрасно приготовлены. Запивались они обыкновенным столовым вином, или яблочным квасом, по вкусу каждого из гостей. Государь за столом ничего не пил и только к концу обеда отливал себе в особую походную серебряную чарку один–два глотка какого то особого хереса или портвейна из единственной бутылки, стоявшей на столе вблизи его прибора. Ту же бутылку он передавал наиболее редким и почетным гостям, предлагая отведать из нее. Никаких ликеров к кофе не подавалось… Я совершенно уверен, что рассказы о царских излишествах являлись плодом фантазии недобросовестных рассказчиков и полагаю, что в основе этих сплетен лежал, по-видимому, факт посещения от времени до времени государем, во время проживания его в Царском Селе, офицерских собраний некоторых гвардейских частей. Но ведь, казалось бы, что каждый, несущий известный труд, имеет право на отдых среди именно тех людей, общество коих доставляет ему удовольствие! Император Николай любил изредка "посидеть" в полковой среде и весьма возможно, что это сидение могло быть когда либо и более длительным, чем это разрешалось понятиями злонамеренных рассказчиков»[66 - Данилов Ю.Н. Мои воспоминания об императоре Николае II и великом князе Михаиле Александровиче… С. 212–242.].
По воспоминаниям великого князя Александра Михайловича, доходы и расходы царя распределялись следующим образом: «Личные доходы императора Николая II слагались из следующих трех источников: 1) ежегодные ассигнования из средств Государственного казначейства на содержание императорской семьи. Эта сумма достигала одиннадцати миллионов рублей; 2) дохода от удельных земель; 3) проценты с капиталов, хранившихся за границей в английских и германских банках. В удельные имения входили сотни тысяч десятин земли, виноградники, охоты, промыслы, рудники, фруктовые сады и пр., приобретенные главным образом во второй половине восемнадцатого столетия прозорливой Екатериной II. Порядок управления удельными имениями был регламентирован императором Павлом I. Общая стоимость этих имуществ достигала ста млн руб. золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей 2 500 000 руб. в год… "Мертвый капитал" императорской семьи оценивался в сумме 160 000 000 руб., соответствующей стоимости драгоценностей Романовых, приобретенных за триста лет их царствования… Государь император мог рассчитывать получить в начале каждого года сумму, равную 20 млн руб. Для каждого частного лица с самыми взыскательными вкусами – это была, конечно, громадная сумма, но тем не менее сумма эта совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании царской фамилии и содержании дворцов и дворцовых музеев и парков. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 200 000 pyб. Каждой из великих княжен выдавалось при замужестве приданое в размере одного миллиона рублей. Каждый из князей или княжон императорской крови получал при рождении капитал в миллион рублей, и этим все выдачи ему исчерпывались. Эти значительные суммы очень часто расстраивали сметные предположения, так как выдача их зависела от непостоянного числа великих князей, от числа браков и рождений в императорской фамилии. Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, министерству двора приходилось содержать пять больших дворцов. Зимний дворец в Cанкт-Петербурге… обслуживал персонал в 1 200 человек придворных служителей и лакеев… Трем тысячам дворцовых служащих нужно было платить ежемесячно жалование, давать стол, обмундирование, а вышедшим в отставку – пенсии… Гофмаршал, церемониймейстеры, егеря, скороходы, гоф- и камерфурьеры, кучера, конюхи, метрдотели, шоферы, повара, камер-лакеи, камеристки и пр. – все они ожидали два раза в год подарков от царской семьи: на рождество и в день тезоименитства государя. Таким образом, ежегодно тратилось целое состояние на золотые часы с императорским вензелем из бриллиантов, золотые портсигары, брошки, кольца и другие драгоценные подарки. Затем шли Императорские театры: три в Петербурге и два в Москве… Чтобы высоко поддерживать знамя русского искусства, императорской семье надо было ежегодно расходовать 2 млн руб. … Такую же значительную материальную поддержку требовала и Императорская Академия художеств… Далее шла самая разнообразная благотворительность, ложившаяся на личные средства государя… Если принять во внимание расходы императорской семьи, то деньги, которые расходовались на увеселения и представительство, покажутся весьма незначительными. Сравнительно незначительная стоимость, придворных балов и обедов, которые давались несколько раз в год, объяснялась тем, что для их устройства не требовалось делать специальных покупок и не надо было нанимать в помощь особой прислуги. Вино доставлялось Главным управлением уделов, цветы – многочисленными оранжереями дворцового ведомства, оркестр музыки содержался постоянно Министерством двора. То, что боле всего поражало приезжавших иностранцев, которые получали приглашения на придворные балы, это скорее окружавшая их пышность, нежели значительность произведенных расходов… На личные нужды государю оставалось ежегодно около 200 тысяч руб. … Как это ни покажется маловероятным, Самодержец Всероссийский испытывал материальные затруднения регулярно каждый год задолго до конца сметного периода. Это происходило оттого, что ему на непредвиденные расходы нужно было значительно более 200 тыс. руб. ежегодно. Для разрешения этих затруднений у него было два пути. Или же расходовать 200 млн руб., хранившихся на текущем счету в Английском банке, или же прибегнуть к помощи министра финансов. Государь предпочитал обычно избегать эти оба пути и просто говорил: "Мы должны жить очень скромно последние два месяца". Выросши и будучи в сознавании своих обязанностей по отношению к Pоссии, царь, ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все эти 200 млн руб. на нужды раненых и увечных и их семей»[67 - Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний… С. 131.].
Коронация в 1896 г. Николая II запомнилась не цепью торжеств и парадных обедов. Через четыре дня в обиход раз и навсегда вошло страшное слово «Ходынка». Ходынское поле (до XVII в. «Ходынский луг») известно с XIV в., первое упоминание о котором датируется 1389 г., когда Дмитрий Донской завещал подмосковный Ходынский луг своему сыну Юрию Дмитриевичу. Долгое время поле оставалось незастроенным, на нем располагались пахотные земли ямщиков Тверской слободы. В начале XVII в. войска царя Василия Шуйского сражались здесь с отрядами Лжедмитрия II. Позднее на Ходынском поле десятки лет проводились праздничные мероприятия. А началась эта традиция в 1775 г., когда Екатерина II решила отметить заключение крайне выгодного Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией. По рисункам великого В.И. Баженова поле было распланировано в виде берегов Черного моря. В местах, где располагались турецкие крепости, были устроены различные увеселительные заведения: театры, балаганы, закусочные и пр. Все строения были выполнены с размахом, но после окончания праздника пошли на слом, так как были построены из дерева. В дальнейшем Ходынское поле неоднократно использовалось для массовых народных гуляний. На Ходынском поле гулянья проходили, в частности, во время коронаций Александра II, Александра III. Еще одной важной вехой в истории поля как места для проведения массовых мероприятий стала Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 г. Громадная экспозиция разместилась на площади в 30 гектаров в роскошных павильонах, выполненных в русском стиле. Постепенно вся южная часть Ходынского поля отошла под конные скачки, впервые проведенные там в 1834 г. В обычное время Ходынское поле использовалось как плац для занятий войск Московского гарнизона. Трагические торжества по случаю коронования Николая II проходили севернее, напротив Путевого дворца.
К мероприятию готовились тщательно – одной столовой утвари из Санкт-Петербурга в Москву привезли более 8 000 пудов, причем одних только золотых и серебряных сервизов до 1 500 пудов. В Кремле была устроена специальная телеграфная станция на 150 проводов для соединения со всеми домами, где жили чрезвычайные посольства. Масштабом и пышностью приготовления значительно превосходили прежние коронации. В царский гостинец входили: памятная коронационная эмалированная кружка с вензелями их величеств, высота 102 мм; фунтовая сайка из крупитчатой муки, изготовленная «поставщиком двора его императорского величества» булочником Д.И. Филипповым; полфунта колбасы; вяземский пряник с гербом в 1/3 фунта; мешочек с 3/4 фунта сластей (6 золотников карамели, 12 – грецких орехов, 12 – простых орехов, 6 – кедровых орехов, 18 – александровских рожков, 6 – винных ягод, 3 – изюма, 9 – чернослива); бумажный мешок для сластей с изображениями Николая II и Александры Федоровны. Весь сувенир (кроме сайки) завязывался в яркий ситцевый платок, выполненный на Прохоровской мануфактуре, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москвы-реки, с другой стороны – портреты императорской четы. Всего для бесплатной раздачи были заготовлены 400 000 царских гостинцев, а также 30 000 ведер пива и 10 000 ведер меда. На Ходынском поле спешно подготовили временные «театры», эстрады, балаганы, лавки. В 20 бараках планировали угощать напитками, в 150 ларьках – раздавать царские гостинцы.
Адъютант Московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича Владимир Федорович Джунковский присутствовал при приезде Николая II на коронацию в Москву: «С 1 мая в Москве царило необычайное оживление. Прибывали гвардейские части, посольства, разные высокопоставленные лица, министры, главноуправляющие, особы императорского дома и т. д. Часть канцелярии Министерства двора уже давно прибыла в Москву, Управления уделов также. Везде сооружались арки, Москва украшалась, готовила необычайную иллюминацию… Все работали, спешили, все были заняты одним приготовлением к коронационным торжествам, все остальное отошло на задний план. 6 мая, в день рождения государя, состоялся приезд их величеств. В этот день я был дежурным и в 12 часов дня выехал с великим князем в Клин на встречу императорского поезда. Я был ужасно уставшим и потому как-то недостаточно реагировал на все. В Клин мы приехали за полчаса до прихода императорского поезда. Как только поезд подошел, великий князь вошел в вагон государя, а я отправился в свитский… В 5 часов 30 минут дня императорский поезд подошел к вновь сооруженному особому павильону у Смоленского вокзала близ Тверской заставы… Царь с царицей вышли на платформу, государь был в форме Екатеринославского гренадерского полка. Великий князь Владимир Александрович, как начальник всех войск, собранных под Москвой, подошел к государю с рапортом. Пропустив мимо себя почетный караул, государь с императрицей сели в карету… 7-го в Москву прибыл герцог Каннаутский с женой, наследный принц Датский, принц Сиамский, герцог Вюртембергский, наследный принц Баденский, принц Японский и великий герцог Саксен-Кобург-Готский. В 6 часов вечера состоялся высочайший объезд лагеря на Ходынском поле… с церемонией… 9-го был торжественный въезд царя и царицы… Всем, кому посчастливилось быть свидетелем этого въезда, он навсегда должен был остаться памятным. Народное ликование, достигнув своего апогея при въезде царя, продолжалось затем весь вечер и часть ночи. Густые толпы народа наполняли улицы и любовались невиданной до того, совершенно фееричной иллюминацией. Вечером в Дворянском собрании был раут, возникший как бы экспромтом. Начался он в 10 часов и продолжался до ночи. На рауте присутствовало до тысячи человек, играл оркестр музыки и был устроен открытый буфет с чаем, закуской и шампанским… 12 мая с утра герольды… объезжали город с объявлениями о… короновании. Это был день Святой Троицы, и потому состоялся церковный парад полкам, праздновавшим в этот день свои храмовые праздники… день 14-го был великим днем священного коронования их величеств… Вечером весь город был иллюминирован, также и Кремль. Это было действительно волшебное зрелище. Кремлевская иллюминация зажглась в один миг, в тот самый миг, когда государыня взяла в руки поднесенный ей букет с электрическими цветами. Засветился букет, и в тот же момент засветился разноцветными электрическими огнями весь Кремль, точно огненной кистью нарисованный на потемневшем небе… 18 мая, в субботу, назначено было народное гулянье на Ходынском поле. Гулянье это было устроено на площади приблизительно в квадратную версту. Почти прямо против Петровского дворца устроен был императорский павильон, сооруженный в древнерусском стиле, кругом павильона был разбит садик с цветущими растениями и лавровыми деревьями. По обеим сторонам павильона были выстроены две трибуны, каждая на 400 мест, для чинов высшей администрации, а вдоль Петровского шоссе две трибуны для публики с платными местами по 5 000 мест в каждой. Эти сооружения оставались на Ходынском поле и по окончании гулянья для парада. Затем по всему полю были раскинуты всевозможные театры, открытые сцены, цирки, качели, карусели, буфеты, ипподром для конских ристалищ и т. д. Но главное, что привлекало народ, – это был ряд буфетов, их было несколько сот, они предназначались для раздачи населению царских подарков в виде художественно исполненных эмалированных кружек, тарелок и разных гостинцев. Вот по поводу этих подарков и ходили в народе легендарные слухи, будто эти кружки будут наполнены серебром, а иные говорили, что и золотом. Не только со всей Москвы и Московской губернии, но и соседних, ближайших губерний шел народ густыми толпами, некоторые ехали целыми семьями на телегах, и все это шло и шло на Ходынку, чтобы увидеть царя, чтобы получить от него подарок. За несколько дней до праздника можно было уже видеть на этом поле биваки крестьян и фабричных, расположившихся то тут, то там; многие пришли издалека»[68 - Из «Записок» генерала В.Ф. Джунковского. Коронационные торжества 1896 г. в Москве / сост. З.И. Перегудова, И.М. Пушкарева // Отечественная история. 1997. № 4. С. 13–24.].
Великий князь Александр Михайлович вспоминал: «Наступил день, когда все мы поехали в Москву на коронацию. Приближался день катастрофы на Ходынском поле. Иностранцам причины трагедии могли бы показаться непонятными, но опытные русские администраторы еще задолго до этого события ожидали худшего. То, что дядя государя, великий князь Сергей Александрович, занимавший пост Московского генерал-губернатора, сумеет организовать должным образом празднества, в которых должны были принять участие миллионы русских людей, – вызывало со всех сторон сомнения. Первые два дня в Москве не оправдали мрачных предсказаний. Чудесные весенние дни, исторический город, разукрашенный флагами, звон колоколов с высоты тысячи шестисот колоколен, толпы народа, кричащие "ура", коронованная молодая царица, сияющая красотой, европейские царствующие особы в золоченых каретах – никакой строгий церемониал не мог породить в толпе большего энтузиазма, чем лицезрение всей этой картины. Согласно программе празднеств раздача подарков народу должна была иметь место в 11 часов утра на третий день коронационных торжеств. В течение ночи все увеличивавшиеся толпы московского люда собрались в узких улицах, которые прилегали к Ходынке. Их сдерживал только очень незначительный наряд полиции. Когда взошло солнце, не менее пятисот тысяч человек занимали сравнительно небольшое пространство и, проталкиваясь вперед, напирали на сотню растерявшихся казаков. В толпе вдруг возникло предположение, что правительство не рассчитывало на такой наплыв желающих получить подарки, а потому большинство вернется домой с пустыми руками. Бледный рассвет осветил пирамиды жестяных кубков с императорскими орлами, которые были воздвигнуты на специально построенных деревянных подмостках. В одну секунду казаки были смяты и толпа бросилась вперед. "Ради Бога, осторожнее, – кричал командовавший офицер, – там ямы!". Его жест был принят за приглашение. Вряд ли кто из присутствовавших знал, что Ходынское поле было местом учения саперного батальона. Те, кто были впереди, поняли свою роковую ошибку, но нужен был по крайней мере целый корпус, чтобы остановить своевременно этот безумный поток людей. Все они попадали в ямы, друг на друга, женщины, прижимая к груди детей, мужчины, отбиваясь и ругаясь. Пять тысяч человек было убито, еще больше ранено и искалечено»[69 - Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний… С. 121.].
Журналист В.А. Гиляровский сам присутствовал на Ходынском поле и чуть не погиб там: «Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений, безусловно, увеличило количество жертв. Они построены так: шагах в ста от шоссе, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов соединены одной крышей, имея между собой полтора-аршинный суживающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать народ на гулянье со стороны Москвы именно через эти проходы, вручив каждому из гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам, со стороны Москвы, т. е. откуда ожидался народ, тянется сначала от шоссе глубокая, с обрывистыми краями и аршинным валом, канава, переходящая против первых буфетов в широкий, сажен до 30, ров – бывший карьер, где брали песок и глину. Ров, глубиной местами около двух сажен, имеет крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля. Однако вышло не так: народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться еще накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. На более гладких местах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все прибывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва и высокий вал. К трем часам все стояли на занятых ими местах, все более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, – полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей-подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо… Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над млнной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули "раздают", и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух… Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны… Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входивших снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более десяти мучительнейших минут… Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили еще работы»[70 - Гиляровский В.А. Катастрофа на Ходынском поле (репортаж) // Гиляровский В.А. Собрание сочинений. М., 1999. Т. 2. С. 131.].
Генерал Алексей Николаевич Куропаткин придерживался того же мнения: «По-видимому, дело было так. Многие десятки тысяч народа ночевали на поле и в придорожных канавах. С ночи уже потянулись из города волны народа туда же. С рассветом туда же прибыли особыми группами тысячи рабочих с ближайших фабрик. Многие были голодны… Один старик, кажется отец Т. Рукавишниковой, рассказал мне интересную вещь. Он приехал из окрестной деревни, откуда пришло много народа на праздник. На его расспросы, почему они двинулись на будки, ему ответили: "Хотели скорее получить царские платки". – "Зачем?" – "А как же, нам рассказали, что на платках будут нарисованы – на одних корова, на других лошадь, на третьих изба. Какой кому достанется, тот и получит от царя либо лошадь, либо корову, либо избу". О таком слухе рассказчик слышал и в другом месте… По разным рассказам, переданным мне участниками на месте, видно, что уже с 3-х часов началась толкотня и явились несчастные случаи. Около 5–6-ти часов толпа двинулась вперед, и тут сразу некоторые провалились в колодцы через гнилые кладки, другие были сбиты в овраги; подошедшие к будкам первоначально ничего не получали, и несколько казаков не пропускали их внутрь плаца… В многочисленных, но глупо устроенных будках для раздачи каждому кружки, платка, 1/2 колбасы, 3/4 фунта сластей, 1 пряника и 1 фунта хлеба начали самовольно раздачу не в 9, а в 7 часов утра. Ранее стали давать знакомым, а артельщики начали брать взятки. Толпа шарахнулась и придвинулась к будкам. Попавшие в конусообразные входы к проходам между будками были придавлены и раздавлены. Видя такую картину, из будок стали бросать в народ кружки и хлеб. Это окончательно испортило дело. Толпа снова продвинулась к будкам, кто наклонялся, чтобы поднять кружку, был раздавлен. Оказались неровности, рвы, дурно прикрытые колодцы. Все это увеличивало число жертв. Катастрофа произошла между 6-ю и 7-ю часами утра. Говорят, в 20 минут все было кончено. Прискакавшие к концу катастрофы 30 казаков ничего не могли сделать. Один казак, кажется, убит. Все упавшие были смяты, и по ним прошли массы. Некоторые из трупов представляли окровавленные мешки с переломанными костями. По рассказу рабочих, колбаса была дана гнилая, вместо конфет дали труху из стручков. Пиво было зеленое… Говорили, что часть бочек оказались пустыми… Пряники хороши. По рассказам, чины дворцового ведомства сами заготовляли запасы, и они испортились. Колбасы, сложенные на Ходынке, частью попортили крысы. При общей растерянности кто-то отдал приказание перевозить убитых в город в полицейские участки и больницы. И вот, в то время как волны народа и все приглашенные высокие гости ехали на Ходынку на торжество, к ним навстречу и мимо них двигались фургоны, телеги, пожарные дроги с нагруженными трупами, болтались ноги и руки. Многие не могли без ужаса на лице вспомнить эти встречи. Бедному государю, говорят, тоже попались такие воза. На дворах участков трупы пришлось складывать, как дрова»[71 - Куропаткин А.Н. Из дневников 1896 г. // История. 2001. № 20. С. 63.].
Очевидец В.Ф. Краснов прислал Л.Н. Толстому рукопись об увиденном на Ходынском поле. Л.Н. Толстой высказал автору ряд критических замечаний, советуя главным образом отбросить ненужное, преувеличенное, застилающее суть дела. После переработки рассказ был напечатан в журнале «Русское богатство». В.Ф. Краснов свидетельствовал: «У задней части места гуляний, ближе к Ваганькову кладбищу, виднелись огромные тесовые сараи с бочками пива и меда. Их было десятка два, и каждый длиною аршин по сорок; между ними широкие свободные пролеты-проходы, саженей в двадцать, ничем не огороженные. Сараи эти, огромные и аляповатые, и без всяких украшений, имели грубый вид. Было много и приезжих из уездов. То и дело подкатывали сюда их шарабаны и тарантасы, битком набитые народом, – и табором располагались здесь же. Многие расположились и уснуть тут же, в роще, под охраной развесистых сосен. Только одного и можно было опасаться, – чтобы не смяло толпой. И деревья разбивали сплошной поток людской на ручейки и охраняли уставших и спящих… Кой-где занимались костры – для чая – около повозок. Говорили, что на завтрашние представления привели ученых слонов и привезли птиц; что устраивают бездонные фонтаны пива-вина, завтра они будут беспрестанно бить из земли для угощения всех желающих, только успевай подставлять кружку. Говорили, что пригнали стада лошадей и коров для раздачи выигравшим в лотерею. И много другого говорили кругом… Это будоражило нас и подстегивало идти скорей все дальше и дальше вперед… и я толкал соседей, а они толкали меня. И все мы были пленниками друг друга… Становилось все душнее и душнее… В начале суматохи недалеко от меня, у будок, виднелись казаки и солдаты, конные и пешие. Кой-где им еще удавалось проникать в толщу толпы и уносить вон мертвых и задыхающихся. А потом это стало уже невозможным, и толпа просто выдавила солдат вон, по ту сторону будок. Живые выдавливались толпою от себя кверху, а мертвые – вниз. И люди ходили по людям, смешивали их с землей, до неузнаваемости уродовали сапогами их лица… И я ходил по упавшим, добивая их вместе со всеми невольно… Помню, я упирался глазами то в будки, то в промежутки между ними и видел поле гулянья, сараи с бочками, карусели, столбы с призами вверху. Там ждали нас коварные самовары да гармоники, шелковые рубахи и плисовые шаровары – они колыхались на недоступной высоте… Опомнился я весь в крови, по ту сторону, невдалеке от будок, на лужайке…. Я оглянулся назад, к будкам. Все пространство от меня до будок было усеяно павшими, мертвыми или не очнувшимися от обморока. Некоторые лежали, вытянувшись, как покойники дома – на своих столах, под образами. И были, по-видимому, мертвы. У многих из них лежали под головами только что добытые узелки с гостинцами. Другие держали их на груди в скрещенных руках… Среди общей сумятицы невольно останавливали всех и настраивали по-своему эти чинные и строгие покойники. Вдали у бочек с пивом и медом копошилось много народу. Бочки трещали и разламывались, бочки скидывались, огромные пирамиды их распадались. Тут же на лугу разбивали им дно, чтобы черпать и пить скорее кружкой. Бочки подвозились на платформах, по рельсовой ветке, прямо на гулянье. Пили картузами. А перед сараями стояли узенькие корытца, над ними трубочки с кранами, через которые должно было чинно наливаться из бочек пиво и мед и церемонно выпиваться из кружек. Кажется, все было заботливо предусмотрено, – а все пошло и здесь по-другому, как и у будок. Ломали перила у сараев, чтобы было чем разбить дно бочек. Я чувствовал ужасную слабость и тяжесть и не решался дойти до сараев. Близко около меня, рядом, сидел на лужайке грузный татарин. Из-под его тюбетейки на лоб струились ручейки пота, и весь он был – как из бани – красный и мокрый… У его ног лежал узелок с гостинцами, и он ел пряник и пирожок, кусая их по очереди, запивая из кружки медом… Я попросил его дать мне попить, он подал меду из своей кружки. У него уцелела даже цепочка часов… На мои жалобы, что вот, мол, меня смяли, а я ничего не получил, татарин пошел и вскоре принес мне узелок гостинцев и кружку из будки»[72 - Краснов В.Ф. Ходынка. Записки не до смерти растоптанного // Русское богатство. 1910. № 8. С. 11.].
Врач А.М. Остроухов побывал на Ходынском поле до и после трагедии. Сначала здесь ничего не предвещало катастрофы: «За несколько дней до празднеств (по случаю коронации Николая II) полиция ходила по предприятиям и приказывала отпустить служащих с вечера. Появились громадные афиши от князя – "хозяина" Москвы – с приглашением на праздник. Ожидалось громадное стечение народа. Не без труда мне удалось уговорить приятеля отправиться на Ходынку накануне вечером, чтобы познакомиться с настроением толпы. Народу было мало. Настроение казалось хорошим. Всюду слышался смех, кое-где скрипели гармоники. Закусочные торговали бойко. Пьяных не было заметно. Люди жгли костры и держались небольшими группами… Утро 18 мая было хорошее, ясное, теплое. С балкона нашего дома в Леонтьевском переулке видна была Тверская. По ней народ валил, как говорится, валом, но не к заставе, а от нее. Выйдя на улицу, я увидел, что люди шли группами с серьезными, не праздничными лицами. Да как шли – чуть не бежали. У многих узелки подарочные, а больше свои платки с неиспользованной провизией… Эти гостинцы многие бросали уже на Тверской. Бегство этих смущенных людей производило такое впечатление, как будто они боялись быть причастными к свершению чего-то ужасного, показаться участниками какого-то преступления». Предчувствуя неладное, А.М. Остроухов приехал на Ходынское поле: «Травы уже не видно: вся выбита, серо и пыльно. Здесь топтались сотни тысяч ног. Одни нетерпеливо стремились к гостинцам, другие топтались от бессилия, будучи зажаты в тиски со всех сторон, другие бились от безумия, ужаса и боли. В иных местах порой так тискали, что рвалась одежда. И вот результат – груды тел по сто, по полтораста; груд меньше 50–60 трупов я не видел. На первых порах глаз не различал подробностей, а видел только ноги, руки, лица, подобие лиц, но все в таком положении, что нельзя было сразу ориентироваться, чья эта или эти руки, чьи те ноги. Первое впечатление, что это все "хитровцы" ("Хитровка" – криминальный центр старой Москвы – прим. автора), все в пыли, в клочьях. Вот черное платье, но серо-грязного цвета. Вот видно заголенное грязное бедро женщины, на другой ноге белье; но странно, хорошие высокие ботинки – роскошь, недоступная "хитровцам". Вот мужчина, на нем одной штанины нет, осталась только часть белья. Здесь торчат ноги без сапог. Раскинулся худенький господин – лицо в пыли, борода набита песком, на жилетке золотая цепочка. Оказалось, что в дикой давке рвалось все; падавшие хватались за брюки стоявших, обрывали их, и в окоченевших руках несчастных оставался один какой-нибудь клок. Упавшего втаптывали в землю. Вот почему многие трупы приняли вид оборванцев. Но почему же из груды трупов образовались отдельные кучи, да и в стороне от их ловушек – будок? Оказалось, что обезумевший народ, когда давка прекратилась, стал собирать трупы и сваливать их в кучи. При этом многие погибли, так как оживший, будучи сдавленный другими трупами, должен был задохнуться. А что многие были в обмороке, это видно из того, что я с тремя пожарными привел в чувство из этой груды 28 человек; были слухи, что оживали покойники в полицейских мертвецких. Иду к будкам – там валяются одиночные трупы; сами будки частью опрокинуты, частью раскрыты. При продавливании крыш между окон спасались артельщики, которые были обязаны раздавать узелки. Предательские воронки обратились в ловушки; втиснутые в них 5–6 человек не могли проскользнуть в суженное выходное отверстие, запруживали ход и раздавливались, как мухи. Давились люди и будки… Раздавивши свой авангард, толпа обезумела от ужаса. Неимоверным усилием, давя середину, шарахнулись назад, в то время когда задние напирали, боясь не получить орехов, пирогов и колбасы. Когда хлынули назад, то из-за невозможности повернуться спотыкались, падали и моментально растаптывались. Вот здесь-то выемка вдоль бывшего полотна дороги и обратилась в ловушку. На пир звали, а канавы не засыпали, а сухой колодец прикрыли дощечками. Они лопнули и… колодец наполнился людьми. Из нескольких десятков извлеченных оттуда один, случайно упавший на ноги, оказался живым. Кто-то вздумал "пошарить" багром в очищенном колодце, и снова начали извлекать трупы. Около трупов кольцом стояла публика: кто смотрел в немом ужасе, кто рассуждал вслух, кто повторял приметы тех, кого искал. Кое-где снова сортировали тела. Трех мальчиков-братьев из одной мастерской положили рядышком: один в визитке, двое в рубашках; их лица не выражали испуга. Здесь же лежал мужчина со странно сжатыми челюстями – щеки как-то ушли внутрь, точно прилипли к зубам. На нем платье было чистое, что странно было видеть среди грязных трупов. Это их отец. Он прибежал увидеть сыновей и не вынес. Должно быть, сердце было слабое. Товарищи по мастерской сложили всех вместе рядышком»[73 - Остроухов А.М. Катастрофа на Ходынском поле // История. 2001. № 20. С. 51.].
Значимые воспоминания о Ходынке оставил в своих мемуарах В.П. Смирнов, его эта тема очень волновала. И вот почему: «Дело в том, что на торжества по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны водку царский двор заказал у Петра Арсеньевича Смирнова. Министерство императорского двора израсходовало на это 2 млн 116 тыс. руб. Знаменитый крейсер "Варяг", через несколько лет после Ходынки построенный для русского флота в Филадельфии американцами, обошелся России лишь вдвое дороже. Когда случилась Ходынская трагедия, батюшка очень переживал. И оттого, что люди погибли, и оттого, что тут же отыскались борзописцы, которые попытались свалить на винзаводчиков случившееся в день коронации. Мол, Смирнов напоил людей, а пьяная толпа наутро кинулась громить царские лавки с подарками, убивая друг друга в давке. Не было б водки, никто б и не погиб. Таков был гадкий лейтмотив статей-расследований этого происшествия. Батюшка тогда дошел до министра юстиции Н. Муравьева. Тот готовил доклад царю и владел всей информацией по поводу трагедии. После коронации, по его рассказу, предполагалось сделать грандиозное гулянье для народа. Были заготовлены для раздачи различные подарки, по большей части съедобные – сайки, конфеты, колбасы. Народ от имени государя должен был угощаться, а в память о коронации полагалась еще и кружка. Ходынка была выбрана не случайно. Во-первых, около самого города, а во-вторых, большое открытое пространство. Планировались для народа всевозможные увеселения, и государь должен был приехать смотреть, как веселится и угощается его народ. Его приезд предполагался к полудню, к началу работы концерта, в котором, по программе, участвовал громаднейший оркестр под управлением известного дирижера Сафонова. Для оркестра была сочинена особая кантата, посвященная коронации»[74 - Смирнов В.П. Смирновы. Водочный бизнес русских купцов. М.: Изд-во «Генеральный директор», 2011. С. 100–105.].
Отчасти свидетельства В.П. Смирнова подтверждались тем, что сначала стали появляться слухи о том, что самые «сообразительные» собираться на Ходынку стали еще накануне вечером. А чтобы не было холодно, многие приносили с собой спиртное и пили в ожидании утра на месте. Когда до открытия буфетов оставалось еще четыре часа к Ходынке подошли несколько сотен пьяных рабочих с Прохоровских мануфактур, которые потребовали бесплатной попойки и раздачи «гостинцев». Измученные ожиданием люди подхватили требование. Несколько артельщиков, ответственных за «гостинцы», открыли буфеты и начали раздачу узелков. После этого и произошла давка. Впоследствии начали появляться воспоминания и литерные произведения, посвященные Ходынской трагедии. Русский прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихотворений А.В. Амфитеатров писал в одном из своих романов: «Движение народного прилива началось уже с первых чисел мая… Известная часть этих коронационных гостей получала от правительства и города кров и пропитание, но громаднейшее большинство… бедствовало, голодало, шаталось по улицам… Появился новый тип нищего – мужик, баба или целая семья… прибывшие в Москву на коронацию… Такого огромного наплыва не ожидал никто»[75 - Амфитеатров А.В. Собрание сочинений. СПб.: Просвещение, 1911–1916. Т. 17. Закат старого века. С. 503.].
Публицист и издатель А.С. Суворин записал в своем дневнике: «С вечера было много народа. Кто сидел около костра, кто спал на земле, кто угощался водкой, а иные пели и плясали… В коронации 1883 г. было 100 буфетов, в коронации 1896 г. – 150»[76 - Дневник А.С. Суворина. М.-Петроград.: Изд-во Л.Д. Френкеля, 1923. С. 131.]. В рассказе Ф. Сологуба, подсказанным Ходынской катастрофой, ночь перед трагедией описывалась так: «Народ, заслышав про увеселения и про подарки, толпами шел со всех сторон… Говорили, что подарки-то подарками, а что, кроме того, будут еще… бить фонтаны из водки и пить водки можно будет сколько хочешь. "Хоть опейся". Многие приходили издалеча. И заранее. Уже накануне праздника на городских улицах шлялось много дальних пришельцев. Больше всего было крестьян, много было и фабричных рабочих. Были и мещане из соседних городов. Приходили, а кто и приезжал. И вот уже несколько дней продолжалось празднование в городе… Настал канун народного праздника… И там, где горели костры, были видны лица, которые сердито хмурились… Порой слышались циничные шутки… Скоро костры стали гаснуть. И стало равно темно в воздухе, – и черная ночь приникла к гулкому полю, и отяжелела над его шумами и голосами… В темноте творилась для чего-то ненужная, неуместная и потому поганая жизнь. Беспокровные люди, далекие от своих уютов, опьянялись диким воздухом кромешной ночи. Они принесли с собой скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло-пьяными голосами. Ели вонючие снеди. Пели непристойные песни. Плясали бесстыдно. Хохотали. То там, то здесь слышалась нелепая мышиная возня. Гармоника гнусно визжала. Пахло везде скверно, и все было противно, темно и страшно. И ухе повсюду голоса раздавались хмельные и хриплые. Кое-где обнимались мужчины с женщинами. Под одним кустом торчали две пары ног, и слышался из-под куста прерывистый, противный визг удовлетворяемой страсти. Кое-где на немногих свободных местах собирались кружки. Внутри что-то делалось. Какие-то противные, грязные мальчишки откалывали "казачка". В другом кружке пьяная безносая баба неистово плясала и бесстыдно махала юбкой, грязной и рваной. Потом запела отвратительным, гнусным голосом. Слова ее песни были так же бесстыдны, как и ее страшное лицо, как и ее ужасная пляска. "Зачем у тебя нож?" – строго спрашивал кого-то городовой. "Человек я рабочий, – слышался наглый голос, – инструмент захватил по нечайности. Могу и пырнуть". Хохот раздался»[77 - Сологуб Ф. В толпе // Биржевые ведомости. 1907. 26 апреля].
Тема выпивки в ночь перед Ходынской катастрофой проскальзывает и в рассказе Л.Н. Толстого: «И вот дошли до Ходынского поля. А тут уж народ по всему полю чернеет. И из разных мест дым идет. Заря была холодная, и люди раздобываются сучьев, поленьев и раздувают костры. Сошелся Емельян с товарищами, тоже костер развели, сели, достали закуску, вино. А тут и солнце взошло, чистое, ясное. И весело стало. Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости ожидают. Выпил Емельян с товарищами, закурил, и еще веселей стало. Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи и купцы с женами и детьми, которые попадались промеж народа. Так заметна была Рина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего и с народом, среди народа, празднует восшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Алеком между кострами. "Проздравляю, барышня хорошая, – крикнул ей молодой фабричный, поднося ко рту стаканчик. – Не побрезгуй нашей хлеба соли. Спасибо"… Все встали. Емельян убрал свою бутылочку с оставшейся водкой и пошел вперед вместе с товарищами»[78 - Толстой Л.Н. Ходынка // Собр. соч. М.: Художественная литература, 1983. Т. 14. С. 341.].
«Подогревались» не только в кустах около Ходынского поля, но и в Кремлевском дворце. Так, по воспоминаниям российского журналиста С.М. Окрейца «во дворце у кавалергардов был устроен буфет и всякому желающему, кто бы он ни был, предлагались, конечно, бесплатно, кофе, чай, шампанское и всевозможные деликатесы. Не все находили удобным пользоваться этою даровщиной, но нашлись и такие, которые не стеснялись. К концу торжества оказалось несколько лиц, возбужденных более, чем бы следовало… Солнце высоко поднялось из-за кремлевских стен и ярко светило на безоблачном небе. Становилось душно и жарко. Особенно достойными сожаления выглядели многочисленные военные чины, затянутые в свои мундиры… Один мой знакомый генерал-лейтенант Г-н, увидев меня комфортабельно восседающим и даже закусывавшим на моем возвышенном месте, прикрытом от солнца высокою стеной собора, воскликнул: "Вот первый раз в жизни я позавидовал положению русского литератора!"»[79 - Окрейц С.С. Листки из записной тетради // Ист. вестник. СПб., 1911. Т. 124. С. 437.].
Кстати С.С. Окрейц утверждал, что полицейские и солдаты грабили мертвых и умирающих: «Дело происходило так. Ходынское поле необходимо было очистить: на нем должны были строиться и парадировать войска (порядок торжеств решено было не отменять – прим. автора); государь неизбежно должен был проехать, а тут разбросаны тысячи трупов и лужи крови… Полиция нашлась: соорудили забор и стащили за его стену все остатки кровавой бойни. Раненых увозили прочь. Но между трупами не все были настоящие трупы. Раздавленные еще дышали. Дело делалось наспех; солдаты не церемонились и, по рассказам, не разбирая, валили всех в одну кучу. Страшно даже подумать, что это могло иметь место. "Но что нам было делать!" – говорил мне впоследствии маленький полицейский чин. Это было уже в 1900 г., когда я постоянно жил в Москве. "И вы валили с мертвыми и дышавших еще?" "Заведомо – нет-с. Дышавших отбирали. Ну, а если который совсем был как мертвый, такого, конечно… Времени, сударь, не было; докторов тоже для разбора не командировали. К восьми часам утра площадь приказано было очистить – и очистили-с". Убитые и сложенные в костры были большею частью фабричные и крестьяне. Но в числе их попадались и состоятельные москвичи. Любопытна психология людская. Подарок стоил, по официальной оценке, 1 руб. 80 коп.; собственно он не стоил и половины этих денег. И вот за этим-то ничтожным подарком, ночью, побежали мелкие купцы, ремесленники, домовладельцы и тому подобный обеспеченный люд – и жалко погибли в свалке. Увозили тела на простых ломовых телегах. Когда воз был доверху полон, накрывали несчастливцев окровавленными брезентами и ломовому командовали: "Ну, трогай!" Я с полчаса стоял и глядел на страшную уборку. Пожарные и еще какие-то солдаты хватали труп за ноги и за руки и взбрасывали на телегу, буквально взбрасывали, а не клали. Но при этом неизменно обшаривали карманы. При мне солдат стащил с убитого сапоги. "Это что же? – обратился я к полицеймейстеру. – Ведь здесь идет ограбление мертвых, а вы смотрите и молчите". На меня злобно посмотрели грабители. Окрысился и полицейский чин… "Извольте уходить. Тут вам нечего глядеть. Не послушаетесь – позову казака!" Пришлось уйти, а ограбление мертвых, конечно, продолжалось»[80 - Окрейц С.С. Листки из записной тетради // Ист. вестник. СПб., 1911. Т. 124. С. 444.].
Уже находясь в эмиграции во Франции, В.П. Смирнов встретил очевидца данных событий – Митрича – «типичного французского таксиста из русских». В.П. Смирнов описал его так: «Носит котелок и изъясняется – правда, с трудом – по-французски. Отец его был извозчиком. И дед был извозчиком. И прадед – тоже. Родился в районе Рогожской заставы. Сам Митрич был извозчиком до революции. Потом забрили его в солдаты по второму разряду, и с обозами Экспедиционного корпуса он оказался во Франции, защищал от "бошей" (от немцев – прим. автора) Париж в 1914 г. В Советскую Россию возвращаться не захотел, наслушавшись про большевистские национализацию и муниципализацию. Когда едешь в его авто, слушая его россказни, волей-неволей вникаешь в жизнь бывшего московского извозчика. Мужик колоритный, сыплет разными присказками. "У кого власть, тот и властвует всласть" – это он про французских жандармов, которые вменили ему пеню за какую-то провинность». Во время поездки в такси Митрич сообщил В.П. Смирнову о Ходынской трагедии: «"Так на Ходынке и было". "Так ты там был, что ли?". "Я ж вам говорю: был в Ходынке! Вот вы непонятливый пассажир! Еле ноги унес! Какая там ужасть была!". "Так-так-так, – говорю я. – Интересно, тебя-то туда за каким чертом послали?". "По молодости любопытствовал. Узнать хотел, какие подарки дадут на коронацию?". "Ну и узнал?". "Узнал, господин хороший, узнал. Кружку с платочком!". "И получил?". "А как же!". "И бока тебе не намяли?". "Еще как намяли, господин хороший!". "Зови меня Владимир Петрович"… Митрич хитро прищуривается: "Аль книгу пишешь, Владимир Петрович?". "Какую-такую книгу?". "А кто тебя знает? Может, и про Ходынку? Меня Александр Иванович тоже все допытывал: расскажи да расскажи, как тебя давили! Я об этом напишу". "Какой Александр Иванович?". "Да Куприн. Я его везу, а он говорит: ?Шофер, ты из Москвы?”". Я ему: "Из Москвы, барин. А как узнал?". – "Да рожа у тебя, – говорит, – московская, как не узнать!". А я ему: "А ты, – говорю, – татарин!". Он мне: "А молодец, угадал, матушка моя татарка. Вишь, какие скулы, как у Чингисхана! По ним угадал?". – "Да не, – говорю, – по тюбетейке!". Ох, как он хохотал. "Ну, – говорит, – ты и хитрец!". А чего хитрец, если он в тюбетейке едет! "Ну а Ходынка-то при чем?". "А он говорит: пойми, мол, Митрич, я пишу только про то, что своими глазами видел. Вот с Заикиным на ероплане об землю он шмякнулся, об этом, говорит, написал. Юнкером был, про то тоже написал. В дуэли геройствовал – написал. С девками шашни крутил – вот те и книга! А про Ходынку, говорит, хотел написать, да Гиляровский в Москве перебил. Вот, говорит, пакостник, все на царя-батюшку свалил да на Распутина". "Кой черт, на Распутина! Где тут Распутин? Не было никакого Распутина! Митрич, что-то ты брешешь!". "Или не на Распутина. Или на великого князя Сергея Александровича? А может, на Власовского этого, не помню. Куприн рассказывал мне: царь-батюшка говорит: ?Отменяйте ферверк и балы, люди ж погибли, тыщи”. А он, кто-то там, отвечает: деньги уже уплачены, ничего не можем отменить. Царь-батюшка отвернулся и заплакал, жалостивый был, переживал за народ. А народ ему: ?Кровавый, Кровавый!”. Тоже, согласись, нехорошо: он с царицей на балу танцует, а люди в давке гибнут…" … "Ага, Владимир Петрович, намяли крепко. До сего дня кашляю. Как зайдусь, просто страх! И кашляю, кашляю…". "Ты, Митрич, если был в Ходынке, расскажи лучше, как ты выжил-то в такой давке?". "А так и выжил. Мяли сильно, но я крепкий был, выдюжил. Стоим, стоим, уж не знаю как, но – дышим. И вдруг – словно молния в толпу упала, как заорет кто-то впереди: ?Дают!..”. И справа заорали: ?Дают! Дают! Не зевай, наши!”. Тут же – слева: ?Уррра-а! Дают! Дают!”. Такой ор окрест стоял: ?А-а-а!.. О-о-о!.. Давай!”. Ну, толпа загалдела, двинулась вперед. Гляжу, мелькнуло несколько узелков, бросили их с буфетов в толпу! Задние, из глубины, полезли, надавили, меня, как пробку, и выкинуло прямо к проходу. Казак, гляжу, сверху откуда-то мне руку тянет: ?Давай, дуррак, руку!”. Я ему кричу: ?Я ж без подарка!”. А он меня за ворот ухватил, сильный мужик, видно, был, да ка-ак дернет! И толпа еще меня в спину подтолкнула. Я и взлетел птицей – на самую крышу! Сверху поглядел: господи, думаю, страсти-то какие! Столько народу я даже на масленицу разом не видел. Море людей! Глаза выпучены, рты открыты, а крику нет. Смотрю, а это все мертвецы торчком стоят по всему полю и колыхаются вместе с живыми. Смяли казаков и часовых, которые охраняли буфеты, гляжу, а шинельки-то их уже далеко в поле, в толпе, уже и их топчут шинельки безжалостно. И моего спасителя, гляжу, тоже утянуло, царствие ему небесное!" Он перекрестился широко и замолк. Какое-то время ехали молча. "Ой, какой гул там стоял! Такой сплошной, как будто под людьми топка гигантская работает: у-у-у-у. И под него люди прям обрушались во рвы, топча тех, кто уже стоял в ямах. Стоны такие, господин хороший, что хотелось заткнуть уши и бежать, чтобы не слышать…". "Да-а, Митрич…". "Вот только я убежать-то не смог. Я ж видел, кто давился. Те, кто послабже был. Особливо детки и молодые мамаши. Стал за волосы тащить, кого мог…". "Многих спас?". "Да чего там спас. Каплю! Там же пять тыщ душ подавилось". "А вот это у тебя неверная информация. Бог с тобой, Митрич, есть официальная сводка. Умерло около двух тысяч, откуда пять!". "А ты считал? – с вызовом ответил Митрич. – Я ж говорю, писатель! Вам чего скажи, все верите. А я сам был и видел, сколько людей полегло. Отдышался когда, взглянул сверху: как поленья, прости господи, до самого горизонта! Эх вы, писатели-и!". "Да не писатель я, успокойся, Митрич!"»[81 - Окрейц С.С. Листки из записной тетради // Ист. вестник. СПб., 1911. Т. 124. С. 100–105.].
Не смог не спросить В.П. Смирнов и роли водки в трагедии на Ходынском поле: «"А водка была в Ходынке?" – спрашиваю я, неслучайно поднимая этот вопрос… "Так была ли там водка или не была, Митрич?". "А и была водка, а как же! Пили с ночи! Эту, как ее, ?смирновку”". "Врешь!" – вскричал я… "Ой, Митрич, хватит брехать! Царь танцевал вечером, когда уже все кончилось и поле очистили. И водки не было, врешь ты про водку!"… "Вот те крест, пили!". "Да не было там водки, Митрич! Вспомни!". "А может, и не было, – пожимает он плечами, испуганный моим напором. – А может, и пиво?". "Может, пиво! Ты уж вспоминай, как было, а не сочиняй. Где ты был там, расскажи! Это мне важно… Просто спорят по сей день: из-за водки все случилось или нет?". "Ага". "Что ?ага”?". "Из-за нее, окаянной!… Была, была, я сам видел!". "Митрич, ты уж реши один раз!". "Да какая теперь разница?". "Эх, Митрич, из-за этой, как ты говоришь, ?разницы” мой батюшка всю жизнь виной мучался…". "Жив батюшка-то?". "Да не жив давно уж… Скончался мой батюшка, Петр Арсеньевич Смирнов, через два года после коронации – 29 ноября 1898 г. (по старому стилю) в возрасте 67 лет от обширного инфаркта". "В полиции, что ли, работал? Был на Ходынке?". "В полиции, в полиции. Стоп, здесь налево! – говорю я, уходя от темы. – Приехали, Митрич!". "А, ну теперь мне все понятно. Только зря себя батюшка казнил, люди сами виноваты были…". "Все, спасибо, приехали!". "А живешь где, Владимир Петрович?". "Да вот в этом доме и живу. Магазин видишь, а я над магазином. Прощай, Митрич! Вот тебе франк сверху – хороший ты мужик!". Я пожал его большую, шершавую ладонь. Авто Митрича, затрещав мотором, скрылось за поворотом. Наутро посыльный принес коробку из-под обуви и письмо. Корявым почерком там было написано следующее: "Владимир Петрович, прости дурака, все я вспомнил! Водки не пили, полиция изымала, строго следя за этим делом. Прими в подарок от меня гостинец. За батюшку твоего помолюсь…". Я развернул сверток. Там была эмалированная кружка Ходынки с надписью: "На память Священного коронования" и платочек с пятнами бурой крови с видом Кремля. На кружке и платке стояла дата: "1896". Спасибо тебе, Митрич, французский таксист, за гостинцы. Я храню их в память о Ходынской трагедии, ставшей предвестником большого горя, которое обрушится на мою страну совсем скоро. Но все-таки больше в память о добром Митриче, московском извозчике»[82 - Смирнов В.П. Смирновы. Водочный бизнес русских купцов… С. 100–105.]. Таким образом, В.П. Смирнов утверждал, что перед давкой на Ходынском поле народ был трезвым. Правда, нужно признать, что он был кровно заинтересован в такой версии, так как никто не хочет быть виновником массовой гибели людей.
18 мая 1896 г. Николай II оставил в своем дневнике такую запись: «До сих пор все шло, слава богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут же произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1 300 человек! Я об этом узнал в 10 с половиной часов перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 с половиной завтракали, и затем Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном "народном празднике". Собственно, там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимн и "Славься". Переехали к Петровскому дворцу, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям дворянства. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у мама в 8 часов. Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 часа»[83 - Дневники императора Николая II. М.: РОССПЭН, 2011. Т 1. 1894–1904 гг. С. 131.].
Несколько слов также следует сказать о московской полиции и о ее обер-полицмейстере Александре Александровиче Власовском (1842–1899 гг.). По мнению С.Ю. Витте, «на вопрос о том, каким образом могла произойти такая катастрофа и кто за нее ответственен, сейчас же получили ответ: что катастрофа произошла от полной нераспорядительности, а между тем никого ответственного. В то время обер-полицеймейстером в Москве был полковник Власовский; этот Власовский ранее был полицмейстером в одном из прибалтийских городов, кажется, в Риге, и был рекомендован великому князю, как человек весьма энергичный и ничем не стесняющийся, следовательно, такой человек, который может водворить в Москве должный порядок. До Власовского обер-полицмейстером Москвы был генерал Козлов, человек, правда, весьма порядочный, но по натуре своей не "полицейский" человек. Власовский же (как я с ним познакомился) действительно принадлежит к числу таких людей, которых достаточно видеть и поговорить с ними минут десять, чтобы усмотреть, что он представляет собой такого рода тип, который на русском языке называется "хамом". Все свое свободное время этот человек проводил в ресторанах и в кутежах. По натуре Власовский человек хитрый и пронырливый, вообще же он имеет вид хама-держиморды; он внедрил и укрепил в московской полиции начала общего взяточничества; с наружной же стороны, действительно, он как будто бы держал в Москве порядок. Кроме того, он был очень удобный человек, потому что весь двор великого князя Сергея Александровича, конечно, обращался с ним не как с господином, а как с хамом, и он исполнял всевозможные поручения этой великокняжеской дворни. И вот, этот обер-полицеймейстер заявил, что, в сущности говоря, на Ходынском поле всем распоряжалось и все это народное гулянье и угощенье устраивало министерство двора, а что полиция собственно никакого там на самом поле касательства не имела, что все это было делом министерства двора, а вот все, что касалось местности около поля и до поля – это все касалось его, касалось полиции; там же никаких историй, никаких катастроф не было, там все было в порядке. Произошла же эта катастрофа, при которой столько людей было убито и побито, от того, что на все эти угощения государя народ набросился и начал друг друга давить и таким образом было задавлено две тысячи людей, в числе их множество женщин и детей»[84 - Витте С.Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Т. 1. Берлин: Слово, 1922. С. 61–62.].
В.П. Смирнов также высказался по этому вопросу: «Обер-полицмейстер жил на Тверском бульваре, напротив Богословского переулка. На его доме была соответствующая надпись: "Дом московского обер-полицмейстера". Должность эту занимали генерал-майоры "свиты его величества", как правило, средних дворянских фамилий. Нравы московской полиции были вольными, а взаимоотношения их с окружающим миром внутри вверенного квартала ли, участка или околотка были просто трогательные. Два раза в году – на Пасху и на Рождество Христово – домовладельцы посылали им с дворниками увесистые конверты с деньгами. Чем выше была должность берущего и доход дающего, тем выше были и суммы "пожертвований". Подобными сборами полиция обложила трактиры, гостиницы, торговые и промышленные заведения. В их расходных книгах часто встречалась надпись: "Частному приставу в день его именин". На службе тот же околоточный получал 50 руб., а собирал по участку в несколько раз поболее… Обер-полицмейстер был неравнодушен к коньяку, об этом я знал лично, так как мы поставляли и ему напитки с нашего завода. Пил он много, но как-то очень быстро трезвел и, освежась, опять ездил по Москве. И так чуть ли не всю ночь. В приказах его отмечались замеченные при проездах нарушения полицейской службы в два, в три, в четыре – словом, во все часы ночи в самых разных частях города… Я лично слышал, как в четыре часа утра он ворвался в Петровско-Разумовский участок и, обнаружив, что дежурный околоточный, снявши шапку и шашку, облокотясь на стол, спит, разбудил его тумаками. Этого ему показалось мало, и он кинулся писать приказ о наказании бедолаги: мол, не было рапорта о состоянии вверенного участка! Домовладельцев Власовский карал нещадно, если не посыпали желтым песком откосы тротуаров у своих домов, не заботились о красоте улиц и не чистили отхожие ямы. Штрафы были от 100 до 500 руб., с заменой арестом от одного до трех месяцев. Город, помню, засиял чистотой… Извозчики, сторожа и дворники говорили о нем с ненавистью, даже называли "антихристом"… До Власовского не было в Москве места, где бы не слышалась извозчичья ругань. Существовало даже выражение: "ругаться по-извозчичьи". Как сам Митрич пересказывал: "Нам без ругани нельзя, ругань у нас заместо покурить!..". На другой день после назначения обер-полицмейстером Власовского на головы извозчиков как из рога изобилия посыпались штрафы, о которых он ежедневно сообщал в газете "Ведомости московской городской полиции"… Новый обер-полицмейстер Москвы А.А. Власовский, главный "городовой", по Митричу, жизнь московского извозчика превратил в сущий ад. По словам Митрича, полиция извозчика ни во что не ставила. Придиралась к каждой мелочи: худому кафтану, к плохой полости, к поцарапанному экипажу, к не прибитому на соответствующее место номерному знаку, к случайной остановке и т. п. И за все "хабарила", т. е. брала в свои карман гривенники, двугривенные, полтинники и даже рубли. Протестовавших взашей толкали в участок, сажали на сутки в каталажку полицейского участка, не давая даже возможности накормить и напоить брошенную на дворе лошадь. Особенно изощрялись "фанфароны" (городовые) и "околодыри" (околоточные), традиционно кормившиеся сбором незаконной дани на московских улицах. Городовых Митрич считал, в шутку ли, всерьез, "нечистой силой": мол, в лесу – леший, в воде – водяной, а в городе – городовой… Приказы, по рассказу Митрича, были лаконичны: "Легковой извозчик номер такой-то слез с козел – штрафу 10 руб.", "оказал ослушание полиции – штрафу 25 руб.", "слез с козел и толпился на тротуаре", "халат рваный – штрафу 5 руб.", "произнес неуместное замечание – штрафу 15 руб."… "Ой, господин хороший, какую ж он нам жизнь устроил, – говорит Митрич. – Ломовой на невзнузданной лошадке – плати штраф. Лошадь с норовом – плати. Не держит ломовой интервала – плати!" Извозчики смиренно и молча сидели на козлах, не смея слезть с них. Лица их были унылыми и вытянутыми. Оживленные их голоса и громкая брань замолкли. В городе был наведен полный порядок. Митрич рассказывает про это, как будто жалуясь. Но мне кажется, спроси я его: "Слушай, Митрич, хотел бы ты махнуть сейчас из Франции в ?ту” Москву?". – он бы согласился без промедления. И вся история с Власовским кажется мне теперь каким-то веселым недоразумением из нашей прошлой жизни. Вот обер-полицмейстер в открытой пролетке весь день носится по городу, выискивая нарушения. Рядом с ним восседает чиновник с "паскудкой", как окрестили особую книжку для наложения штрафов, а в ней – кого только не было! Нарушившие правила извозчики, дворники, городовые, околоточные, а также "вообще замеченные беспорядки на улицах". И лишь когда наступает время ужина, городские службы вздыхают с облегчением – можно теперь передохнуть! Еду Власовскому приносили домой из ресторана "Эрмитаж", так как был он холост и хозяйства не вел… Под Власовским был весь штат московской полиции… Полиция трепетала перед своим начальником. Многие даже отказывались от традиционной домовладельческой мзды, боясь, что Власовский дознается и лишит их "хлебного" места. Большинство частных приставов и квартальных надзирателей Москвы он действительно места лишил, отправив в отставку. Набрав новых, обязал их делать ночные проверки городовых и дворников… Правление неугомонного обер-полицмейстера продолжалось до 1896 г. В отставку, а потом и на пенсию он ушел в чине полковника, так и не став генералом. Кстати, за все годы работы в Москве бумаги подписывал как "исправляющий должность", поскольку обер-полицмейстером мог быть только генерал. Закончилась карьера Власовского наутро после Ходынской катастрофы. На Власовского "спустили всех собак", обвинили в том, что на Ходынском поле он не сумел обеспечить порядок вверенными службами, не предотвратил давку и жертвы»[85 - Смирнов В.П. Смирновы. Водочный бизнес русских купцов… С. 97–98.].
Графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель утверждала, что: «Во время коронации Николая II его сравнивали с Людовиком XVI. Как с прибытием Марии Антуанетты в Париж праздник обратился в траур, так и московские торжества ознаменовались большой катастрофой, повлекшей за собой много жертв. Обещана была раздача народу царских подарков. Толпы женщин и детей потянулись из разных деревень в Москву на Ходынское поле. Не было принято никаких мер предосторожности, и, когда началась раздача подарков, вся толпа беспорядочно хлынула вперед, спотыкаясь, падая в ямы, толкая и топча друг друга. Ходынка стала гигантской гекатомбой, символом постоянно царившего в России беспорядка. Число жертв составляло от 8 до 10 тысяч человек. Когда я на следующий день поехала на парад, я увидела сотни телег, везущих целые горы трупов с торчащими руками и ногами, так как не сочли даже нужным чем-нибудь их прикрыть. Назначено было следствие для отыскания виновных. В то время власть в Москве была разделена между генерал-губернатором, великим князем Сергеем Александровичем, и министром двора, во главе которым был граф Воронцов-Дашков. Оба они друг друга обвиняли в происшедшем. Граф фон дер Пален, бывший министр юстиции, обер-церемониймейстер во время коронации, был избран судьей. Он попросил позволения прочитать свой отчет перед царем и царской семьей. Он начал так: "Катастрофы, подобные происшедшей, могут до тех пор повторяться, пока ваше величество будет назначать на ответственные посты таких безответственных людей, как их высочества, великие князья". Эти ставшие историческими бесстрашные слова правильно освещают тогдашнее положение. Эта безответственная, самодержавная и в то же время бессильная власть привела нас, как я уже неоднократно говорила, к той ужасной катастрофе, жертвою которой мы стали»[86 - Клейнмихель М.Э. Из потонувшего мира. Берлин: Глагол, 1923. С. 201.].
Большинство трупов (кроме опознанных сразу на месте и выданных для погребения в свои приходы) было собрано на Ваганьковском кладбище, где проходило их опознание и погребение. По официальным данным на Ходынском поле (и вскоре после инцидента) погибло 1 379 человек, еще несколько сот получили увечья. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тыс. руб., разослала тысячу бутылок мадеры для пострадавших по больницам. 19 мая 1896 г. императорская чета вместе с генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем посетила Старо-Екатерининскую больницу, где были помещены раненые на Ходынском поле; 20 мая посетили Мариинскую больницу. Храм во имя иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле («на крови»). Вдовствующая мать-императрица потребовала прекратить торжества и наказать градоначальника Москвы князя Сергея Александровича, дядю Николая II. Но прерывать мероприятия не стали. Наказаны были московский обер-полицмейстер А.А. Власовский и его помощник – оба были сняты с занимаемых должностей. А.А. Власовский был «снят с обеспечением пожизненной пенсии в 15 тыс. руб. в год», а князь-губернатор даже получил высочайшую благодарность «за образцовую подготовку и проведение торжеств». В 1896 г. на Ваганьковском кладбище на братской могиле был установлен памятник жертвам давки на Ходынском поле по проекту архитектора И.А. Иванова-Шица с выбитой на нем датой трагедии: «18 мая 1896 г.».
Многие в связи с Ходынской катастрофой вспоминают события 30 мая 1770 г. в Париже, когда устраивались фейерверки – Людовик XVI женился на австрийской эрцгерцогине Марии Антуанетте. Праздник омрачила катастрофа. Вслед за этим огромная толпа, собравшаяся на площади Людовика XV (ныне – площадь Согласия), хлынула на бульвары, где ожидались балы, иллюминация и раздача бесплатной выпивки и закуски для народа. С широкой площади все устремились на улицу Руайяль, возникла давка, а навстречу двигался поток желающих попасть на площадь с бульваров. Число жертв достигло 130 человек. Однако подобные события происходили и в России. Например, во время коронационных торжеств Николая I 23 сентября 1826 г. (также в Москве), по воспоминаниям Франсуа Ансело, «без многочисленных жертв не обошлось… На следующий день в Москве говорили, что за вечер было задавлено крестьян на две или три тысячи рублей, и искренне жалели их владельцев»[87 - Ансело Ф. Шесть месяцев в России. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 150–151.]. Таким образом, это была не первая катастрофа при коронационных торжествах в России.
Празднества по случаю коронации продолжились вечером в Кремлевском дворце, а затем балом на приеме у французского посла. Многие ожидали, что если бал не будет отменен, то, по крайней мере, состоится без государя. По словам Сергея Александровича, хотя Николаю II и советовали не приезжать на бал, однако царь высказался, что хотя Ходынская катастрофа – это величайшее несчастье, однако не должно омрачать праздника коронации. Николай II открыл бал с графиней Монтебелло (женой посланника), а Александра Федоровна танцевала с графом. Генерал Алексей Куропаткин в своих дневниках писал о реакции представителей царской фамилии на случившееся: «Великий князь Владимир Александрович сам возобновил со мною разговор, передав сказанные ему в этот вечер слова герцога Эдинбургского, что при праздновании 50-летия царствования Виктории было 2 500 человек убитых и несколько тысяч раненых, и никто этим не смущался». С.С. Окрейц утверждал: «Молодой турецкий бей настаивал на оригинальной, чисто турецкой точке зрения: пять или двадцать тысяч погибли – это не суть важно»[88 - Окрейц С.С. Листки из записной тетради… С. 341.].
В целом анализируя Ходынскую трагедию и отвечая на вопрос о том, что явилось причиной гибели такого количества людей – водка или случайность, можно сделать следующий вывод – и то, и другое. Да, если бы ямы и колодцы засыпали, то жертв было бы меньше, но они все равно бы были, так как сработали бы другие обстоятельства. В данной катастрофе не было какой-то одной ошибки, это был целый комплекс негативный обстоятельств: просчеты великого князя Сергея Александровича (его после этих событий стали звать «князем Ходынским», а Николай II получил прозвище «Кровавый») и других высших чиновников, недоработка полиции, но, безусловно, и то, что часть пришедших на торжества были в нетрезвом состоянии. Конечно же, не все они были пьяными, а определенная часть, возможно, и не слишком большая. Описания различных народных празднеств и гуляний, которые приводятся выше, это косвенно подтверждают. К сожалению, праздники в России редко обходятся без алкоголя. При этом погибли не только пьяные, но и совершенно трезвые люди, которые просто пришли на коронационные торжества и стали жертвами обстоятельств.
1.3. С.Ю. Витте – архитектор новой винной политики
Социально-экономическое развитие России на рубеже веков было весьма противоречивым. Ее население насчитывало около 130 млн человек. Размещено оно было по территории страны крайне неравномерно. Почти 90 % населения проживало в европейской части, за Уралом проживало всего 13,5 млн человек, из них 7 млн – в Казахстане и Средней Азии. Страна оставалась преимущественно аграрной. В городах проживало всего 14,7 млн человек. Однако темпы промышленного развития были высокими. В 1890-х гг. страна переживала промышленный подъем, объем промышленного производства увеличился в 2 раза. Определенные изменения происходили и в винокуренном производстве. В ее реализации начали появляться определенные недостатки. Так, по мнению исследователя питейной политике А.Б. Петрищева, при внедрении акцизной системы «в первое время шло довольно гладко. Но затем и полиция, и кабатчики, и акцизные надзиратели быстро приспособились к новому порядку. Начав с того, что кабатчики имели так называемые льготные градусы. Хоть и полагалось, чтобы водка была 40 градусов, но так как спирт летуч и теряет крепость даже при переливании из одной посуды в другую, то было установлено, что кабатчик не отвечает, если водка имеет не 40 градусов, а на несколько десятых градуса меньше. Многие оптовые склады этим воспользовались и стали отпускать в кабаки водку, вместо 40 градусов, в 39,1, 39,7 и т. д. А дабы акцизные смотрели на это сквозь пальцы, от складчика им было положено "жалованье", как во времена откупа. А получивши жалованье от складчика, акцизные снисходительно относились и к тем кабакам, которые покупают у него водку. Кабатчики поняли, что это дело выгодное. И местами установилось так, что целовальники платили складчику "на акциз", а складчик лишь распределял деньги между акцизными. Далее, целовальник не имел права продавать водку по ночам, не имел права давать водку под заклады, не имел права устраивать игры в карты. Но в действительности и ночная торговля быстро процвела, и заклады принимались, и многие кабаки обратились в выгодные притоны. Все это в России устроить довольно легко: стоит лишь платить "жалованье" городовым, околоточным, приставам, и прочим полицейским чинам. А задобривши полицию, каждый мог действовать, как ему заблагорассудится. Бывали случаи, что кабатчик самовольно вызывал солдат из казармы "для усмирения взбунтовавшихся покупателей". И солдаты по зову этому приходили и усмиряли. Таким образом, значение кабака всецело зависело от личных качеств целовальника. Если целовальник совестливый человек, то в его кабаке было мирно; одни собирались сюда, чтобы выпить, а другие просто, чтобы побеседовать, провести время. Такие кабаки являлись как бы клубами для малоимущих людей. Но целовальник мог из своего заведения сделать не только игорный, но и разбойничий притон: и этим выгодным делом можно было заниматься безнаказанно, стоило лишь давать хорошие взятки полиции. А так как в самодержавном государстве полиция безнаказанна, то не мудрено, что большая часть кабаков превратилась в притоны, где людей спаивали и обирали. Правительство пыталось с этим бороться. Но оно сваливало вину не на полицию, а на кабатчиков. При Александре III был издан новый закон: чтобы вино распивочно продавалось только из трактиров (а за право иметь трактир назначена высокая плата, – несколько сот рублей в год), а из обыкновенных кабаков, переименованных в ренсковые погреба, разрешалось продавать водку только навынос; кроме того, были заведены особые "винные лавки", откуда разрешалось продавать водку навынос только в запечатанной посуде. Надеялись, что если в кабаке нет в продаже распивочной, то не будет и притонов. Этот закон значительно увеличил доходы полиции. Но в ренсковых погребах и даже в винных лавках часто велась такая же "распивочная торговля", как и в трактирах»[89 - Петрищев А.Б. Из истории кабаков в России // Природа и школа. 1906. № 2. С. 27–28.].
Проводил новую винную реформу министр финансов Сергей Юльевич Витте, родившийся в 1849 г. в семье курляндского дворянина Христофа Генриха Георга Юлиуса Витте и дочери губернатора Саратовской губернии Екатериной Андреевны (в девичестве Фадеевой). Елена Петровна Блаватская (урожденная Ган), автор «Тайной доктрины» (одной из идеологических предпосылок современного фашизма) приходилась мальчику кузиной. До достижения шестнадцатилетнего возраста С.Ю. Витте посещал гимназию в Тифлисе. Затем семья пару лет жила в Кишиневе. После получения аттестата зрелости они с братом стали студентами Новороссийского университета в Одессе. После его окончания по рекомендации графа А.П. Бобринского в 1877 г. С.Ю. Витте стал путейцем. Ему приходилось много ездить по небольшим станциям, изучая во всех тонкостях работу железной дороги и занимать различные невысокие посты для углубления знаний. Вскоре такая настойчивость дала результаты, и он в 25 лет возглавил эксплуатационную службу Одесской железной дороги. В 1879 г. С.Ю. Витте поручили руководить пятью юго-западными железными дорогами (Харьковско-Николаевской, Киево-Брестской, Фастовской, Брестско-Граевской и Одесской).
Один из сотрудников Переселенческого управления И.И. Тхоржевский в своих воспоминаниях рассказал о столь головокружительной карьере данного реформатора: «Витте окончил математический факультет в Одессе и думал сначала готовиться к кафедре чистой математики. Но по настояниям близких держал еще выпускные экзамены при Институте инженеров путей сообщения и стал служить по железным дорогам. Случай показал его в выгодном свете Александру III. Во время царских поездок по России одна из них ознаменовалась потом крушением поезда (в Борках). Витте, как начальник одного из участков железной дороги, обратил уже внимание на то, что царский поезд, бывший много тяжелее обычных, шел со скоростью, много превышавшей обычную. Со свойственной ему решительностью он заявил, что в пределах вверенного ему участка не может допустить такой скорости. А когда стал управляющим на юго-западных дорогах, то просто распорядился об уменьшении скорости царского поезда. Это навлекло на него личное резкое неудовольствие Александра III и бойкот со стороны царской свиты. Министр путей сообщения, сопровождавший государя, вызвал Витте в царский вагон и указал ему, что на других дорогах поезд идет быстрее. Тогда Витте, не смущаясь царским присутствием, ответил: "Другие пусть делают, что хотят, а я ломать головы государю не стану". Когда вслед за тем произошло действительное крушение поезда, Александр III вспомнил о беспокойном путейце и сначала назначил его членом комиссии, расследовавшей причины крушения, а вскоре предложил ему, уже на государственной службе, место директора департамента железнодорожных дел. Витте сначала ответил, что на частной службе он зарабатывал 50 тыс. руб. в год, а казенное жалованье будет всего 8 тыс. Государь сказал на это, что он будет выдавать ему еще 8 тыс. из своего царского кармана и вообще имеет на него свои виды – Витте, честолюбец по природе, не устоял. Окончательно его подкупила в пользу государя еще и та мелочь, что на Витте, по гоголевскому словцу, «чинишко был дрянь» (титулярный советник). Назначая его на генеральское место, Александр III, вопреки всем правилам, махнул Витте прямо в генералы: произвел в действительные статские советники. В Петербурге Витте сразу выделился своей практичностью: знанием людей, вещей и цен. В русской бюрократии было всегда немало лоска, но практического уменья зацеплять колесами служебной машины деловую жизнь, заставлять что-то грубое, сырое и жизненное служить целям, намеченным властью, было всего меньше. У Витте обнаружилось именно такое уменье, а кроме того дар подбирать себе полезных сотрудников. И хотя неисправимые в своем зубоскальстве петербуржцы перекрестили его из Сергея Юльевича в "Сергея Жульевича" …, но репутации доки и ловкача за ним не отрицал никто»[90 - Тхоржевский И.И. Витте // Последний Петербург. Воспоминания камергера. СПб., 1999. С. 51.].