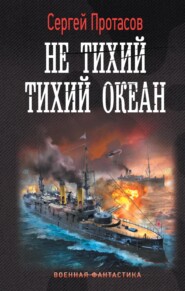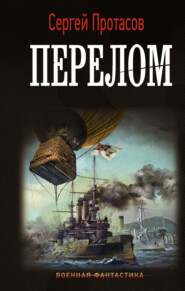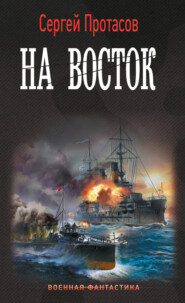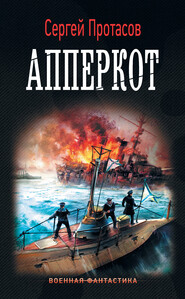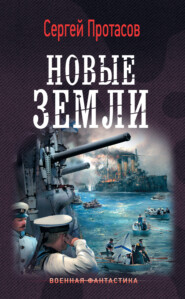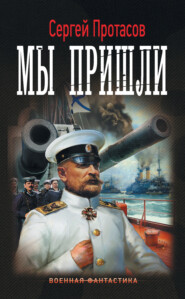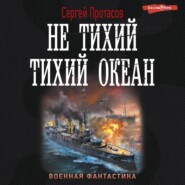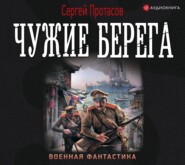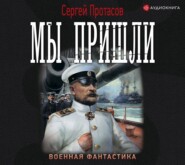По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цусимские хроники: Мы пришли. Новые земли. Чужие берега
Жанр
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Идя наперерез японцам, русские быстро приближались, развив очень высокий темп стрельбы. С первых же минут боя «Микаса» оказался под сосредоточенным огнем всех пяти новейших броненосцев Рожественского. Мощь этого огня была столь высока, что японцы поначалу даже не могли отвечать на обстрел, получая попадания буквально пачками, изредка огрызаясь из башенных орудий. Уже на третьей минуте в дело вступили и крейсера, вырвавшиеся вперед, перестраиваясь из уступа в кильватерную колонну, и начавшие охватывать голову японцам, которые сами шли под их снаряды.
Флагманский броненосец адмирала Того заволокло дымом от разрывов попадавших в него снарядов, в котором все время вспыхивали слабые вспышки новых попаданий и искры рикошетов. Рухнула сбитая стеньга грот-мачты, что-то рвануло в батарее под мостиком, и там начался пожар.
Но по мере вступления в бой следующих японских кораблей русским броненосцам приходилось переносить часть своего огня сначала на «Сикисиму», затем на «Фудзи» и «Асахи», постепенно ослабляя давление на «Микасу». Однако сократившаяся за шесть минут до 20 кабельтовых дистанция, заметно увеличила вероятность попадания. К тому же теперь русские могли развернуться к противнику всем левым бортом, и воздействие их огня – наоборот – возросло. Японский флагман продолжал оставаться целью номер один. По нему стреляли три первых русских броненосца, «Орел» бил по «Сикисиме» и «Фудзи», а «Ослябя» по четвертому в строю «Асахи».
Крейсера продолжали идти на север полным ходом и сильно вырвались вперед, стремясь пересечь курс японцев и держа под продольным огнем с быстро уменьшавшейся дистанции горящего «Микасу».
Все это вынудило Того довернуть на один румб влево, но этот сигнал едва был поднят, как тут же полетел в море, вместе со сбитым рангоутом.
Однако постепенно огонь японцев становился все сильнее. Даже их флагман оправился от первого шока, начав отвечать из уцелевших орудий. Так же как и русские, они стреляли, в первую очередь, по флагманскому «Суворову», но тоже не доставали его из кормовых башен и били частично и по всем остальным кораблям первого отряда, но больше по «Ослябе», пока его не взяли под обстрел броненосные крейсера.
Начались попадания в наши броненосцы, особенно в «Суворова». Был полностью разрушен кормовой мостик, разбит кормовой каземат левого борта, где начался пожар, который, впрочем, быстро потушили. Попадания следовали одно за другим, но большей частью они приходились в корму, а часть снарядов рвалась в кильватерном следе броненосца. Видимо, высокая скорость хода нашего первого броненосного отряда не укладывалась в головах японских комендоров. «Суворовы» уже шли на шестнадцати с половиной узлах, продолжая разгоняться.
В то время как новые броненосцы сильно страдали от огня японцев, отряды Добротворского и Иессена до сих пор не были под обстрелом! Их сорок четыре 152-миллиметровые скорострельные пушки бортового залпа вместе с четырьмя 203- и десятью 120-милиметровками спокойно превращали в решето носовую часть «Микасы». Полностью разрушили командирский мостик, заклинили носовую башню и выбили всю артиллерию на верхней палубе и в носовых казематах. Остальные казематные орудия не могли бить так круто в нос и не доставали своих обидчиков, а от шедших вторым и третьим «Сикисимы» и «Фудзи» крейсера закрывал корпус японского флагмана и дым его пожаров.
Стреляя полными бортовыми залпами всего с 20 кабельтовых, все семь крейсеров громили «Микасу» частым продольным огнем с острых носовых углов. Кроме того, все их трехдюймовки выдавали свои 8–10 выстрелов на ствол за минуту, наверняка попадая хоть иногда. При этом дистанция быстро сокращалась, так как японцы приближались на 15 узлах. Русские крейсера поставили Того его любимую палочку над «Т», а он ничего с этим не мог поделать. Под таким ураганным обстрелом у него просто не было возможности управлять эскадрой, он даже, скорее всего, ничего уже не видел из боевой рубки, тонувшей в дыму пожара носовых казематов обоих бортов, разбитых в хлам множеством попаданий.
С русских кораблей были хорошо видны страшные разрушения на «Микасе». Спустя десять минут после начала боя, с него могли стрелять лишь одна шестидюймовка и кормовая башня из одного орудия. Появился крен на левый борт и заметный дифферент на нос. В батарейной палубе полыхал большой пожар. От обеих мачт остались лишь обглоданные и укороченные тычины, а трубы истекали дымом через многочисленные пробоины. Корабль определенно потерял боеспособность и, возможно, уже никем не управлялся, оставаясь, однако, на прежнем курсе.
Новые русские броненосцы шли на сходящемся с японцами курсе, находясь уже в 18 кабельтовых, и приближались, продолжая бить из всех башен и казематов, что могли действовать. Второй и третий отряды поотстали, но также повернулись всем бортом к противнику, стреляя гораздо реже, но убийственно точно. Лишь немногочисленные скорострелки, имевшиеся на старых кораблях, лупили с неизменной частотой, да трехдюймовки сыпали свою мелочь как горох.
Облегченные русские снаряды летели по более настильной траектории, что на таких дистанциях существенно повышало точность огня, а грамотное управление стрельбой всех броненосцев делало их артиллерию максимально эффективной. Постепенное появление на поле боя кораблей противника позволяло добиваться высокой концентрации огня на каждой новой цели, в то же время не позволяя им стрелять прицельно.
А между тем уже восемь японских кораблей линии прошли роковую точку поворота, в том числе и два из шести японских броненосных крейсеров 2-го боевого отряда Камимуры. Они немедленно открыли огонь из большей части своих орудий по «Ослябе», шедшем замыкающим в первом броненосном отряде русских, размазывая по остальным лишь то, что не удавалось на него навести. На этот момент он уже был под обстрелом с «Ниссин» и «Касуги». Этот высокобортный корабль представлял собой очень удобную мишень, и попадания в него начались почти сразу после начала боя. То и дело на его бортах сверкали яркие вспышки разрывов, начался пожар на шкафуте, замолчал верхний носовой каземат, но броненосец энергично отвечал всем бортом, стреляя по «Асахи» и не сбавлял хода, уверенно держась на курсе.
Накал боя возрастал с каждой секундой. Такой яростной схватки еще не знал ни один флот мира. Броненосные корабли всаживали залпы друг в друга практически с прямой наводки, выжимая все возможное из своей артиллерии и механизмов. На таких дистанциях отпадала надобность в корректировке и точном измерении расстояния до цели, даже прицелы были почти не нужны, поэтому на одном корабле можно было сосредоточить огонь сразу нескольких, не боясь сбить пристрелку, что приводило к ужасающе быстрому накоплению повреждений на кораблях, угодивших под такой обстрел.
Русский и японский флагманы как раз и были такими кораблями. Но русские сумели, воспользовавшись ошибкой противника, вырвать себе фору, использовав её на всю катушку. И хотя чисто внешне сейчас доставалось больше «Суворову», чей борт временами полностью скрывался за разрывами прямых попаданий и стеной поднятой близкими недолетами и попаданиями в ватерлинию воды, он переносил все это гораздо легче «Микасы», попадания в которого были не столь эффектны, но, тем не менее, заставили замолчать большую часть его артиллерии и наверняка повредили подводную часть, судя по возрастающему крену и осадке в носу.
Наконец, в 13:54 «Микаса» не выдержал и отвернул резко влево, покинув боевую линию своего флота, горя во многих местах. Под русскими снарядами всего за двенадцать минут огромный и могучий современный броненосец превратился в беспомощную дымящую развалину.
Одновременно с ним вынужден был выйти из строя для исправления повреждений броненосный крейсер «Асама». Еще даже не закончив разворота, он был накрыт залпом с «Николая I» и получил минимум одно попадание из его двенадцатидюймовой башни в корму, после чего так и не смог встать на боевой курс, продолжая катиться влево. Видимо, бронебойный снаряд повредил ему рулевое управление. Практически одновременный выход из боя этих двух кораблей противника был встречен громогласным «ура-а-а!!» на русских кораблях. Но бой продолжался.
В этот момент русская эскадра, разделившаяся на три отряда, ломаной дугой охватывала голову японской колонны, постепенно её обгоняя. Дистанция боя сократилась уже до 12–13 кабельтовых и продолжала уменьшаться. Густые клубы дыма от тоннами сгоравшего в орудийных стволах пороха, перемешанные с клочьями тумана и угольной копоти, застилали поле боя. Юго-западный ветер сносил это все в промежуток между сражающимися колоннами кораблей, от чего они временами совсем теряли из вида друг друга. Как сказал потом один из офицеров «Сикисимы»: «Лишь мачты да верхушки труб русских броненосцев торчали над дымной пеленой». Но из этой серой клубящейся массы все время летели снаряды, впивавшиеся в борта японских кораблей, проламывавшие броню, сносившие за борт орудия, мачты, протыкавшие насквозь небронированные борта, трубы, надстройки.
Оказавшийся теперь головным «Сикисима», едва выйдя из дыма от пожаров «Микасы», сразу угодил под продольный обстрел в упор с русских крейсеров. К тому же японцы увидели в клубах дыма всего в 13 кабельтовых перед собой выходящие на них в атаку эсминцы, прорезающие строй русских крейсеров в хвосте их колонны.
Уклоняясь от торпедной атаки, головной японский броненосец круто повернул на север, перенеся огонь средней и мелкой артиллерии на миноносцы, а носовой башней начав обстреливать «Россию». За ним, так же последовательно, как и раньше, начали поворачивать следующие корабли, немедленно включаясь в отражение атаки.
Резкий маневр вывел японцев из-под дыма, но перенос огня на новые цели существенно ослабил давление на «Суворова». Теперь он был лишь под огнем кормовых башен японских броненосцев. Зато наш первый отряд бил теперь всем бортом в корму японским броненосцам. Противник снова оказался под продольно-перекрестным обстрелом и никак не мог из-под него выскочить.
В 13:56, начав поворачивать на север, японцы стреляли уже по всем броненосцам первого отряда. К этому времени, в отличие от «Суворова», шедший вторым в строю «Александр III» наоборот оказался под очень плотным обстрелом с «Ниссин» и «Касуги», передавших «Ослябю» 2-му отряду, а «Бородино» и «Орел» начали получать попадания с кораблей Камимуры, перенацелившего два головных своих крейсера на них с горящего и избитого «Осляби». На прочие русские корабли приходились лишь незначительные, чаще всего случайные, остатки.
Вскоре противнику пришлось полностью перенести огонь своих броненосцев на продолжавшие сокращать дистанцию наши крейсера, что избавило от обстрела флагман эскадры. На нем немедленно занялись исправлением двух заклиненных шестидюймовых башен, выбивая ломами и кувалдами застрявшие в мамеринцах осколки. Вскоре вся артиллерия снова могла действовать. За время вынужденного простоя в башнях успели пополнить кранцы первых выстрелов и били сейчас с частотой палубных установок, так, что огонь первого отряда броненосцев, несмотря на интенсивный обстрел, даже несколько усилился.
К двум часам дня «Ослябя» все еще находился под мощным огнем, правда, уже начавшим ослабевать из-за перемены целей двумя головными японскими крейсерами и из-за выхода из строя японских орудий от русских снарядов. Сам он продолжал бить по «Асахи» из кормовой башни и двух шестидюймовок кормового каземата – всего, что уцелело. Но положение корабля было очень тяжелым.
За неполных двадцать минут он получил больше 60 попаданий 76-миллиметровых, средних и тяжелых снарядов. Множество рваных пробоин покрывало левый борт броненосца, из некоторых вырывались языки пламени от пожаров. Носовая башня, успев дать лишь три залпа, получила три прямых попадания и полностью вышла из строя. Если два первых снаряда почти без ущерба разорвались на её броне, лишь расшатав лобовую плиту, то третий, большого калибра, угодил прямо в амбразуру левого орудия. При чем само орудие, уже заряженное, оказалось сбито со станка и загнано в башню до задней стенки, расплющив зарядное устройство и смяв снарядный элеватор. После чего просто скатилось влево. Теперь его ствол торчал неестественным образом задранный вверх и повернутый вправо. Сама башня оказалась намертво заклиненной. К счастью, обошлось без пожара.
Крупный снаряд взорвался у первой переборки жилой палубы, при этом пробоина оказалась в опасной близости от ватерлинии, и если бы корабль не разгрузили на Мадагаскаре и дополнительно перед боем, то через нее наверняка бы затопило первое и второе отделения жилой палубы, а возможно, даже и левый носовой 152-миллиметровый погреб, так как к этому времени уже оказались перебитыми близким разрывом тяжелого снаряда его вентиляционные трубы у самой бронепалубы.
Носовой верхний каземат был разрушен несколькими попаданиями. Силой взрыва японских фугасов просто снесло все конструкции, к которым крепилась его броня, после чего плиты завалились внутрь. Замолчала большая часть казематной артиллерии левого борта, выбитой частично осколками, частично прямыми попаданиями. Все 75-миллиметровые орудия, не прикрытые броней, на верхней и батарейной палубе стреляющего борта вышли из строя. Тяжелых потерь в их расчетах удалось избежать, приказав прислуге с началом обстрела укрыться под бронепалубой и заниматься тушением пожаров и заделкой пробоин. А пробоин этих, особенно осколочных, было великое множество. Не прикрытые броней оконечности сильно страдали от близких недолетов, буквально обдававших корабль тоннами воды и тучами осколков, часть из которых даже пробивали обшивку ниже ватерлинии.
Задымление внутренних помещений от разрывов японских фугасов было таким, что невозможно было разглядеть горящие электрические лампочки освещения под подволоком жилой и батарейной палуб. Помещения удалось провентилировать, временно отдраив иллюминаторы правого борта в корме.
Как и в случае с «Суворовым», значительная часть японских снарядов падала позади броненосца. Всего в 10–20 метрах за кормой, но, тем не менее, они наносили лишь осколочные повреждения, не способные лишить его возможности продолжать бой.
Трубы были многократно пробиты снарядами и осколками, отчего казались черными, а не серыми. Защитные брустверы вокруг них либо сбило, либо вдавило внутрь. Разбиты оба мостика и все надстройки, рухнула за борт грот-мачта, однако получившая два прямых попадания, неестественно толстенная фок-мачта устояла. Более того, сохранилась связь по одной из двух бронированных линий с рубкой артиллерийских наблюдателей, из которой все время передавали данные для стрельбы из уцелевших орудий.
В кают-компании и на шканцах бушевали пожары, с которыми было очень трудно бороться из-за повреждения пожарных магистралей, но их удавалось держать под контролем, не дав слиться в сплошной костер благодаря грамотным действиям аварийных партий под руководством лейтенанта Саблина и мичмана Бачманова. Горели и разбитые носовые казематы, но самым страшным было не это.
В 13:58 сразу два японских тяжелых снаряда ударили одновременно в 178-миллиметровую броневую плиту главного пояса в районе носовой башни. От этого удара броненосец даже рыскнул на курсе, качнувшись вправо всем корпусом. После этого сдвоенного попадания быстро затопило угольную яму № 10, а через деформированную переборку начало затапливать запасную крюйт-камеру левого борта носовой башни. Все сильнее броненосец начинал валиться на левый борт и садиться носом. В качестве контрмер затопили три коридора правого борта и две угольные ямы, уже освободившиеся и значившиеся в списках отсеков спрямления корабля в случае подводных повреждений. После этого крен почти выровнялся, но нос корабля продолжал погружаться.
Позже выяснилось, что силой взрыва японских фугасов срезало болты крепления брони к борту и вдавило плиту внутрь. Через несколько секунд она сорвалась с обшивки и ухнулась в море. Подбашенное отделение начало быстро затапливать через разошедшиеся швы и разрывы обшивки за броней. Водоотливные средства не справлялись с потоком воды, а о том, чтобы завести аварийный пластырь под таким обстрелом и на полном ходу, нечего было и думать.
Из-за увеличившейся осадки в воду ушел и нижний край пробоины в жилой палубе выше ватерлинии, уже частично заделанной. Но эта наспех вставленная заделка сильно текла под напором волн, бивших в поврежденный борт, и не могла сдерживать воду долго, что грозило новыми обширными и уже практически неконтролируемыми затоплениями. Поэтому в 14:01 старший офицер капитан второго ранга Похвистнев, вступивший в командование кораблем вместо убитого осколком командира, приказал выйти из строя вправо и застопорить ход, развернувшись целым бортом к волне.
К этому моменту в боевой рубке броненосца не было ни одного человека, не получившего осколочных ранений. Старший офицер был ранен в голову и спину, старший артиллерист капитан второго ранга Генке – в грудь и шею, но после перевязки прямо в рубке продолжал руководить огнем. Рулевой матрос Осип Макаров получил по осколку в плечо и грудь, однако не отпускал штурвал, пока его не сменил старшина сигнальщиков Тищенко, также раненный в обе ноги, но успевший самостоятельно перевязать раны.
В 13:58 наши крейсера уже сблизились с японской колонной на 7–10 кабельтовых, но их безнаказанности пришел конец. Один за другим разворачивавшиеся на норд японские броненосцы открывали огонь из носовых башен по «России» и «Громобою». Вскоре они совсем оставили в покое «Суворова», переключившись на обнаглевшие крейсера всем главным калибром. А после того, как в 14:00 отвернули, так и не выйдя на дистанцию торпедного залпа, миноносцы и остатки шести-дюймовок. Кроме того, в 13:59 4-й японский боевой отряд наконец смог занять позицию в голове своих главных сил, начав обстрел кораблей Добротворского, которому пришлось перенести огонь носовых плутонгов крейсеров первого ранга, а также всех орудий «Жемчуга» и «Изумруда» на крейсера Уриу.
Но за те шесть минут, в течение которых все возрастающая японская огневая мощь наваливалась на Иессена, в огромном корпусе «Сикисимы» осело уже несколько тонн русской стали и взрывчатки. С такой короткой дистанции промазать по громадине броненосца было очень не просто, и промахов было немного. Бившие с максимальной частотой наши скорострелки всаживали в свою цель в среднем один-два снаряда в секунду, с лихвой перекрывая по весу сравнительно редкие рявканья японских башен, начинавших замирать и замолкать одна за другой. Казематные и палубные орудия японцев, занятые нашими эсминцами, также убывали с каждой минутой.
Расчеты трехдюймовок, не обращая внимания на обстрел, в бешеном азарте засыпали японца своими пятикилограммовыми снарядиками, истыкав его борт, особенно в носу, как из швейной машинки. Со всех крейсеров каждую минуту набиралось почти четыре сотни таких выстрелов, почти половина из которых достигала цели. Хотя они и не могли пробить даже самой тонкой брони, но, влетая в амбразуры казематов, мелкие, но все же бронебойные снаряды или их осколки выбивали расчеты, клинили орудия, поджигали и взрывали боеприпасы. Кроме того, этот град снарядов не давал высунуться из-за брони ни одной живой душе, парализуя все передвижения по небронированным палубам и мостикам.
К этому добавлялись еще и 330-килограммовые туши снарядов главного калибра броненосцев, прилетавшие с кормы и крушившие все внутренности, почти независимо от толщины брони, их прикрывающей. Не малый урон наносили и более чем 400-килограммовые бронебойные снаряды башенных шестидюймовок, проходившие вдоль корпусов и палуб, довершая картину внутренних разрушений, не заметных снаружи, но губительных внутри.
К началу третьего «Сикисима» лишился задней трубы, грот-мачты и всех надстроек в корме. Командирский мостик был разбит, весь рангоут оборван. Обе оставшиеся трубы едва держались, пробитые больше десятка раз во всех направлениях каждая. Кормовая башня была разбита, взорвана и горела, носовая, видимо, была заклинена и не могла вращаться, а ствол правого орудия в ней был оборван. Один или два каземата в корме также были выведены из строя, и сейчас на их месте полыхал огромный пожар. Из всей артиллерии левого борта могло действовать лишь два орудия. Корабль начал оседать кормой и крениться на правый борт, сбавив скорость и тяжело отвернув сначала на два румба влево, а потом и вовсе покинув строй. При этом он не мог идти прямо, все время рыская на курсе. Следом за ним вся японская колонна довернула влево, желая, видимо, увеличить дистанцию.
С самого начала боя русские действовали очень агрессивно и стремительно, заставив противника загнуть дугой свою боевую линию и не давая ему опомниться, одним рывком заняв и прочно удерживая выгодную для себя дистанцию, позволявшую компенсировать недостаточную выучку комендоров и превосходство японцев в системах управления огнем. Кроме того, теперь русские бронебойные снаряды гарантированно пробивали почти любую броню японских броненосцев. К сражению в таком сумасшедшем темпе японцы никак не были готовы и не могли ничего противопоставить натиску нашей эскадры. Они просто пятились (пока пятились), сохраняя строй (пока сохраняя), но теряя один корабль за другим. Ошеломляющей неожиданностью для Того стало превосходство русских броненосцев в скорости над его флотом.
Но у японцев пока сохранялось преимущество в артиллерии, и нашим броненосцам и броненосным крейсерам под сосредоточенным огнем доставалось очень крепко. Наиболее интенсивно японцы били по новейшим броненосцам. Казалось совершенно невероятным, как под таким обстрелом может что-то уцелеть, но они упрямо шли вперед, отвечая из своих башен, почти не пропускавших залпы, даже после прямых попаданий.
К двум часам дистанция до броненосцев противника увеличилась почти до 20 кабельтовых, и они продолжали удаляться. Чтобы не снижать эффективность огня, Рожественский приказал лечь на вест-норд-вест «всем вдруг».
Снова белая и красная ракеты взвились в небо, и русские броненосцы пошли в атаку, выжимая все из своих машин.
Несмотря на отвратительную видимость, японцы сразу заметили этот маневр, и их четыре замыкающих крейсера, еще не дойдя до точки поворота, развернулись «все вдруг» влево, ложась на основной курс своего головного броненосца. Одновременно дав самый полный ход, они начали удаляться от бивших им в корму наших второго и третьего отрядов.
Теперь японский строй напоминал изогнутую кочергу, причем «Токива», «Якумо» и «Ивате» не могли стрелять по «Суворовым», так как их закрывал поотставший «Адзума». Поэтому сразу после поворота они перенесли огонь на «антикваров» и «адмиралов», стреляя кормовыми залпами без четкого распределения целей, но стараясь держать под огнем все корабли второго и третьего отрядов. Им отвечали редкими, но точными носовыми залпами, при этом «Николай I» и «Наварин» стреляли по створившимся для них «Идзумо» и «Ниссин».
Все корабли японской линии уже имели серьезные повреждения, хорошо заметные с такого расстояния. Шедший сейчас головным «Фудзи» имел пожар на рострах и недействующую кормовую башню. «Асахи» мог стрелять только из трех двенадцатидюймовок, потому что ствол левого орудия в кормовой башне лежал неподвижно на максимальном угле склонения, а казематные орудия на нем были основательно прорежены нашим огнем. «Касуга» здорово горел в середине корпуса. После того, как тяжелый снаряд с кого-то из наших «стариков», придя с кормы, рванул у него в батарее правого борта. С него могли действовать лишь башенные орудия, причем кормовая башня периодически замолкала, теряя цель из-за дыма. Кроме того, наметился дифферент на нос.
«Ниссин» получил попадание 305-миллиметровым снарядом с «Сисоя» под кормовую башню еще в самом начале боя, после чего она просела вниз, а стволы орудий упали на палубу. Имелся также небольшой крен вправо. «Идзумо», еще даже не открыв огня, только подходя к точке разворота, лишился носовой башни, полностью выгоревшей от попадания тяжелого снаряда с «Наварина». «Адзума» имел развороченную, стараниями «Ушакова», третью дымовую трубу, от чего жирный черный дым заволакивал корму крейсера, мешая стрелять кормовым казематам и башне. Кормовой каземат на верхней палубе молчал, получив 305-миллиметровый снаряд. Лишь «Токива» не имел видимых повреждений, несмотря на то, что все время был под огнем. Шедший за ним «Якумо» сильно горел в корме, после того как там взорвался каземат. Горел и «Ивате», между первой и второй трубами которого вставал столб дыма и там что-то взрывалось. Все это, в сочетании с последним японским маневром, дало передышку поредевшему первому отряду, оставшемуся под огнем четырех броненосных крейсеров японцев с уже изрядно облегченным бортовым залпом.
В отличие от японской колонны, у русских серьезно пострадали только корабли первого броненосного отряда и владивостокские крейсера. На «Суворовых», особенно на двух головных, были заметны сильные разрушения в небронированных частях и пожары, но их артиллерия, размещенная в башнях, большей частью уцелела. Была разбита кормовая башня главного калибра на «Суворове» и средняя шестидюймовая на «Александре III», обе – прямыми попаданиями двенадцатидюймовых снарядов. Кроме того, на «Александре III» у носовой левой башни 152-миллиметровых орудий практически сорвало лобовую броневую плиту, которая теперь держалась всего на трех болтах, однако орудия не пострадали и после замены контуженого расчета она снова стреляла. В носовой башне главного калибра «Александра III» взрывом японского 203-миллиметрового снаряда на её крыше вдавило вниз верхний край амбразуры левого орудия, ограничив угол подъема пятью градусами. Этим же взрывом срезало броневой грибок башенного наводчика. Однако никто в башне серьезно не пострадал, и она не снижала темп стрельбы, не пропустив ни одного залпа. Периодические заклинивания мамеринцев удавалось исправлять достаточно быстро, даже под ослабшим обстрелом.
Гораздо хуже переносили огонь главного калибра японских броненосцев наши броненосные крейсера. Не имея столь обширного бронирования и башенной артиллерии, они за шесть минут такого обстрела получили по нескольку попаданий 305-миллиметровых снарядов и сильно горели.
Флагманский броненосец адмирала Того заволокло дымом от разрывов попадавших в него снарядов, в котором все время вспыхивали слабые вспышки новых попаданий и искры рикошетов. Рухнула сбитая стеньга грот-мачты, что-то рвануло в батарее под мостиком, и там начался пожар.
Но по мере вступления в бой следующих японских кораблей русским броненосцам приходилось переносить часть своего огня сначала на «Сикисиму», затем на «Фудзи» и «Асахи», постепенно ослабляя давление на «Микасу». Однако сократившаяся за шесть минут до 20 кабельтовых дистанция, заметно увеличила вероятность попадания. К тому же теперь русские могли развернуться к противнику всем левым бортом, и воздействие их огня – наоборот – возросло. Японский флагман продолжал оставаться целью номер один. По нему стреляли три первых русских броненосца, «Орел» бил по «Сикисиме» и «Фудзи», а «Ослябя» по четвертому в строю «Асахи».
Крейсера продолжали идти на север полным ходом и сильно вырвались вперед, стремясь пересечь курс японцев и держа под продольным огнем с быстро уменьшавшейся дистанции горящего «Микасу».
Все это вынудило Того довернуть на один румб влево, но этот сигнал едва был поднят, как тут же полетел в море, вместе со сбитым рангоутом.
Однако постепенно огонь японцев становился все сильнее. Даже их флагман оправился от первого шока, начав отвечать из уцелевших орудий. Так же как и русские, они стреляли, в первую очередь, по флагманскому «Суворову», но тоже не доставали его из кормовых башен и били частично и по всем остальным кораблям первого отряда, но больше по «Ослябе», пока его не взяли под обстрел броненосные крейсера.
Начались попадания в наши броненосцы, особенно в «Суворова». Был полностью разрушен кормовой мостик, разбит кормовой каземат левого борта, где начался пожар, который, впрочем, быстро потушили. Попадания следовали одно за другим, но большей частью они приходились в корму, а часть снарядов рвалась в кильватерном следе броненосца. Видимо, высокая скорость хода нашего первого броненосного отряда не укладывалась в головах японских комендоров. «Суворовы» уже шли на шестнадцати с половиной узлах, продолжая разгоняться.
В то время как новые броненосцы сильно страдали от огня японцев, отряды Добротворского и Иессена до сих пор не были под обстрелом! Их сорок четыре 152-миллиметровые скорострельные пушки бортового залпа вместе с четырьмя 203- и десятью 120-милиметровками спокойно превращали в решето носовую часть «Микасы». Полностью разрушили командирский мостик, заклинили носовую башню и выбили всю артиллерию на верхней палубе и в носовых казематах. Остальные казематные орудия не могли бить так круто в нос и не доставали своих обидчиков, а от шедших вторым и третьим «Сикисимы» и «Фудзи» крейсера закрывал корпус японского флагмана и дым его пожаров.
Стреляя полными бортовыми залпами всего с 20 кабельтовых, все семь крейсеров громили «Микасу» частым продольным огнем с острых носовых углов. Кроме того, все их трехдюймовки выдавали свои 8–10 выстрелов на ствол за минуту, наверняка попадая хоть иногда. При этом дистанция быстро сокращалась, так как японцы приближались на 15 узлах. Русские крейсера поставили Того его любимую палочку над «Т», а он ничего с этим не мог поделать. Под таким ураганным обстрелом у него просто не было возможности управлять эскадрой, он даже, скорее всего, ничего уже не видел из боевой рубки, тонувшей в дыму пожара носовых казематов обоих бортов, разбитых в хлам множеством попаданий.
С русских кораблей были хорошо видны страшные разрушения на «Микасе». Спустя десять минут после начала боя, с него могли стрелять лишь одна шестидюймовка и кормовая башня из одного орудия. Появился крен на левый борт и заметный дифферент на нос. В батарейной палубе полыхал большой пожар. От обеих мачт остались лишь обглоданные и укороченные тычины, а трубы истекали дымом через многочисленные пробоины. Корабль определенно потерял боеспособность и, возможно, уже никем не управлялся, оставаясь, однако, на прежнем курсе.
Новые русские броненосцы шли на сходящемся с японцами курсе, находясь уже в 18 кабельтовых, и приближались, продолжая бить из всех башен и казематов, что могли действовать. Второй и третий отряды поотстали, но также повернулись всем бортом к противнику, стреляя гораздо реже, но убийственно точно. Лишь немногочисленные скорострелки, имевшиеся на старых кораблях, лупили с неизменной частотой, да трехдюймовки сыпали свою мелочь как горох.
Облегченные русские снаряды летели по более настильной траектории, что на таких дистанциях существенно повышало точность огня, а грамотное управление стрельбой всех броненосцев делало их артиллерию максимально эффективной. Постепенное появление на поле боя кораблей противника позволяло добиваться высокой концентрации огня на каждой новой цели, в то же время не позволяя им стрелять прицельно.
А между тем уже восемь японских кораблей линии прошли роковую точку поворота, в том числе и два из шести японских броненосных крейсеров 2-го боевого отряда Камимуры. Они немедленно открыли огонь из большей части своих орудий по «Ослябе», шедшем замыкающим в первом броненосном отряде русских, размазывая по остальным лишь то, что не удавалось на него навести. На этот момент он уже был под обстрелом с «Ниссин» и «Касуги». Этот высокобортный корабль представлял собой очень удобную мишень, и попадания в него начались почти сразу после начала боя. То и дело на его бортах сверкали яркие вспышки разрывов, начался пожар на шкафуте, замолчал верхний носовой каземат, но броненосец энергично отвечал всем бортом, стреляя по «Асахи» и не сбавлял хода, уверенно держась на курсе.
Накал боя возрастал с каждой секундой. Такой яростной схватки еще не знал ни один флот мира. Броненосные корабли всаживали залпы друг в друга практически с прямой наводки, выжимая все возможное из своей артиллерии и механизмов. На таких дистанциях отпадала надобность в корректировке и точном измерении расстояния до цели, даже прицелы были почти не нужны, поэтому на одном корабле можно было сосредоточить огонь сразу нескольких, не боясь сбить пристрелку, что приводило к ужасающе быстрому накоплению повреждений на кораблях, угодивших под такой обстрел.
Русский и японский флагманы как раз и были такими кораблями. Но русские сумели, воспользовавшись ошибкой противника, вырвать себе фору, использовав её на всю катушку. И хотя чисто внешне сейчас доставалось больше «Суворову», чей борт временами полностью скрывался за разрывами прямых попаданий и стеной поднятой близкими недолетами и попаданиями в ватерлинию воды, он переносил все это гораздо легче «Микасы», попадания в которого были не столь эффектны, но, тем не менее, заставили замолчать большую часть его артиллерии и наверняка повредили подводную часть, судя по возрастающему крену и осадке в носу.
Наконец, в 13:54 «Микаса» не выдержал и отвернул резко влево, покинув боевую линию своего флота, горя во многих местах. Под русскими снарядами всего за двенадцать минут огромный и могучий современный броненосец превратился в беспомощную дымящую развалину.
Одновременно с ним вынужден был выйти из строя для исправления повреждений броненосный крейсер «Асама». Еще даже не закончив разворота, он был накрыт залпом с «Николая I» и получил минимум одно попадание из его двенадцатидюймовой башни в корму, после чего так и не смог встать на боевой курс, продолжая катиться влево. Видимо, бронебойный снаряд повредил ему рулевое управление. Практически одновременный выход из боя этих двух кораблей противника был встречен громогласным «ура-а-а!!» на русских кораблях. Но бой продолжался.
В этот момент русская эскадра, разделившаяся на три отряда, ломаной дугой охватывала голову японской колонны, постепенно её обгоняя. Дистанция боя сократилась уже до 12–13 кабельтовых и продолжала уменьшаться. Густые клубы дыма от тоннами сгоравшего в орудийных стволах пороха, перемешанные с клочьями тумана и угольной копоти, застилали поле боя. Юго-западный ветер сносил это все в промежуток между сражающимися колоннами кораблей, от чего они временами совсем теряли из вида друг друга. Как сказал потом один из офицеров «Сикисимы»: «Лишь мачты да верхушки труб русских броненосцев торчали над дымной пеленой». Но из этой серой клубящейся массы все время летели снаряды, впивавшиеся в борта японских кораблей, проламывавшие броню, сносившие за борт орудия, мачты, протыкавшие насквозь небронированные борта, трубы, надстройки.
Оказавшийся теперь головным «Сикисима», едва выйдя из дыма от пожаров «Микасы», сразу угодил под продольный обстрел в упор с русских крейсеров. К тому же японцы увидели в клубах дыма всего в 13 кабельтовых перед собой выходящие на них в атаку эсминцы, прорезающие строй русских крейсеров в хвосте их колонны.
Уклоняясь от торпедной атаки, головной японский броненосец круто повернул на север, перенеся огонь средней и мелкой артиллерии на миноносцы, а носовой башней начав обстреливать «Россию». За ним, так же последовательно, как и раньше, начали поворачивать следующие корабли, немедленно включаясь в отражение атаки.
Резкий маневр вывел японцев из-под дыма, но перенос огня на новые цели существенно ослабил давление на «Суворова». Теперь он был лишь под огнем кормовых башен японских броненосцев. Зато наш первый отряд бил теперь всем бортом в корму японским броненосцам. Противник снова оказался под продольно-перекрестным обстрелом и никак не мог из-под него выскочить.
В 13:56, начав поворачивать на север, японцы стреляли уже по всем броненосцам первого отряда. К этому времени, в отличие от «Суворова», шедший вторым в строю «Александр III» наоборот оказался под очень плотным обстрелом с «Ниссин» и «Касуги», передавших «Ослябю» 2-му отряду, а «Бородино» и «Орел» начали получать попадания с кораблей Камимуры, перенацелившего два головных своих крейсера на них с горящего и избитого «Осляби». На прочие русские корабли приходились лишь незначительные, чаще всего случайные, остатки.
Вскоре противнику пришлось полностью перенести огонь своих броненосцев на продолжавшие сокращать дистанцию наши крейсера, что избавило от обстрела флагман эскадры. На нем немедленно занялись исправлением двух заклиненных шестидюймовых башен, выбивая ломами и кувалдами застрявшие в мамеринцах осколки. Вскоре вся артиллерия снова могла действовать. За время вынужденного простоя в башнях успели пополнить кранцы первых выстрелов и били сейчас с частотой палубных установок, так, что огонь первого отряда броненосцев, несмотря на интенсивный обстрел, даже несколько усилился.
К двум часам дня «Ослябя» все еще находился под мощным огнем, правда, уже начавшим ослабевать из-за перемены целей двумя головными японскими крейсерами и из-за выхода из строя японских орудий от русских снарядов. Сам он продолжал бить по «Асахи» из кормовой башни и двух шестидюймовок кормового каземата – всего, что уцелело. Но положение корабля было очень тяжелым.
За неполных двадцать минут он получил больше 60 попаданий 76-миллиметровых, средних и тяжелых снарядов. Множество рваных пробоин покрывало левый борт броненосца, из некоторых вырывались языки пламени от пожаров. Носовая башня, успев дать лишь три залпа, получила три прямых попадания и полностью вышла из строя. Если два первых снаряда почти без ущерба разорвались на её броне, лишь расшатав лобовую плиту, то третий, большого калибра, угодил прямо в амбразуру левого орудия. При чем само орудие, уже заряженное, оказалось сбито со станка и загнано в башню до задней стенки, расплющив зарядное устройство и смяв снарядный элеватор. После чего просто скатилось влево. Теперь его ствол торчал неестественным образом задранный вверх и повернутый вправо. Сама башня оказалась намертво заклиненной. К счастью, обошлось без пожара.
Крупный снаряд взорвался у первой переборки жилой палубы, при этом пробоина оказалась в опасной близости от ватерлинии, и если бы корабль не разгрузили на Мадагаскаре и дополнительно перед боем, то через нее наверняка бы затопило первое и второе отделения жилой палубы, а возможно, даже и левый носовой 152-миллиметровый погреб, так как к этому времени уже оказались перебитыми близким разрывом тяжелого снаряда его вентиляционные трубы у самой бронепалубы.
Носовой верхний каземат был разрушен несколькими попаданиями. Силой взрыва японских фугасов просто снесло все конструкции, к которым крепилась его броня, после чего плиты завалились внутрь. Замолчала большая часть казематной артиллерии левого борта, выбитой частично осколками, частично прямыми попаданиями. Все 75-миллиметровые орудия, не прикрытые броней, на верхней и батарейной палубе стреляющего борта вышли из строя. Тяжелых потерь в их расчетах удалось избежать, приказав прислуге с началом обстрела укрыться под бронепалубой и заниматься тушением пожаров и заделкой пробоин. А пробоин этих, особенно осколочных, было великое множество. Не прикрытые броней оконечности сильно страдали от близких недолетов, буквально обдававших корабль тоннами воды и тучами осколков, часть из которых даже пробивали обшивку ниже ватерлинии.
Задымление внутренних помещений от разрывов японских фугасов было таким, что невозможно было разглядеть горящие электрические лампочки освещения под подволоком жилой и батарейной палуб. Помещения удалось провентилировать, временно отдраив иллюминаторы правого борта в корме.
Как и в случае с «Суворовым», значительная часть японских снарядов падала позади броненосца. Всего в 10–20 метрах за кормой, но, тем не менее, они наносили лишь осколочные повреждения, не способные лишить его возможности продолжать бой.
Трубы были многократно пробиты снарядами и осколками, отчего казались черными, а не серыми. Защитные брустверы вокруг них либо сбило, либо вдавило внутрь. Разбиты оба мостика и все надстройки, рухнула за борт грот-мачта, однако получившая два прямых попадания, неестественно толстенная фок-мачта устояла. Более того, сохранилась связь по одной из двух бронированных линий с рубкой артиллерийских наблюдателей, из которой все время передавали данные для стрельбы из уцелевших орудий.
В кают-компании и на шканцах бушевали пожары, с которыми было очень трудно бороться из-за повреждения пожарных магистралей, но их удавалось держать под контролем, не дав слиться в сплошной костер благодаря грамотным действиям аварийных партий под руководством лейтенанта Саблина и мичмана Бачманова. Горели и разбитые носовые казематы, но самым страшным было не это.
В 13:58 сразу два японских тяжелых снаряда ударили одновременно в 178-миллиметровую броневую плиту главного пояса в районе носовой башни. От этого удара броненосец даже рыскнул на курсе, качнувшись вправо всем корпусом. После этого сдвоенного попадания быстро затопило угольную яму № 10, а через деформированную переборку начало затапливать запасную крюйт-камеру левого борта носовой башни. Все сильнее броненосец начинал валиться на левый борт и садиться носом. В качестве контрмер затопили три коридора правого борта и две угольные ямы, уже освободившиеся и значившиеся в списках отсеков спрямления корабля в случае подводных повреждений. После этого крен почти выровнялся, но нос корабля продолжал погружаться.
Позже выяснилось, что силой взрыва японских фугасов срезало болты крепления брони к борту и вдавило плиту внутрь. Через несколько секунд она сорвалась с обшивки и ухнулась в море. Подбашенное отделение начало быстро затапливать через разошедшиеся швы и разрывы обшивки за броней. Водоотливные средства не справлялись с потоком воды, а о том, чтобы завести аварийный пластырь под таким обстрелом и на полном ходу, нечего было и думать.
Из-за увеличившейся осадки в воду ушел и нижний край пробоины в жилой палубе выше ватерлинии, уже частично заделанной. Но эта наспех вставленная заделка сильно текла под напором волн, бивших в поврежденный борт, и не могла сдерживать воду долго, что грозило новыми обширными и уже практически неконтролируемыми затоплениями. Поэтому в 14:01 старший офицер капитан второго ранга Похвистнев, вступивший в командование кораблем вместо убитого осколком командира, приказал выйти из строя вправо и застопорить ход, развернувшись целым бортом к волне.
К этому моменту в боевой рубке броненосца не было ни одного человека, не получившего осколочных ранений. Старший офицер был ранен в голову и спину, старший артиллерист капитан второго ранга Генке – в грудь и шею, но после перевязки прямо в рубке продолжал руководить огнем. Рулевой матрос Осип Макаров получил по осколку в плечо и грудь, однако не отпускал штурвал, пока его не сменил старшина сигнальщиков Тищенко, также раненный в обе ноги, но успевший самостоятельно перевязать раны.
В 13:58 наши крейсера уже сблизились с японской колонной на 7–10 кабельтовых, но их безнаказанности пришел конец. Один за другим разворачивавшиеся на норд японские броненосцы открывали огонь из носовых башен по «России» и «Громобою». Вскоре они совсем оставили в покое «Суворова», переключившись на обнаглевшие крейсера всем главным калибром. А после того, как в 14:00 отвернули, так и не выйдя на дистанцию торпедного залпа, миноносцы и остатки шести-дюймовок. Кроме того, в 13:59 4-й японский боевой отряд наконец смог занять позицию в голове своих главных сил, начав обстрел кораблей Добротворского, которому пришлось перенести огонь носовых плутонгов крейсеров первого ранга, а также всех орудий «Жемчуга» и «Изумруда» на крейсера Уриу.
Но за те шесть минут, в течение которых все возрастающая японская огневая мощь наваливалась на Иессена, в огромном корпусе «Сикисимы» осело уже несколько тонн русской стали и взрывчатки. С такой короткой дистанции промазать по громадине броненосца было очень не просто, и промахов было немного. Бившие с максимальной частотой наши скорострелки всаживали в свою цель в среднем один-два снаряда в секунду, с лихвой перекрывая по весу сравнительно редкие рявканья японских башен, начинавших замирать и замолкать одна за другой. Казематные и палубные орудия японцев, занятые нашими эсминцами, также убывали с каждой минутой.
Расчеты трехдюймовок, не обращая внимания на обстрел, в бешеном азарте засыпали японца своими пятикилограммовыми снарядиками, истыкав его борт, особенно в носу, как из швейной машинки. Со всех крейсеров каждую минуту набиралось почти четыре сотни таких выстрелов, почти половина из которых достигала цели. Хотя они и не могли пробить даже самой тонкой брони, но, влетая в амбразуры казематов, мелкие, но все же бронебойные снаряды или их осколки выбивали расчеты, клинили орудия, поджигали и взрывали боеприпасы. Кроме того, этот град снарядов не давал высунуться из-за брони ни одной живой душе, парализуя все передвижения по небронированным палубам и мостикам.
К этому добавлялись еще и 330-килограммовые туши снарядов главного калибра броненосцев, прилетавшие с кормы и крушившие все внутренности, почти независимо от толщины брони, их прикрывающей. Не малый урон наносили и более чем 400-килограммовые бронебойные снаряды башенных шестидюймовок, проходившие вдоль корпусов и палуб, довершая картину внутренних разрушений, не заметных снаружи, но губительных внутри.
К началу третьего «Сикисима» лишился задней трубы, грот-мачты и всех надстроек в корме. Командирский мостик был разбит, весь рангоут оборван. Обе оставшиеся трубы едва держались, пробитые больше десятка раз во всех направлениях каждая. Кормовая башня была разбита, взорвана и горела, носовая, видимо, была заклинена и не могла вращаться, а ствол правого орудия в ней был оборван. Один или два каземата в корме также были выведены из строя, и сейчас на их месте полыхал огромный пожар. Из всей артиллерии левого борта могло действовать лишь два орудия. Корабль начал оседать кормой и крениться на правый борт, сбавив скорость и тяжело отвернув сначала на два румба влево, а потом и вовсе покинув строй. При этом он не мог идти прямо, все время рыская на курсе. Следом за ним вся японская колонна довернула влево, желая, видимо, увеличить дистанцию.
С самого начала боя русские действовали очень агрессивно и стремительно, заставив противника загнуть дугой свою боевую линию и не давая ему опомниться, одним рывком заняв и прочно удерживая выгодную для себя дистанцию, позволявшую компенсировать недостаточную выучку комендоров и превосходство японцев в системах управления огнем. Кроме того, теперь русские бронебойные снаряды гарантированно пробивали почти любую броню японских броненосцев. К сражению в таком сумасшедшем темпе японцы никак не были готовы и не могли ничего противопоставить натиску нашей эскадры. Они просто пятились (пока пятились), сохраняя строй (пока сохраняя), но теряя один корабль за другим. Ошеломляющей неожиданностью для Того стало превосходство русских броненосцев в скорости над его флотом.
Но у японцев пока сохранялось преимущество в артиллерии, и нашим броненосцам и броненосным крейсерам под сосредоточенным огнем доставалось очень крепко. Наиболее интенсивно японцы били по новейшим броненосцам. Казалось совершенно невероятным, как под таким обстрелом может что-то уцелеть, но они упрямо шли вперед, отвечая из своих башен, почти не пропускавших залпы, даже после прямых попаданий.
К двум часам дистанция до броненосцев противника увеличилась почти до 20 кабельтовых, и они продолжали удаляться. Чтобы не снижать эффективность огня, Рожественский приказал лечь на вест-норд-вест «всем вдруг».
Снова белая и красная ракеты взвились в небо, и русские броненосцы пошли в атаку, выжимая все из своих машин.
Несмотря на отвратительную видимость, японцы сразу заметили этот маневр, и их четыре замыкающих крейсера, еще не дойдя до точки поворота, развернулись «все вдруг» влево, ложась на основной курс своего головного броненосца. Одновременно дав самый полный ход, они начали удаляться от бивших им в корму наших второго и третьего отрядов.
Теперь японский строй напоминал изогнутую кочергу, причем «Токива», «Якумо» и «Ивате» не могли стрелять по «Суворовым», так как их закрывал поотставший «Адзума». Поэтому сразу после поворота они перенесли огонь на «антикваров» и «адмиралов», стреляя кормовыми залпами без четкого распределения целей, но стараясь держать под огнем все корабли второго и третьего отрядов. Им отвечали редкими, но точными носовыми залпами, при этом «Николай I» и «Наварин» стреляли по створившимся для них «Идзумо» и «Ниссин».
Все корабли японской линии уже имели серьезные повреждения, хорошо заметные с такого расстояния. Шедший сейчас головным «Фудзи» имел пожар на рострах и недействующую кормовую башню. «Асахи» мог стрелять только из трех двенадцатидюймовок, потому что ствол левого орудия в кормовой башне лежал неподвижно на максимальном угле склонения, а казематные орудия на нем были основательно прорежены нашим огнем. «Касуга» здорово горел в середине корпуса. После того, как тяжелый снаряд с кого-то из наших «стариков», придя с кормы, рванул у него в батарее правого борта. С него могли действовать лишь башенные орудия, причем кормовая башня периодически замолкала, теряя цель из-за дыма. Кроме того, наметился дифферент на нос.
«Ниссин» получил попадание 305-миллиметровым снарядом с «Сисоя» под кормовую башню еще в самом начале боя, после чего она просела вниз, а стволы орудий упали на палубу. Имелся также небольшой крен вправо. «Идзумо», еще даже не открыв огня, только подходя к точке разворота, лишился носовой башни, полностью выгоревшей от попадания тяжелого снаряда с «Наварина». «Адзума» имел развороченную, стараниями «Ушакова», третью дымовую трубу, от чего жирный черный дым заволакивал корму крейсера, мешая стрелять кормовым казематам и башне. Кормовой каземат на верхней палубе молчал, получив 305-миллиметровый снаряд. Лишь «Токива» не имел видимых повреждений, несмотря на то, что все время был под огнем. Шедший за ним «Якумо» сильно горел в корме, после того как там взорвался каземат. Горел и «Ивате», между первой и второй трубами которого вставал столб дыма и там что-то взрывалось. Все это, в сочетании с последним японским маневром, дало передышку поредевшему первому отряду, оставшемуся под огнем четырех броненосных крейсеров японцев с уже изрядно облегченным бортовым залпом.
В отличие от японской колонны, у русских серьезно пострадали только корабли первого броненосного отряда и владивостокские крейсера. На «Суворовых», особенно на двух головных, были заметны сильные разрушения в небронированных частях и пожары, но их артиллерия, размещенная в башнях, большей частью уцелела. Была разбита кормовая башня главного калибра на «Суворове» и средняя шестидюймовая на «Александре III», обе – прямыми попаданиями двенадцатидюймовых снарядов. Кроме того, на «Александре III» у носовой левой башни 152-миллиметровых орудий практически сорвало лобовую броневую плиту, которая теперь держалась всего на трех болтах, однако орудия не пострадали и после замены контуженого расчета она снова стреляла. В носовой башне главного калибра «Александра III» взрывом японского 203-миллиметрового снаряда на её крыше вдавило вниз верхний край амбразуры левого орудия, ограничив угол подъема пятью градусами. Этим же взрывом срезало броневой грибок башенного наводчика. Однако никто в башне серьезно не пострадал, и она не снижала темп стрельбы, не пропустив ни одного залпа. Периодические заклинивания мамеринцев удавалось исправлять достаточно быстро, даже под ослабшим обстрелом.
Гораздо хуже переносили огонь главного калибра японских броненосцев наши броненосные крейсера. Не имея столь обширного бронирования и башенной артиллерии, они за шесть минут такого обстрела получили по нескольку попаданий 305-миллиметровых снарядов и сильно горели.