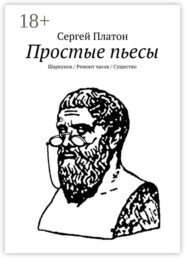По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инглубагла
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На финальный Парамошин крик резко среагировала Нинкина дверь. Чуть не слетев с петель, она распахнулась и с грохотом ударилась ручкой о стену, вызвав небольшой обвал всякой ерунды с коридорных полок. По полу покатилась совершенно парчовая от ржавчины рыжая кружка с обломанной ручкой. Жестяная в девичестве, бархатная в старости, кружечка рассыпалась на глазах. Из нее вывалились заспанные тараканы. Юные рыжие прусаки тут же затырились по паркетным щелям, задержался один, явно пожилой тараканище. Этот не спешил. Укоризненно покачав головой, он спокойно уполз, запинаясь, куда-то к часам. На пороге стояла разгневанная хозяйка двери.
– Можно потише? – прошипела Нина.
– Можно, – испуганно проблеял съежившийся Парамошка.
Неприятная, даже противная, то есть – абсолютно противоположная предыдущей симфонии смеха, пауза продолжалась недолго. С тем же резким грохотом, Нинкина дверь захлопнулась.
– И тебя люблю! – зачем-то прошептал Парамошка ей вслед.
9
Тем временем Александр бежал по Арбату мимо театра из института домой.
Фалды фрака за ним развевались от встречного ветра и пружинисто хлопали друг о дружку, как флажки на корабельной мачте. Не было времени снять театральный костюм, не было времени слушать рассказы седой костюмерши про то, что манишка и фрачные брюки хранятся в костюмерке со времен Вахтангова, а в этом истинно щегольском галстуке «пластрон» с настоящей булавкой, возможно, сам Михаил Чехов играл.
Сорвался в чем был. Надо было срочно набить морду подлецу!
Фалды развевались флагами, да. Но только он относился к своему облику настолько возвышенно и поэтично. Не выглядел парень романтическим флагштоком на башне средневекового замка или на рее пиратского парусника, а смотрелся заурядным опереточным артистом в историческом костюме, бегущим по Арбату – только то.
Вокруг, как обычно, пестрил ярмарочный карнавал сотен других костюмов, не менее необычных. Косматые музыканты и торговцы советской атрибутикой стояли практически на всех углах. Проклепанные байкеры, вертлявые брейкеры, нахальные анекдотчики кучковались у Калошина переулка, унылые хипари, заплатанные бродяги, разудалые матрешечники – рядом с Николопесковским, а сосредоточенные нумизматы, назойливые фотографы и вялые клоуны – в районе Малого Староконюшенного. Арбатский балаган шумел на всю округу. Ближе к Серебряному переулку, прямо под окнами дома, тасовались хмельные художники, сопливые рокеры, закоченевшие акробаты. А рядышком со всеми ними – сидящие на корточках бритоголовые группы подозрительных личностей в спортивных костюмах и кожаных куртках. Их всех колоритно разбавляла нарядная толпа зарубежных туристов и наших приезжих. Их всех оглушала плотная какофония сотен популярных песен.
День двигался к обеду, и на знаменитой улице опять бурлил безостановочно крутящийся калейдоскоп красок и звуков. Да хоть ты намотай на голову дамские панталоны в кружевах или водрузи корону Российской Империи, здесь этому никто не удивлялся. Есть в Москве такие специальные места, где можно многое, чего в других местах нельзя.
Мгновенно проскочив несколько лестничных клеток, импозантный артист остановился у двери, уперся в нее лбом, прислушался. Там хохотали, и этот гад тоже смеялся!
Сбитое дыхание не восстанавливалось, сердце тикало глухим секундомером, пылали подмороженные уши, оттаивающие пальцы ног в летних штиблетах больно ломило. Элементарные болезненные ощущения отвлекали от высокого гнева, совсем еще недавно сильного, ясного, и в чем-то даже приятного. Драться расхотелось. Теперь надо было придумать, как бы сказать что-то обидное, хлесткое, уничтожительное.
– Пошел вон! – вполголоса репетировал запыхавшийся Александр, – Ступай вон! Убирайся вон! Иди ты к черту! Убирайся! Пошел вон!
Последний вариант показался самым приемлемым и по интонации, и по силе голоса.
«Пусть убирается. Так и скажу ему с порога сразу, – решительно настраивался Александр, вслушиваясь в паузы и новые всплески смеха за дверью». При этом неосознанно отколупывал пальцами слоистую краску со стены.
– Чо, плохо тебе слышно, да? – заставил вздрогнуть сиплый баритон, многократно отраженный подъездным эхом. – А стенку тебе ковырять не надо нам тут. Стенка, может быть, до ремонта не дожить может.
Рядом вдруг материализовался вездесущий Саша Гаврилыч. Он всегда появлялся внезапно – во дворе, в магазине, на улице, у мусорки, на участке. И всегда так же неожиданно исчезал. И всегда то ли посмеивался, то ли морщился, мелко дергая клочковатыми усиками. Плешивый, приземистый, постоянно причесывающийся, пегий лицом и одеждой, очень подвижный «мужичок с ноготок» с важным видом и крупным портфелем постоянно кружил по району в рабочие дни, раздавая задания дворникам, поучая их или оценивая работу. День-то был рабочим.
– Добрый день, – смущенно откашлялся Александр.
– Добрый, – равнодушно согласился Гаврилыч.
– Мы убирали сегодня.
– Видел. Мне не гони. Шурка же за вас убирает. Хорошо поубиралась, молодец. Но мы по договоренности показываем о том, что будто бы это вы работаете. Хочу у тебя срочно одну проблему узнать. На той неделе уже надо было за квартиру оплачиваться. Проживание на коммунальной площади имеют право только рассчитавшиеся. Понял?
– Простите. Просто Саня поехал домой за деньгами, на той неделе должен был вернуться. Скоро приедет, наверное. Завтра уже отдадим, – спокойно соврал Александр.
– Не рассчитаетесь когда, тогда вас выселю послезавтра, будете знать, – рассеянно ответил Гаврилыч, вынимая из кармашка портфеля массажную щетку. – Согласные с таким моим решением судом? А?
Было абсолютно непонятно, шутил он так или серьезно угрожал выселением. Руководитель дворников был увлечен не разговором, а совсем другим процессом.
Продолжая что-то говорить, он не глядел на собеседника, выискивая на стене свою тень. Чтобы попасть затылком в солнечный луч пришлось ему спуститься на две ступени ниже и уже там привстать на цыпочки. Тень его теперь была обрамлена косой проекцией оконных рам на стенке – лучше всякого зеркала. Гаврилыч тщательно причесывал круглую тень – идеальный силуэт своей широколобой головы. Прямо по-кошачьи он прилизывался, почти в прямом смысле этого слова: сочно слюнявил запястье, несколько раз плотно приглаживал непослушные клочья тщедушных волос, торчащие из висков, и методично зачесывал за уши влажные пряди. Вылитый дворовый кот! Его привычку причесываться всегда, везде и при любых обстоятельствах коммуналы знали, и не особенно ей удивлялись.
– Согласны. Мы вам обязательно заплатим, – серьезно пообещал Александр, отвлекшись на секунду на новый взрыв дружного хохота.
– Заплотите, заплотите. В обязательном порядке! – уже откуда-то снизу ответил Гаврилыч, и пропал, словно бы и не было его.
10
Пора было достать ключи и заходить, но драться и ругаться совсем не хотелось: в Саше безнадежно скис отчаянный дуэлянт и саркастичный скандалист, остался просто оскорбленный человек. Открыв входную дверь, он застопорился на пороге, мельком осмотрев соседей, а потом в упор, долго и спокойно разглядывал вскочившего и замершего Саню.
– Чо это? – нарушила затянутую паузу Тетьшура.
Словно очнувшись, Александр сделал несколько резких шагов в сторону стола, потом развернулся, пошел назад, встряхнулся, будто пес после купания, и с грохотом выволок из шкафа скребок, метлу, лопату.
– Да убирала я сегодня, Саша. Ты чо? – тараторила Шура, глядя, как тот собирает дворницкий инвентарь, закрывает шкаф, и почти бегом скрывается за дверью. – Вот же дурак. Чо это он?
– Так. Понятно всё с вами, – угрюмо усмехнулся Парамошка. – Разосрались, значит, однокашники? Сань, чо случилось-то?
Но Саня плюхнулся на стул, как тряпичная кукла. Смотрел перед собой остекленевшим взглядом и беззвучно рыдал, время от времени стирая ладонью крупные капельки слез с кончика острого носа.
– Так-так, – протянул Парамошка. – Шура, давай-ка догоним этого дурака. С метлой, да во фраке, он далеко не уйдет. А с Санькой Евгения Петровна побудет. Ладно?
– Конечно-конечно, – глухо ответила бабушка.
– Во дураки. Чего творим? Зачем творим? Эх, парни, парни, – причитала Шура, обуваясь, – мирно-то нам не живется? Все воевать хочется?
– Пойдем, – торопил Парамошка, укладывая бутылку в карман.
В продолжительной тишине поначалу были слышны только их громкие голоса с лестничной площадки, потом с улицы, после – лишь плаксивое хлюпанье санькиного носа.
11
Бабушка и мальчик крайне редко находят поводы к непринужденной беседе о самом важном – разве что в исключительных случаях.
Старый да малый практически никогда не откровенничают без серьезного предлога. Хотя, кому-кому, а им-то сам бог велел поговорить хоть иногда, у них же больше общих тем, чем у большинства ровесников: у мужчин и женщин, у богатых и бедных, у мерзавцев и идеалистов, у рабочих и воров, у мыслителей и дурней. Но нет, этим полагается по жизни скрытничать. Обитателям разных миров остро противопоказано элементарное взаимопонимание.
Это в реальности, а в коммунально-пасторальных грезах они встречаются, и даже слушают, и слышат.
Нескладное безмолвие, зависшее в квартире, не нравилось обоим, но никто из них пока не выдумал, о чем же следует сейчас общаться. Евгения Петровна понимающе ждала, решив, что тема разговора отыщется, как водится, сама собой. Мол, пусть сперва подсохнут слезы у ребенка. Иногда она взглядывала на успокаивающегося мальчишку, но заговаривать не решалась.
Тишину нарушил Саня:
– Действительно, дурак. Только не он, а я.
– Случилось что-то плохое?
– Да, наверное, – шепотом буркнул Саня, и уже громче добавил: – И да, и нет, наверное. Просто я опять ночевал в общаге, а он этого не любит. Да и я тоже не люблю. Но только потом, утром. А вечером вру ему чего-нибудь и бреду туда, как дурак. Тянет меня туда как-то. Там весело, шумно. А утром противно. Особенно стыдно перед ним. Он же брат мне. Как бы сводный, но брат же. Ведь это он меня «поступил», комнату эту нашел, придумал, как платить, ко всем экзаменам готовит. А у меня самого ничего нормально не получается. И никогда в жизни ничего не получалось. Мне страшно жить, потому что я всех боюсь. Я и себя боюсь! Евгения Петровна, я – инфантильный идиот.