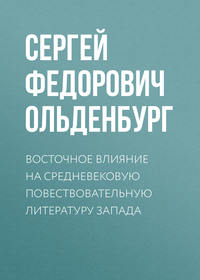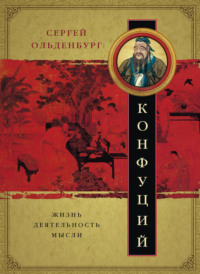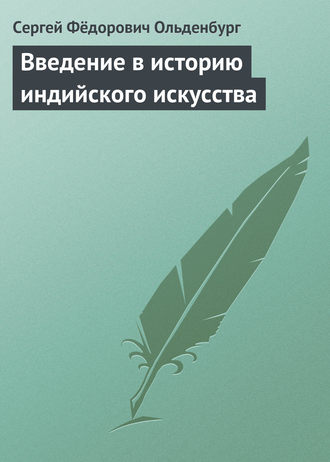
Введение в историю индийского искусства
На прошение последовал отказ. Другие монахи успокоились на этом отказе, но Сюан-Цзан дал себе клятву не отступать. И вот он увидел знаменательный сон, который ободрил его: «Во сне он увидел волшебную гору Сумеру, состоит она из четырех драгоценностей и вздымается среди великого моря, величественная и блестящая. Хотел он взойти на ее вершину и не мог, потому что вокруг подножия горы ярились волны. Нигде не было ни лодки, ни плота, но Сюан-Цзан мужественно бросился в пенящиеся волны. Внезапно под ногами его из волн вырос каменный лотос, и Сюан-Цзан почувствовал, что двигается вместе с лотосом; внезапно лотос исчез – тут Сюан-Цзан очутился у подножия горы, такой высокой и крутой, что никак нельзя было взобраться на нее. И все-таки он напряг все свои силы, и в то же мгновение поднялся вихрь и вознес его на гору. И стал он тогда на вершине горы, и бросил взгляд во все стороны – вокруг него расстилалась всюду необозримая даль; как далеко хватал глаз, нигде не было препятствий его взорам. Радость неизъяснимая наполнила сердце Сюан-Цзана, и он проснулся».
В 629 г. двадцати шести лет от роду он пустился в дорогу. На каждом шагу являлись препятствия; за ним вдогонку послали людей, чтобы вернуть его. Пограничной страже был отдан приказ задержать его; проводник покинул его, на границе в него стреляли. Но ни на одну минуту решимость его не поколебалась: он шел за светом несравненного закона, которым хотел осветить свою родину на благо людей, и готов был скорее умереть в пути, чем вернуться. Страже, которая хотела задержать его, он ответил:
– Вы хотите задержать меня? Тогда лучше убейте, позволяю вам это, но знайте, Сюан-Цзан поклялся, что не сделает ни одного шага назад.
Теперь он вступил в безводную, песчаную Гоби, которую другой старинный паломник описал в немногих ярких словах: «Ни птицы не видно в воздухе, ни зверя на земле. Сколько ни вглядывайся в пустыню – не узнаешь, как перейти через нее, и единственный указатель пути по ней – то кости погибших здесь путников».
Страшные миражи – полчища демонов окружали его, но он все подвигался вперед, подкрепляя себя чтением священных книг о милосердном бодхисаттве Авалокитешваре, прибежище страждущих. Книгу эту он несколько лет перед тем получил в дар от нищего, покрытого отвратительными ранами, которого он приютил у себя в монастыре и обласкал. Вскоре положение его стало еще более трудным: мех с водою выпал из его утомленных рук, и вся вода вылилась; тут на короткое время не устояла его решимость, и он повернул лошадь назад к последней сторожевой башне; но отъехал он недалеко: громко заговорила совесть, и он опять поехал вперед, говоря себе:
– Лучше умереть, идя на запад, чем жить, вернувшись на восток.
А смерть действительно была близка: он ехал по совершенно безводной, песчаной пустыне – ночью ему казалось, будто злые Духи зажигают вокруг него бесчисленные факелы, днем ветер подымал песок, который падал с неба, точно потоки дождя. Но крепкое верою сердце Сюан-Цзана не знало страха; жажда мучила жестоко, он все двигался вперед – четыре ночи и пять дней ни одна капля воды не коснулась его иссохших уст, огонь жег его внутренности; обессиленный, он упал на песок и вознес тогда пламенную молитву милосердному Авалокитешваре:
«В путь отправляясь, Сюан-Цзан не ищет ни богатства, ни выгоды, не нужны ему хвала и слава. Единая цель его – найти высшее разумение и истинный закон, дабы распространить его среди людей. О бодхисаттва, тебе молюсь я, ибо ведаю, что милосердное сердце твое непрестанно тщится освободить все существа от горькой жизни. Внемли мне, не было страданий сильнее моих; неужели ты от них отвратишь лик свой?»
Так молился он полночи, и вдруг повеял живительный ветерок и освежил тело его, я все члены его стали мягкими и гибкими, точно их коснулась свежая вода, потухшие глаза его снова узрели, и даже немощный конь его поднялся на ноги. Сон закрыл усталые глаза, и Сюан-Цзан заснул, но во сне он увидел духа, который говорил ему:
– Зачем спать, когда надо идти вперед?
Сюан-Цзан тотчас вскочил на ноги, двинулся в путь и вскоре увидел зеленую траву и озеро чистой прозрачной воды; всадник и конь напились и легли отдыхать. Много трудностей пришлось ему еще испытать на пути, много разных стран и государств прошел он, почти всюду встречали его как желанного гостя и пробовали удерживать, но Сюан-Цзан стремился все вперед, к заветной цели своих желаний – Индии.
Наконец, он вступает в священную для него землю. Здесь все на каждом шагу напоминает ему о жизни и подвигах великого учителя, который уже более чем за тысячелетие вошел в нирвану. И мы видим, что он, вдумчивый молодой ученый, критически проверявший слова своих наставников, вместе с тем и глубоко верующий буддист, умиляющийся каждому преданию о Будде, благоговейно посещающий все святыни, тщательно отмечающий в своих записках все рассказы о чудесах, какие ему приходится слышать во время паломничества, и те чудеса, которые он сам сподобился видеть. Одна из заметок особенно ярко передает нам то восторженно верующее настроение, которое испытывал Сюан-Цзан.
«В стране Нагарахары, на юго-запад от главного города, находится монастырь, близ него горный поток свергается водопадом с крутой горы. В отвесной скале у водопада пещера, к которой ведет узкая тропинка, скользкая от капающей со скалы воды; в пещере, по преданию, верующим являлась тень Будды. Сюан-Цзана отговаривали идти в пещеру, потому что и дорога была опасная, и в окрестностях поселились разбойники: за последние годы, говорили ему, многие из ходивших в пещеру не возвращались назад, и потому ее почти перестали посещать. Но Сюан-Цзан остался при своем решении, с трудом нашел себе проводника-старика и пошел к пещере. Когда они прошли уже часть дороги, навстречу им вышли пять разбойников с мечами. Сюан-Цзан указал на свое монашеское одеяние и сказал, что идет увидеть тень Будды.
– Учитель, – спросили разбойники, – разве вы не слыхали про разбойников этих мест?
– Разбойники – люди, – ответил Сюан-Цзан. – Я иду поклониться тени Будды и не убоюсь диких зверей на пути своем, а вас, конечно, и того менее – вы люди, и у вас есть сердце.
Тронутые его словами, разбойники пошли за ним, полные веры. Когда они все подошли к пещере, Сюан-Цзан заглянул в нее – там было темно и мрачно. Проводник сказал ему, что надобно войти в пещеру, дойти до восточной стены, потом отойти и смотреть на восток, так и явится тень. Сюан-Цзан поступил, как было указано, но ничего не увидел. С глубокою верою он положил тогда сто поклонов, но тени все не было видно. Горечь наполнила сердце его, и он зарыдал, упрекая себя в грехах. Затем начал читать молитвы и славословия, после каждого стиха кладя земные поклоны; он сделал их сто, когда увидел на стене небольшой свет величиною с чашу монаха, но свет скоро исчез. Полный радости и горя, Сюан-Цзан продолжал класть поклоны, и свет явился вновь, тогда восторг овладел им, и он поклялся, что не уйдет, пока не узрит тени Будды. Он положил уже двести поклонов, как вдруг вся пещера озарилась светом и на восточной стене появилась тень учителя, ослепительной белизны лик его сиял. Сюан-Цзан, восхищенный, взирал на несравненный образ. Тело Будды и платье его были желтовато-красные, и, начиная с колен, все тело ярко обозначалось на стене, низ же лотосного престола учителя был как бы в тумане. По бокам Будды и сзади стояли монахи и бодхисаттвы. Сюан-Цзан велел шести человекам, которые находились у входа в пещеру, принести огня, чтобы возжечь куренья. Когда принесли огонь, тень исчезла. Сюан-Цзан тотчас велел унести его, и тень вновь явилась. Из тех шести человек пятеро видели тень, а шестой ничего не увидел. Сюан-Цзан, прежде чем уйти, сделал приношение из цветов и курений и произнес славословие Будды. Тень исчезла, и Сюан-Цзан вышел из пещеры».
Перед нами рассказ о чуде верующего буддиста. Для того, кому пришлось посещать буддийские пещеры с их поразительно иногда реалистической скульптурой и росписью, этот рассказ чрезвычайно понятен – мне приходилось самому часто думать, что в пещере стоит буддийский монах, и, только вглядевшись, убеждаться, что передо мною статуя. При этих условиях так понятно впечатление о чуде, особенно у верующего.
Посещая святыни, Сюан-Цзан не забывал и главной своей цели – разрешить свои сомнения в вопросах веры, слушая знаменитых учителей-монахов Индии; он никогда не забывал, что там, на далекой родине, многие люди ждут его возвращения со светом закона. Он занимался у многих учителей, но больше и усерднее всего в знаменитом монастыре Наланда, средоточии тогдашней буддийской образованности. Наланда был не просто монастырь, а целый университет, где в дни Сюан-Цзана со ста кафедр десяти тысячам студентов читались лекции не только богословского, но и светского содержания: по литературе, грамматике, философии, логике, медицине и даже магии, вся эта многочисленная община сошлась сюда, в Индию, в этот монастырь со всех стран света и жила мирною, дружною семьею. Кельи, выходившие на громадные внутренние дворы, были устроены так, чтобы жизнь каждого из братии была всегда на глазах у других; вообще основою всего была открытая жизнь: исповедь в грехах, для которой монахи собирались каждый месяц, происходила в присутствии братии, а в определенные сроки монахи, опять перед всеми, сообщали друг другу свои замечания о том, что им казалось дурным в поведении того или другого монаха. Устав монастырский был строгий, но, несмотря на многочисленные обязанности, монахи уделяли немало времени на занятия, и выдающиеся учители всегда имели внимательных слушателей.
В Наланде Сюан-Цзан мог вполне удовлетворить своей жажде знания и занимался без устали. Его глубокие познания упрочили за ним в монастыре славу выдающегося ученого, и многие уговаривали его остаться в Индии и не возвращаться в Китай, который высокообразованным индийцам казался совершенно дикою страною. Но Сюан-Цзан твердо помнил, что не для себя предпринял он долгое и опасное путешествие, а ради распространения святого закона на родине, где народ погряз во тьме невежества. Собрав возможно большее число священных рукописей и предметов, Сюан-Цзан вернулся в Китай, где был восторженно встречен правительством и народом. Теперь, после посещения святых для него мест и приобретения глубокого знания священного закона, для Сюан-Цзана настало время приступить к исполнению заветной цели его жизни: распространению и утверждению учения Будды в Китае. И вот он стал учить и проповедовать, приобретая все новых и новых учеников, которые разносили проповедь великого индийского отшельника по градам и весям своего обширного отечества, но больше всего Сюан-Цзан обратил внимание на переводы священных книг – переводами он занимался до самой своей смерти, испытывая высокое наслаждение от этих занятий, сознавая, что после его смерти книги эти будут продолжать дело, которому он посвятил свою жизнь. Годы, однако, шли, и Сюан-Цзан почувствовал, что близка его кончина, а работа еще не завершена, тогда он еще усиленнее стал заниматься, постоянно ободряя своих сотрудников.
Перед самой смертью он сделал последние распоряжения: хоронить его надлежало просто, тело надо было завернуть в циновку и похоронить где-нибудь в тихой долине, вдали от людей, чтобы, сказал он, «нечистое тело его было от них по возможности удалено». Он высказал пожелание, чтобы все добро, какое он мог сделать в жизни, послужило на благо другим людям и чтобы в каждом следующем перерождении он был бы исполнен рвения к святому учению и мог бы, наконец, достигнуть высшего разумения. Попрощавшись с окружающими, он медленно угас, оплакиваемый всеми. (Так умирали буддийские монахи в дни Сюан-Цзана, и так, мы имеем тому много свидетельств, они умирают и теперь.) Великий индийский учитель учил своих учеников и жить, и умирать, и всюду, куда проникло его учение, ученики его выучивали этот труднейший для человека урок.
За Сюан-Цзаном утвердилось название «великого Танского учителя», и его замечательные труды по буддизму, основанные на прекрасном знании санскритских оригиналов, комментарии, составленные им и его школою, являются определенною эпохою в истории позднейшего буддизма и помогают нам теперь понять и буддизм вообще. Таких совершенно исключительных людей, как Сюан-Цзан, было, конечно, немного среди китайских монахов, но в той длинной веренице паломников, которые, как стая перелетных птиц летит в благодатные края, направлялись в Индию, было немало замечательных и редкостных людей, и то, что сохранили нам о них их собственные писания, и то, что писали о них другие, вызывает в нас глубокое уважение к ним и трогает нас бессознательно возвышенностью жертв, принесенных на алтарь веры, которая для них была всем.
В V в. мы видим Фа Сяня, который оставил нам первое более подробное описание пути из Китая в Индию, куда он проник в царствование Чандра Гупты II. Его рассказ останавливается главным образом на святынях и передает много трогательных местных и общераспространенных сказаний. Так, в царстве Пурушапура, современном Пешаваре, хранилась чаша Будды, и Фа Сянь описывает чудо с чашей: «Когда бедные сыплют в чашу цветы, то достаточно им бросить несколько цветков, чтобы чаша наполнилась, но когда ее хотят заполнить богатые, то они не могут этого сделать, даже бросая сотни, тысячи, десятки тысяч, море цветов».
В Санкашья, близ Каноджа, находится, по указанию Фа Сяня, сто маленьких ступ, которые можно пересчитывать целый день, и все-таки не узнаешь их точного числа. Если упорствовать в желании узнать точное число, можно приставить к каждой ступе по человеку и затем подсчитать […][5], будет ли их мало или много, не добьешься настоящего числа. [Я видел две такие группы по сто ступ каждая […] (с одною) посередине, обе группы находились в Турфане в Западном Китае и принадлежат глубокой старине, так как находившиеся в […] там с ними не произошло чуда, о котором говорит Фа Сянь, но что оно возможно, доказывать то, что […]ских путешественников, посетивших Пурушапур, нашли там 80 ступ вместо 100.
Особенно обильны легенды (о Будде и его деяниях) в Индии, и тут мы видим, до какой степени в уме и сердце верующего буддиста, даже ученого, – в Фа Сянь, несомненно, им был и искал священные книги, и учился санскриту для понимания подлинников – чисто религиозная сторона буддизма и образ Учителя тесно сплелись с философской стороной учения. Мы […] заметили эту черту […] (не только у него), есть она у его предшественника […] монахов действовала на окружающих не менее сильно, чем знания и проповедь, читая их жизни, […] понимаешь, чем и как буддизм настолько […] дел лучшими людьми гордого своим культурным превосходством над другими народами Китая.
В конце книги Фа Сяня есть послесловие неизвестного автора, говорящее: «Я потому попросил его сообщить подробности, и он отвечал охотно и правдиво. Я убедил его рассказать подробно то, чего он коснулся сперва вкратце, и он рассказал по порядку с начала и до конца; он сказал: „Когда я вглядываюсь теперь в то, что перетерпел, сердце мое невольно содрогается и я обливаюсь потом. Я поборол опасность и прошел через самые опасные места, не думая о себе и не жалея себя, потому что я имел определенную цель и думал прямо и простодушно только о том, чтобы как можно лучше выполнить свою задачу. Таким образом, я подвергал жизнь свою опасностям, где смерть казалась неизбежной, и то только лишь потому, что смог исполнить хотя бы десятитысячную часть того, на что я надеялся“. Слова эти взволновали меня, и я подумал: „Этот человек из тех, которых видели с древнейших времен и до наших дней. С тех пор как Великое Учение потекло на Восток, не было человека, который бы сравнялся с Фа Сянем в забвении себя […] Отныне я знаю, что чистосердечие преодолевает все препятствия, как бы велики они ни были, и что сила воли добивается того, к чему стремится. Не происходит ли это достижение от пренебрежения тем, что обычно считается важным, и от признания существенным того, о чем обыкновенно забывают“». В VII в. буддийский монах и путешественник И-цзин, написавший на основании личных наблюдений книгу о (странствиях в) Индии и в Индонезии в его время, написал и книгу, заключающую в себе заметки о 60 китайских паломниках в Индию, принадлежавших к его поколению; эта книга любопытна тем, что она поставила себе целью сохранить в памяти грядущих поколений скромные образы тех, кто, не жалея жизни, увлеченные пламенной верой, шли в Индию, чтобы духовно связать свою родину с работами великого учителя и проповеданного им учения […] Часть из них не вернулась […] (и пропала) на чужбине в безвестных могилах. От некоторых сохранились только приписки […] единственная память о их существовании […] И-цзин […] пишет свою книгу о паломниках, я читаю то же чувство, которое испытал и я, когда разбирал на стенах старинных пещер близ Дунхуана в далекой пустыне […] монаха старых времен: точно живого видишь перед собою этого человека, от которого […] Многие гибли от болезней, от трудностей […] пути, но другие умирали жертвами долга, поступая […] об одном из них рассказывается: он ехал по морю, когда налетела буря, и корабль стал тонуть, бросились в лодку, и все хотели в нее попасть, капитан, который был буддист, крикнул:
– Учитель, садитесь скорее.
Но монах сказал:
– Сажайте других, я остаюсь.
«Причиною […] говорит И-цзин, было, что, пренебрегая своей жизнью на благо другим, повинуешься велениям учения, забывая о себе для спасения людей, поступаешь, как Будда». Он сложил молитвенно руки и, обратив лицо на Запад, стал молиться Будде Амитабхе; пока он молился, корабль погрузился в воду, слова молитвы замолкли, и монах умер. Недаром учил Будда своих учеников никогда не бояться смерти.
Можно было бы еще много сказать о воздействии Индии на Китай именно в те столетия, которых мы касаемся, но это вывело бы нас далеко за пределы той скроило и задачи, которую я поставил себе сейчас, – указать на влияние Индии на Китай как на показатель значения индийской культуры. Те образы паломников-китайцев, которые я провел перед вами, говорят нам ясно, что люди эти были проникнуты индийскими, специально буддийскими идеями и что на них всецело отразилась индийская культура. Следующий раз я постараюсь показать влияние Индии на Запад и Север, т. е. на Персию и Среднюю Азию, все с той же целью выявить перед вами силу и значение индийской духовной культуры.
Лекция VI
Мы видели, как глубоко откликнулся Китай на проповедь буддизма, как он нашел в нем нечто вполне ему понятное и родственное. Лучшим доказательством этого духовного родства является существование целого ряда выдающихся буддийских учителей из китайцев и создание обширной самостоятельной литературы на китайском языке. То же явление произошло потом и в Японии, когда она приняла впоследствии буддизм, и в Корее, также и на Цейлоне, и в Индокитае, и Тибете, и Монголии, и отчасти и в Индонезии, которая, однако, почти не проявила самостоятельного религиозного творчества в области буддизма, всецело подчинившись индийскому влиянию. Средняя Азия тоже дала учителей буддизма и приняла его и многие элементы индийской культуры, которые жили здесь столетия, пока политические бури и особенно появление ислама не изгнали окончательно буддизм, а в Восточном Туркестане вместе с ним и культуру и цивилизацию, и повергли страну в то полудикое состояние, в котором она живет еще и теперь.
Таким образом, для нас постепенно очерчиваются границы громадного буддийского мира того времени, а значит, и сфера распространения индийской культуры. Но распространение это в известной мере было еще значительно больше, ибо оно простиралось и на Запад, только здесь это влияние носило другой характер, это не было взаимопроникновение культур, родственных по духу, – мы ведь видели, что Китай, воспринимая, перерабатывал восприятие и проникался им, связывая китайское с индийским. Иначе стояло дело на Западе. Здесь была своя, совершенно чуждая индийской культура – переднеазиатская, в широкой мере семитическая и иранская с зороастризмом, одной из самых, если так можно выразиться, трезвых земных религий, уступающей в этом отношении лишь одному исламу. Эта часть Востока была по духу ближе к Западу, чем к Индии и Китаю, она подверглась сильному влиянию Греции, самой яркой представительницы западной культуры. Здесь коренились и еврейство, и зороастризм, и христианство, и ислам, все четыре религии характерны своей исключительностью и в значительной мере нетерпимостью, ибо меч Востока сопровождал их распространение.
У нас, конечно, есть немало свидетельств тому, что буддизм проникал и в эту среду, но, естественно, что эти монотеистические религии, так как зороастризм, несмотря на свой своеобразный дуализм, по существу, тоже монотеистичен, не могли проникнуться буддийскими идеями, не отказавшись от самой своей сущности. Разница между общим мировоззрением Индии и Дальнего Востока, пронизанного индийскою культурою, с одной стороны, и Передним Востоком, получившим уже многое от Греции и ранее от Египта и вообще более связанным с средиземноморскою культурою, была настолько велика, что влияние Индии выразилось в совершенно иных формах и именно осталось только в пределах того, что мы ограничительно называем влиянием, а не проникновением. Чем сознательнее и углубленнее мы изучаем историю Востока, тем для нас все становится яснее, что старое упрощенное деление на Восток и Запад не может уже нас удовлетворять, что мы должны производить иные деления и что в самом Востоке это деление ясно намечается. С одной стороны, вся Передняя Азия и Египет, примыкающие к средиземноморской культуре, среди которых являются еврейство, зороастризм и христианство, с другой – индийский мир с Дальним Востоком. При этом переходным звеном является иранский мир, тесно примыкающий к переднеазиатскому миру, но и во многом связанный с Индией. Эту роль переходного звена, которую между двумя мирами Востока играет Иран, в Европе, по нашему мнению, играет Россия – переходное звено между Западом и Востоком, причем она все же более Запад, чем Восток, как и Иран ближе к Западу.
Повторяю, влияние Индии в рассматриваемый нами период расцвета ее культуры было велико и на Западе, специально в Персии, и я об этом скажу далее, но так велика была разница по существу между Индией и западной частью Азии, что то глубокое понимание, которое мы видели в Китае, было немыслимо здесь. Чтобы вам это стало вполне ясным, я остановлюсь подробно на одном крупном представителе переднеазиатского мира, который хотя и жил значительно позднее занимающего нас времени, но является настолько ярким и глубоким выразителем этого «западно-восточного» мира, что не могу лучше сделать, как говорить вам его словами. Я имею в виду арабского астронома иранского происхождения Аль-Бируни и его замечательное сочинение об Индии под заглавием «Точное изложение индийских представлений, как удобопринимаемых, так и отвергаемых разумом».
Аль-Бируни родился в Хорезме, современном Хивинском ханстве, в 972/3 г., жил долго в Газне, в современном Афганистане, кончил там свою книгу об Индии в 1030 г.; умер он около 1048 г. Он занимался с особенною любовью науками математическими, астрономией, хронологией, физической географией и притом вполне бескорыстно, отвергая царские подарки за посвящение своих сочинений. Для того чтобы вам было вполне понятно, почему я останавливаюсь именно на Бируни и придаю такое значение его словам о различии между индийским миром и миром ислама, я предпошлю словам Бируни его характеристику, сделанную одним из лучших знатоков ислама вообще и арабско-персидского мира в частности, моим незабвенным учителем бароном В. Р. Розеном.
«Своеобразная культура Индии, без сомнения, привлекала внимание нашего автора еще раньше его переселения в Газну, и он, во всяком случае, успел исследовать все, что только существовало тогда в арабской и персидской литературе по этой части. Но для его пытливого ума все это, конечно, должно было казаться совершенно ничтожным, и вот этот мусульманин начала XI в., этот уроженец хивинского ханства принимается на 45-м году жизни за изучение санскритского языка с целью составить себе действительно точное и верное представление об индийской цивилизации. Но и этого мало: изучив индийскую культуру, он, не довольствуясь достигнутой им возможностью просвещать мусульманский мир путем многочисленных переводов с санскритского языка на арабский, пожелал также содействовать распространению среди индийцев здравых научных понятий и с этой целью перевел санскритскими стихами „Элементы“ Эвклида, „Алмагест“ Птоломея и один свой трактат об астролябии».
Работа эта, замечает барон Розен, конечно, могла быть произведена лишь при помощи индийских ученых-пандитов, но и с, этою оговоркою «подвиг, совершенный Бируни, изумителен и требовал железной воли, страшной усидчивости и громадного такта. Не забудем, что Бируни приходилось преодолевать не только обыкновенное естественное нежелание индийцев посвящать нечистого варвара в тайны своей мудрости, но и усугубленное отвращение, которое они должны были питать к мусульманину, единоверцу, и вдобавок слуге того самого султана Махмуда, который разгромил всю Северную Индию неслыханным дотоле образом, так что несчастные ее обитатели стали, по выражению самого же Бируни, „притчей во языцех и пылинками, рассыпанными по воздуху“, который стер с лица земли их священнейших идолов и самые науки их в завоеванных областях уничтожил дотла, так что они должны были искать убежища в Бенаресе и Кашмире, недоступных свирепому завоевателю». Бируни преодолел все эти препятствия.