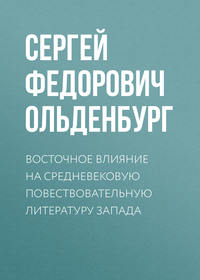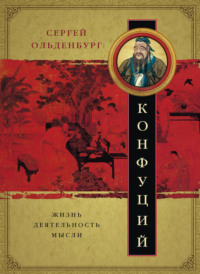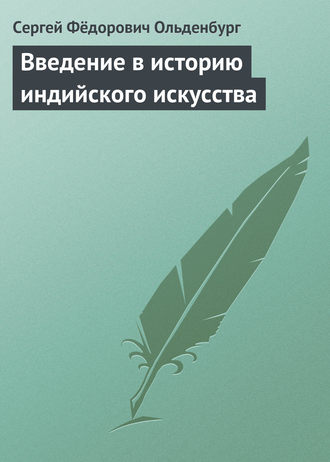
Введение в историю индийского искусства
Мы дошли до второй половины III в. до н. э., перед нами богатая, единая Индия, управляемая мудрейшим и благороднейшим государем, широко распространено просвещение, наука уже имеет немало достижений, искусство религиозное в расцвете. Все, кажется, обеспечивает стране благоденствие и процветание, но приходится убедиться, что эти обещания благополучия были обманчивы и что стране предстояли великие испытания и бедствия.
Лекция IV
Раньше чем перейти к изложению дальнейшего хода исторических событий, мне хотелось бы сказать несколько слов об Ашоке как строителе. Легенды говорят об этом строительстве в тех преувеличенных до чрезвычайности выражениях, которые показывают, какое глубокое впечатление на народную фантазию произвели замечательные сооружения великого царя. Если мы пока благодаря отсутствию систематических раскопок не можем еще сколько-нибудь полно обозреть памятники, которыми Ашока покрыл Индию, то мы все-таки знаем уже ряд крупнейших сооружений, которые мы можем отнести к его времени и к ближайшим десятилетиям после его смерти. Они показывают, какой импульс ими был дан индийскому искусству для созидания: техника этого искусства настолько совершенна, что она указывает на долгую преемственность в работе; очевидно, те цехи, о существовании которых в Индии нам свидетельствуют древнейшие надписи, имели долгое существование и тою живучестью предания и преемственности, которые так характерны для индийцев, эти цехи и создали поразительную технику, ничем не уступающую технике их учителей – персов и греков, а часто и превосходящую ее: совершенство резки некоторых надписей Ашоки, полировка некоторых колонн, несомненно датируемых его временем, изумительны. Пока мы, разумеется, не можем еще составить себе вполне надлежащего понятия об искусстве времени Ашоки, так как мы знаем еще слишком мало его памятников, но ясно уже одним из сохранившихся памятников самого Ашоки и некоторых крупнейших остатков ближайшего после него времени, что как для государственной и религиозной жизни Индии Ашока своею яркою индивидуальностью создал эру, так и в искусстве его время дало те импульсы, которые позволяют нам говорить об искусстве времен Ашоки как об известной отправной точке.
Мы, к сожалению, не имеем литературных памятников этого времени – они до нас не дошли, и потому мы не можем связать здесь литературу и искусство; по-видимому, это отсутствие литературных памятников не случайное: государь, занятый главным образом вопросами веры, а затем государственными делами, видимо, уделял мало внимания поэзии, его интерес к искусству, засвидетельствованный рядом памятников, носил характер религиозный. Легенды, которые всегда отражают собою, хоть и в чрезвычайно измененном виде, действительность, много говорят об Ашоке – покровителе веры и великом государе, но не сближают имя его с какими-либо поэтами или писателями. Позднейшая литература говорит нам, однако, что в столетия, ближайшие к Ашоке, процветал литературный стиль, чрезвычайно напыщенный, против которого впоследствии поднялась реакция изящного упрощения, облагорожения. Это, очевидно, отзвуки того варварского великолепия, о котором свидетельствовал Мегасфен, говоря о дворе Чандра Гупты, деда Ашоки: громадность размеров, обилие деталей; творчество ищет себе путей, и в этом искании оно еще не умеет углубленно отнестись к создаваемому, и в нем сочетаются примитивный реализм с примитивною же условностью. Когда мы впоследствии будем рассматривать памятники искусства этого времени, мы постараемся разобраться в любопытном явлении соединения весьма в общем первобытного творчества с очень высокой техникой. Это явление характерно именно для рассматриваемого нами периода, и больше нам с ним уже не придется встречаться, напротив того, творческий замысел будет опережать технику.
Если до нас не дошли от этого времени литературные произведения и мы говорим о них лишь по отзывам и отзвукам позднейших времен, то мы все же имеем и теперь замечательные памятники, несомненно существовавшие при Ашоке и даже задолго до него. Я говорю о санскритском эпосе вообще и о двух больших эпических поэмах, которые, вероятно, вам известны, по крайней мере по имени, это «Рамаяна» и «Махабхарата», из которых последняя является самою крупною по размерам известною ныне эпическою поэмою. Ко времени Ашоки обе поэмы уже сложились приблизительно в том облике, который мы знаем и теперь, и, вероятно, уже и тогда были так же популярны, как и много веков спустя. Великие подвиги, воинские и духовные, яркие добродетели и яркие злодейства, повести о нежной, трогательной любви рядом с пламенными рассказами о кровавых боях, длинные ряды фигур героев и очаровательные женские образы – все это перемешано с бесконечною цепью изречений многовековой мудрости и изящными небольшими рассказами, с которыми встречаешься потом в их многовековых странствованиях по литературам всего мира, вот он этот сложнейший мир индийского эпоса, неисчерпаемый источник для всей позднейшей индийской литературы: повести, романа, драмы, благочестивого буддийского или джайнского рассказа.
До нас дошли в виде законченных поэм только два больших цикла, рассказы, относящиеся к царю Раме в «Рамаяне», и рассказы о борьбе братьев Куру и Панду в «Махабхарате», а сколько их было еще, этих циклов рассказов, сложившихся и околоисторических, и околомифических личностей; бледными тенями мелькают в литературе эти образы, иногда только находя себе отражение в фантазии того или другого поэта. Большая и трудная работа выяснения этих многообразных циклов, к сожалению, еще не сделана, но, когда она будет сделана, мы поразимся тем богатством творческой фантазии, которая существовала в Индии задолго до появления изящной санскритской литературы, составляющей славу своей родины. А когда удастся сравнить эти остатки глубочайшей эпической старины с мало еще изученным современным народным эпосом, то мы опять увидим, что Индия верна себе, все живет в ней и сохраняется тысячелетиями.
Я дольше остановился на эпосе, во-первых, потому, что без этого вы бы не увидели того, чем в значительной мере жила духовно Индия времен Ашоки, а во-вторых, потому, что в эпосе и параллельно с ним медленно вырастали две фигуры индийского пантеона, которым суждено было сыграть решающую роль в религиозной истории Индии и изгнать из нее буддизм. Два имени, которые я назову, вам хорошо известны – это Шива (которого вы, вероятно, больше знаете в европейском произношении Сива) и Вишну. Они являются на смену пантеона ведийских божеств и занимают постепенно совершенно исключительное место в народных верованиях, поглощая и претворяя местные культы, так что мы затем уже, собственно, должны говорить о вишнуистской и шиваистской Индии. Эта способность к поглощению, которая так родственна индийскому религиозному синкретизму, и сделала вишнуизм и шиваизм господствующими без всяких внешних переворотов, постепенным и медленным претворением, которое знаменовало собою в значительной мере поворот к монотеизму, т. е. и к признанию одного бога для определенного как бы времени главным, как бы воплощением божества, божественного вообще. Если в Индии и были сильные монотеистические течения, то она сама все-таки не приняла монотеизма единобожия в том виде, как его воспринял семитический мир и с ним христианство и ислам. После ослабления буддизма в Индии, примерно через восемь-десять столетий после Ашоки, вишнуизм и шиваизм занимают господствующее положение. Но к тому времени, о котором мы говорим, они только что начинают укрепляться в народном сознании. Упанишады, эти произведения древних богоискателей Индии, подготовили почву своим философским пантеизмом, который впоследствии нашел себе блестящее выражение в философской школе Веданта. Они выдвинули идею божества, духа всенаполняющего, на этой почве лежал путь к однобожию, на который и стали шиваизм и вишнуизм. Этот бог был действительно «владыка» – «Ишвара», Içvara в отличие от богов devā, несамостоятельных, творимых, как и все остальное творение.
Ходячим и общераспространенным мнением является утверждение, что идея единобожия и человечества создана семитическими народами, так как арийцы не могли сами дойти до нее. Вы знаете, что самым ярким выразителем этого мнения был Э. Ренан, говоривший: «…la race indo-europeene, preoccupee de la variété de l'universe n'arrive pas d'elle meme on monotheisme. La race semitique au contraire, guidée par ses vues fermes et on les… atteignte à la forme religieuse la plus opusee, que l'humanite ait comme…». Знакомство с Индией избавило бы Ренана от ошибки подобного утверждения. Мы видим в Индии всебожие – пантеизм, однобожие – генотеизм и, наконец, единобожие – монотеизм, против которого полемизировал буддизм. До нас дошел небольшой трактат, приписываемый одному из великих буддийских учителей, под заглавием: «Опровержение мнения о том, что бог сотворил мир, и опровержение мнения о том, что Вишну – единый творец мира», изданный и переведенный Ф. И. Щербатским[3]. Этот небольшой полемический трактат своею резкою, определенною аргументациею показывает нам ясно, что идея единобожия была настолько прочно укоренившейся в известных, по крайней мере мыслящих, кругах Индии, что такие антитеисты, как буддийские учители, считали необходимой боевую полемику с монотеизмом.
Все же преобладало, несомненно, не единобожие, а однобожие, т. е. вера в одного сильнейшего, главнейшего бога, и этим богом для одних был Шива, для других – Вишну: все другие боги, существование которых не отрицалось, отступали на задний план. Я приведу вам небольшой, но чрезвычайно характерный рассказ, принадлежащий одному из выдающихся индийских святых второй половины XIX в., который, очевидно, почерпнул его из старинного источника; рассказ этот столь же жизнен и по отношению к XIX в. н. э., когда он был рассказан в той форме, в какой я вам его передам сейчас, как и во времена Ашоки, и говорит нам удивительно красноречиво о том, как надо понимать однобожие Индии. «Был человек, который поклонялся Шиве и ненавидел всех других богов. Однажды Шива явился ему и сказал:
– Ты не можешь удовлетворить меня, пока будешь ненавидеть других богов.
Но тот человек остался непреклонен. Через несколько дней Шива вновь явился ему и явился как Хари-Хара, т. е. Вишну-Шива, так что половина его была Шива, а половина Вишну. Тот человек от этого стал наполовину радостным, а наполовину недовольным; приношения свои положил перед той половиной, которая была Шива, и ничего не положил перед той, которая была Вишну, и когда он возжег курения перед любимым божеством своим Шивою, то дерзновенною рукою он зажал ноздрю Вишну, другой половине Хари-Хара, дабы курения не доставили наслаждения Вишну. Видя его упорство, бог Шива, разгневанный, исчез. Но тот человек не смутился. Деревенские дети начали дразнить его, призывая в его присутствии Вишну. Недовольный, он повесил себе на уши колокольчики, и, как только дети произносили имя Вишну, он тряс головой, чтобы звон колокольчиков заглушил ненавистное имя. И стали его называть Колоколухий Гханта Карна. И память о нем до сих пор жива в народе, и мальчики в известное время года в Бенгалии разбивают палками его изображение. И поделом ему».
В эпосе мы нашли новых богов Индии – Шиву и Вишну, здесь мы находим необыкновенно меткое и прекрасное выражение той идеи человека с его всепобеждающею волею, которая составляет одну из характернейших черт духа Индии и является, может быть, одною из главных причин ее поразительной культурной самобытности. Велики и бесконечно почти могущественны боги, но человек, сумевший выковать и проявить свою волю, езде сильнее их; если боги не захотят исполнить его волю, он создаст новое небо и новых богов – и боги боятся и покоряются этой высшей человеческой воле. Когда буддисты ищут путь к спасению-освобождению, они помнят, что тем, кто спасается, – Буддою – может быть только человек, боги должны переродиться в людей, для того чтобы они могли стать буддами и спастись. Длинною вереницею проходят по всей истории Индии эти герои, но особенно ярки их образы в «Махабхарате» и «Рамаяне».
Мы приближаемся теперь ко времени, когда сложные события политической жизни ввели чужестранцев в Индию, и мне хотелось показать вам, как велико было самобытное духовное богатство Индии к этому времени и как оно позволило ей лишь в самой малой мере и притом главным образом с чисто внешней стороны воспринять чужеземные влияния.
Индийская деревня была сильна своею общиною, общинным строем; жизнь текла в руслах каст, часто совпадавших и с соответствующими занятиями деревенского жителя; крепкая вера в богов или бога спаивала деревенских жителей, деревенский алтарь или священное дерево были почти всегда святынею всей деревни. Точно заколдованным кругом была очерчена жизнь этой индийской деревни, куда тысячелетия почти не внесли перемен. Благодатная природа делала жизнь простою и почти всецело от этой природы зависящею, и если деревня лежала вдали от большой дороги, то столетия и даже тысячелетия проходили почти незаметно мимо нее: когда мы сравниваем современные статистико-этнографические описания индийской деревни с тем, что мы знаем о ней из старинных источников, старых памятников и раскопок, то мы невольно поражаемся этой для нас, европейцев, непонятной неподвижностью и косностью. Ею должны были поразиться те греки, которые в греко-бактрийском царстве стали у самых границ Индии, мечтая завоевать ее. Но они ее не завоевали, не завоевали ее, по существу, и те позднейшие завоеватели, чьи кони истоптали почти всю индийскую землю, не завоевали ее пока даже владыки ее, англичане, ибо в этой косности были и великая слабость, и великая сила: сила самоограничения, самое могущественное из орудий человека, пользоваться которым цивилизованный человек почти разучился среди своей лихорадочной жизни. Я особенно останавливаюсь именно на этой черте, ибо она так важна для понимания души Востока и так часто не понимается даже глубочайшими сердцеведами. Вы помните, конечно, лермонтовские слова про Восток, такие красивые и такие неверные:
Род людской там спит глубокоУж девятый век…Все, что здесь доступно оку,Спит, покой ценя…Западный человек думал всегда, что Восток неподвижен, что только он, человек Запада, движет мир, и не знал всю удивительную глубину Востока. Обыкновенно его око видело мало и только поверхность жизни. Ведь в этой же самой «косной» индийской деревне жили великие мудрецы, жили святые «учители жизни» в самом глубоком и лучшем ее понимании. И если мы вдумаемся в эту индийскую жизнь, то мы поймем, почему ненасытный, всегда подвижный грек так мало повлиял на нее, повлиял на нее чисто внешне и ненадолго.
Неизгладимым остается в моей жизни одно воспоминание, которое мне всегда говорит о пропасти между Востоком и Западом, – пропасти, которую как будто хочет заполнить та страшная волна, с мировою войною, поднявшаяся на Западе, хочет заполнить, чтобы сгладить все по одному мерилу материального благополучия человечества. Я потому позволяю себе говорить об этом, что здесь и лежит тайна силы и бессилия Востока. Это было в Азии, я ехал в далекую экспедицию. Была теплая, благоуханная летняя ночь, наши лошади, вещи, мы, люди, переправлялись на пароме через большую реку. Было темно, и только где-то ниже по реке мелькали случайные белые-тени: купались после жаркого трудового дня деревенские женщины, и с ними были дети; слышались веселый, беззаботный смех и всплески воды. И чувствовалось, что так было всегда в теплые летние вечера, века за веками приходили деревенские женщины, никогда из деревни не выезжавшие, и купались здесь, беззаботные и веселые, покончив со своею работою. А мы – люди далекого Запада, проехавшие уже тысячи верст и перед которыми лежали еще тысячи верст пути, ехали, полные забот и мыслей о далеком пути, о наших исканиях; всю жизнь мы странствовали, только на время останавливаясь, чтобы опять двинуться в путь и искать. Они не думали о нас, а если бы и подумали, то только для того, чтобы удивиться нашим исканиям и […] странствованиям. Они и мы – два чуждых друг другу мира, и который из них стоит на правом пути – кто знает?
Так жила индийская деревня, город жил иначе, но и он при процветании каст и брахманства был мало податлив на иноземные влияния; его цехи ремесленников составляли сплоченные содружества, в среде которых развивались техника производства, купечество с его старшинами, чиновничество, орудие тщательно оборудованного государственного механизма, все это тоже мало поддавалось влиянию извне. В городе и деревне развивалась литература, главным образом санскритская, но уже переходившая иногда и к пракритам. Государственная власть, хотя и перешедшая в более слабые руки, чем руки великих царей династии Маурья Чандра Гупты и Ашоки, держалась крепко заветов этих государей и их сановников.
Таковы были те основные самобытности, которые Индия выработала уже к тому времени, когда рядом с ней появилась другая, одна из величайших культур того времени и всех времен – греческая. Но Индия наряду с этой своей культурой, оградившей ее крайне яркой индивидуальностью, своим брахманством и кастами выработала и такие черты, которые позволили ей не ограничиться пассивным отпором чужеземным влияниям, но дали ей возможность влиять активно навстречу иноземным течениям. Если брахманство, со всем, что было с ним связано, мы должны считать одним из крайних проявлений обособленности и обособляемости, то буддизм, как показала и еще показывает его история, является одним из самых ярких факторов международных, межчеловеческих отношений. То, что брахманство и буддизм – создание одного и того же народа, свидетельствует о необыкновенном богатстве и многогранности его природы.
Буддизм к тому времени, о котором мы говорим, ко II в. до н. э., достиг уже такого развития, настолько уже выработал свою догму, свою философию, так развил свою общину, что при встрече с другой культурой он мог явиться в большей мере дающим, чем воспринимающим, и мы это действительно видим. Ничто в буддизме не обнаруживает греческого влияния, только, как мы увидим, в буддийском искусстве, и то главным образом в формах, мы найдем сильное эллинистическое и даже римское влияние, притом для времени значительно позднейшего, ибо древнейшие памятники буддийского искусства, пока нам доступные, показывают или черты национальные, или главным образом персидские, переднеазиатские. И еще следы греческого влияния мы найдем в точных науках – в математике и астрономии, а также и в медицине, но во время значительно позднейшее, найдем мы его еще в монетном деле, где греческие и римские монеты влияли на индийские, эта, несомненно, одно из самых внешних влияний, ибо впоследствии мы видим здесь и мусульманское, и европейское влияние, в зависимости от политики и торговли. Этим исчерпывается, в общем, весьма, как вы видите, ограниченное влияние греческого мира на Индию; попытки доказать влияние греческой драмы на индийскую я считаю совершенно неубедительными, так же как оставляю в стороне запутанный вопрос о басне, история происхождения которой совершенно пока не ясна и где, по-видимому, мы имеем обоюдные влияния с примесью совершенно сторонних влияний.
Если, таким образом, греческое влияние через соседствовавшее с Индией греко-бактрийское царство оказалось незначительным для Индии, то влияние Индии и специально буддизма на своего непосредственного соседа оказалось большим и длительным, пережив здесь греков. Следы его мы находим в надписях, где упоминается Явана, так называли в Древней Индии греков от имени Ионян, но главное – это замечательная книга «Вопросы Милинды», т. е. вопросы, предложенные греко-бактрийским царем Менандром буддийскому мудрецу Нагасене и касающиеся буддизма. Менандр жил в середине II в. до н. э., а книга, вероятно, составлена около столетия спустя. Во введении она дает нам любопытное описание столицы Менандра, которое представляет такую интересную картину городской жизни занимающего нас периода, что я позволю себе дать вам перевод этого описания:
«Так гласит предание. Есть в стране греков (Ионака) город Сагала, окруженный разными другими городами, расположенный в прекрасной местности, украшенной реками и горами, наполненный садами, парками, рощами, озерами и прудами, очаровательными реками, горами, лесами. Город был разбит искусными зодчими, враги и недоброжелатели его были побеждены, и потому не было в нем насилий, крепки и разнообразны его сторожевые башни и укрепления его, стен, великолепны его ворота, окружен глубоким рвом и белыми стенами царский замок; прекрасно расположены улицы, площади, перекрестки, рынки. Отлично выставлены разнообразные отборные товары, которыми полны его лавки. Он украшен сотнями различных домов милостыни. Сотнями тысяч отборных домов он подобен вершинам Гималаи. Город полон слонов, коней, повозок, пешеходов. По улицам его ходят толпы прекрасных женщин и мужчин, он полон разных людей – кшатриев, брахманов, вайшьев и шудр. Здесь стоит гул от приветствий разным шраманам и брахманам, стекаются сюда различные мудрецы и доблестные люди. Полон город лавок для продажи тканей из Бенареса, из Котумбары и различного платья. Он благоухает от благовоний лавок, где выставлены различные благовония и цветы. Город полон драгоценных камней, каких только пожелаешь. Толпы купцов посещают лавки, расположенные во все страны света. Всюду деньги, золото, серебро, медь, город блестит ими, как сокровищница; в кладовых и складах много добра и зерна: и съедобное, и напитки всяческого рода, и сладости. Город подобен uttarakuru (Богатой стране) и славою он точно Alakananda – град богов».
Если и есть немало преувеличений в этом пышном описании города, то самое описание показывает, что в действительности было из чего черпать фантазии, так как то, что описано, чрезвычайно реально. В самом начале собеседования царя и мудреца есть еще одно характерное место, которое показывает, насколько для буддистов выше мудрец-мыслитель, чем могущественный царь.
«Царь сказал:
– О почтенный Нагасена, будешь ты беседовать со мною?
– Если ты, великий государь, будешь беседовать со мною, как беседуют мудрецы, то буду, если же как царь, то не буду.
– А как беседуют мудрецы, о почтенный Нагасена?
– Сперва идет доказательство, потом разбор, потом выясняется ошибка и делается возражение; устанавливают различие и обособление, и мудрецы при этом не гневаются. Так, великий государь, беседуют мудрецы.
– А как же, почтенный, беседуют цари?
– Цари, о великий государь, если во время беседы установят нечто и собеседник не соглашается с ними, то они велят его наказать, говоря: „На него должно быть наложено такое-то наказание“. Вот так, великий государь, беседуют цари».
Беседа кончается победою Нагасены и обращением царя в буддизм; было ли так в действительности, мы не знаем, но Плутарх говорит нам, что когда этот государь, отличавшийся справедливостью, умер, то несколько городов оспаривали друг у друга право на его останки, и они сговорились, поделив их между собою и воздвигнув каждый поминальные памятники […]. Это напоминает нам спор об останках Будды и вообще буддийское погребение.
Небольшим царькам греческого происхождения, постоянно, видимо, враждовавшим между собою и окруженным, вероятно, лишь небольшою греческою дружиною, не было, очевидно, ни возможности, ни времени думать о распространении греческой культуры, так что Индии и нетрудно было остаться нетронутой в своей самобытности; она была много сильнее духовно и материально даже и после распадения могущественного государства династии Маурья, обладавшей, как я уже говорил, почти всею Индиею, кроме некоторых частей крайнего Юга.
Весьма недостаточные сведения, которые мы имеем о туземных династиях за время с конца III в. до н. э. и даже до начала IV в. н. э., заставляет нас пока быть поневоле краткими, ибо при малой разработанности немногочисленных пока первоисточников приходится быть крайне осторожным. Историческая и особенно хронологическая канва владычества иностранных завоевателей, наводнявших за это время Индию, особенно Северную, настолько пока еще запутана, что требует той же крайней осторожности.
Со смертью Ашоки в последней четверти III в. до н. э. начинается распадение созданного его дедом и им громадного царства; совершается этот процесс постепенно, слабые руки преемников великого царя не могут удержать его наследия в борьбе с другими возникающими и разрастающимися царствами. Я сознательно не желаю обременять вашей памяти рядом имен, с которыми вам может быть никогда более не придется встречаться, и потому назову только те, которые считаю безусловно необходимыми. Еще при царе Чандра Гупте в самом конце IV в. в Южной Индии начинает выделяться народ андхра, не арийского, а, по-видимому, дравидского – южноиндийского корня. При Ашоке они пользовались известной самостоятельностью, имея своего царя, но, несомненно, в подчинении великому властителю Индии; с его смертью они начинают распространять свое владычество за пределы прежних владений, затем мы их теряем на время почти совсем из виду, так как не к ним непосредственно перешла главная власть, а к династии, основанной в первой четверти II в. до н. э. некиим военачальником Пушьямитра, свергшим последнего преемника Ашоки и основавшим династию Шунга, сохранив столицею Паталипутру, столицу его предшественников. В конце царствования Пушьямитры произошло отбитое нападение упомянутого мною Менандра на Индию. Династия Шунга кончила свое существование около половины II в. до н. э., а в последней четверти выдвинулась уже упомянутая династия Андхра. В этой династии одно имя должно остановить наше внимание – оно относится к царю, жившему, по-видимому, в середине I в. после н. э., потому что с ним наряду с различными легендами соединяется предание об авторстве большого сборника пракритских четверостиший, почти исключительно любовных, и притом, как это ни странно, при царственном авторе, относящихся главным образом к деревенской жизни. Чтобы дать хотя бы некоторое понятие о них и вместе с тем дать пример того, о чем я говорил во второй лекции, именно о частом упоминании живописи в поэзии, я перевел два четверостишия этого царя Халы, или Сатаваханы.