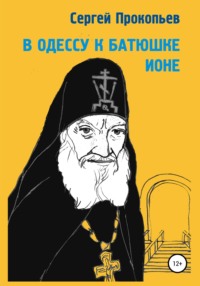Война и мир Петра Рыбася
– Отстань ты, банный лист! Я запутался – утро или вечер
сейчас?
– Какая разница?
Разницы деду, неработающему пенсионеру, и Юльке, дошколятнице, не было никакой. Кабы не существенное обстоятельство: последняя вечерняя электричка до дач не доходит шесть километров.
«Заночуем в посёлке, – постановил про себя дед Петро, окончательно убедившись, что на дворе вечер, в ночь переходящий. – Где мы, разведчики, не пропадали».
Слишком хорошо разведчик подумал о поселковских. Те ненавидели дачников лютой ненавистью. Жили, горя не зная, многие годы. Сами по себе. Что хочу, то и ворочу. Вдруг полчища чужаков нагрянули.
Вокруг посёлка до горизонта нарезали дачных участков. И закатилось тихое счастье. Машины снуют. Электрички толпами народ туда-сюда возят. Жизнь, как на вокзале.
Отсюда попытки деда напроситься на ночлег кончились плачевно. Даже наличие внучки не разжалобило аборигенов. А вокзальчик на ночь закрывался.
– Стрелять вас надо, куркулей! – заругался дед.
– Что такое куркуль? – спросила Юлька.
– Сволочь! И хватит вопросов, пошли к мамке!
Шесть километров – пустяк для летнего времени. Не зимой в мороз. Но это если свои ноги из нужного места растут – не протезы. И темнота сгущается. Как только солнышко, порядком подкузьмившее в этот день, зашло, сразу тучки набежали, весь небесный свет закрыли.
Дед, старый разведчик, не растерялся, принял единственно правильное решение – идти вдоль железной дороги. Рельсы блестят, путь указывают.
Юлька, внучка разведчика и дочь мамы-туристки, держится молодцом, не капризничает, наоборот, деда развлекает:
– Дед, знаешь, почему сначала видим молнию, а потом гром гремит? Ага, не знаешь! Потому, что у нас глаза впереди, а уши сзади.
Двигались они с такой скоростью, что пройденное расстояние увеличивалось в час по чайной ложке. Соответственно, оставшийся маршрут в таком же объёме уменьшался. Протезы, они ведь не родные ноги, сами не передвигаются, волочь надо.
Когда Елена, оповещённая ночным посетителем о путниках, бредущих из последних сил на дачу, прибежала к ним с ружьём на плече, картина имела следующую композицию. На Юльке висел до пят пиджак деда. Температура окружающей среды стояла на прохладной отметке. Дед в майке передвигался на четвереньках. Бодрости в протезах не осталось. Сам бы давно завалился где-нибудь под насыпью в кустах и спал до утра. Старому разведчику не привыкать. Но Юлька… Поэтому, вспоминая военное прошлое, сотни километров исползал в тылу врага, передвигался на четвереньках. Под майкой характерно оттопыривалось.
– Ты ещё и пьёшь! – заругалась Елена.
Поллитровку дед купил в посёлке, когда отчаялся устроиться на ночлег.
– Смотри, – достал бутылку, – только, расстреляй меня комар, для поддержания сил, всего граммов сто пятьдесят выпил. Не соображаю, думаешь, чё ребёнок на шее?
Надо согласиться, «соображал», отпил не больше названных граммов.
– Ты зачем потащился сюда? Чё стряслось?
– Дак, думал утро, оно – вечер, садик закрыт…
– И Юльку в этом грязном платье в садик повёл?
– Чё грязное-то?..
– Мам-мам, а дед не знает, что такое секс!
– Она у тебя, Ленка, такая умная стала. Пора ремешком поучить по одному месту.
– Вас бы обоих ремешком пора!
– А меня за что? – закапризничала Юлька.
Елена не стала пояснять вердикт приговора, взяла дочь на руку, отца под руку, и пошла троица с ружьем на женском плече в сторону частной собственности, громко именуемой дачей.
За нэньку старэньку
Андрей Матвеевич Игнатьев узнал о смерти стародавнего друга Петра Рыбася с опозданием.
– Не проводил, – сокрушаясь, кивал головой. – Попросил сына в деревню свозить, а возвращаюсь… Эх! И вообще, два последних года всё никак не мог к вам выбраться… Звонил и то редко…
Он приехал к Елене с бутылкой. С порога направился к большой фотографии, что стояла на тумбочке. Друг был запечатлён в полевых условиях. Притулившись к толстому стволу берёзы, стоял большой, красивый, лет пятидесяти, молодой, с грибной корзинкой в руке. Тут же на тумбочке лежала фотография могилы. В венках, с крестом.
– Рядом с родителями похоронили?
– Только там хотел.
Сели за стол. Андрей Матвеевич – старик ещё крепкий. Сухой, высокий.
– Убери, убери! – увидел на столе рюмки тонкого стекла. – Мы с Петром эти фифочки не признавали. Рабоче-крестьянские давай…
– Мать покупала, – достала Лена гранёные рюмки, – я ещё в школе училась. Штук сорок, с прицелом на свадьбы, похороны…
С пяток осталось.
– Эх, – наполнил Андрей Матвеевич рюмки, – Петро, бывало, скажет: «Выпьем за нас и за нашу нэньку старэньку, шо учила нас горилочку пить помаленьку». Ну, помянем…
Андрей Матвеевич вбросил в себя водку.
– Я ведь, Лена, – сказал, закусывая солёным помидором, – по гроб жизни твоему отцу благодарен. Поди, и не знаешь. Вам некогда было нас слушать. В омском госпитале я распаскудился. Водка, карты… Комиссаром госпиталя был Слюнков Геннадий Алексеевич. Седой. Тактичный. Никогда голоса не повышал. И убеждал: «Учитесь, сынки». Мы – офицеры – от военкомата зарплату получали.
И благополучно пропивали до копейки. Да в «очко» резались. Шулера около нас крутились, чистили… Офицеры – большинство молодняк. В восемнадцать лет от мамкиной печки забрили, полгода курсов и на фронт. Где ты уже не баран начихал – командир. Ординарец тебе сапоги драит, котелок пожрать несёт. А мне ногу под Станиславом оторвало, я опять нуль без палочки. Никакой специальности в руках… Слюнков нас вразумлял, а Петро у него первый помощник на общественных началах. Он не по годам с головой был. И на войне активистом, комсоргом, и тут авторитетный. Главврачу скажет: «Выписывайте этого, толку не будет». И выпроваживали. «Какие вы офицеры, – костерил, – вы чурки с глазами, половину стесать надо, чтоб люди вышли! Нам, безруким, безногим, о завтрашнем дне думать, как на хлеб зарабатывать, а вы зеньки заливаете…»
Гонял картёжников. Ночью, бывало, играем-играем, вокруг спят, вдруг кто-то банк сорвал – сразу крик на весь этаж. Петро вскакивает и айда крестить костылём. Ни на кого не смотрел. С нами лежал один Герой Советского Союза – Лаврентьев. Танкист. В первые дни, как привезли, прооперировали, тихо себя вёл, а потом духу набрался. Покрикивать начал. Без ноги тоже. Как-то сидим вечером, в карты режемся. Тина в ту ночь дежурила. Хорошая девчонка, ко всем с душой относилась, жалела нас, калек. Днём в мединституте училась. В тот вечер что-то задержалась с уколами, заходит в палату, он как давай упражняться: «У меня боли, а ты мандавошка!»
Тина в слёзы. Петро взвился, схватил тросточку этого выступалы, у кровати стояла, да как начал его охаживать. Потом сграбастал и потащил к окну, выкинуть хотел с третьего этажа… Так обозлился. Ребята не дали…
Позже они помирились. Уходя из госпиталя, Лаврентьев подарил Петру ту самую тросточку. Я о нём потом в книжке читал. Два наших «ИСа» – танки «Иосиф Сталин», – одним Лаврентьев командовал, за полчаса тридцать два немецких танка уничтожили. Сорок четвёртый год, немцы упёрлись на одном участке фронта, кажется, в Польше. А «ИСы» только-только появились. Парочку прислали. Ночью один в одном леске расположился, другой – в соседнем замаскировался. Когда немецкие танки пошли буром, они пропустили часть, а потом как давай щёлкать. Сначала впереди себя разобрались, а потом развернулись и задних. Кажется, один семнадцать подбил, другой – пятнадцать. За полчаса боя оба командира танков по Герою получили. Лаврентьев потерял ногу, когда за звездой в штаб поехал. Не на танке, конечно. А надо было…
Петро вдалбливал мне: «У нас на двоих одна нога, и то – у тебя. Нам мозгами надо шевелить против течения». Заставил-таки учить бухгалтерское дело. Сам-то долго счёты не мог бегло освоить. Бывало, три раза одно и то же пересчитывает, щёлкает, щёлкает – и всё разный ответ. Матерится. Я его натаскивал. В результате оба бухгалтерами стали… А так бы я спился… Махнул ведь на себя увечного рукой.
Андрей Матвеевич взял фотографию с кладбища. На вытянутой руке долго рассматривал.
– Не удивлюсь, если на тополе, что рядом с могилкой Петра, какие-нибудь фрукты вырастут. Помню, первый раз приехал к вам, когда ещё на Рабочих жили, подводит к чуду-юду: из одного пня четыре разные яблони растут.
– Природе никогда не доверял, – закивала головой Елена, – на дерево не привитое спокойно смотреть не мог. И гордился, что ещё в тридцать восьмом году пацаном исправил украинскую пословицу: дождёшься, когда на вербе груши вырастут. Аналогичную русской: когда на горе рак свистнет. Вырастил на вербе груши…
– Ему, бывало, что в голову втемяшится… Помню, в начале шестидесятых он в госпиталь попал, я к нему пришёл проведать с бутылочкой тёщиного производства, выпили «за нас и за нашу нэньку…», за разговором Петро размечтался: «Вот бы попробовать гнать самогонку из сахарной свёклы. Это же какая халява-расхалява! На сахар деньги не тратить. Его в этой свёкле за глаза…» А в году девяносто четвёртом звонит, приглашает отведать…
– Ой, не вспоминайте этот ужас! – сделала плаксивую мину Елена.
– Самогонка, конечно, вонючая! Но ведь осуществил мечту.
– Муками моими! Никогда не забуду ту зиму!
Они взяли участок под дачу. Десять соток, голимая целина. Чем засаживать? «Сахарной свёклой!» – загорелся дед Петро. И засеяли под самые колышки будущего забора. Уродилась дуром. На грузовой машине вывозили. «Ух!» – потирал руки дед Петро. И встала задача выделить сахаросодержащий сок – на бражку. Книжек на всякие случаи жизни, как сейчас, не было. «Три на тёрке!» – скомандовал отец Елене, начиная экспериментировать. Тоскливое занятие, если кинуть мысленный взгляд в погреб, забитый сырьём, – тереть не перетереть. А свёкла самогонная – не сравнить с той, что на борщ идёт, волокнистая.
Кое-как переработали первую партию.
«Варить!» – дед Петро дальше следует интуиции. Каша густющая получилась. Стоит задача из неё сок получить.
«Что, если стиральную машину «Сибирь» с бешеной центрифугой использовать?» – сказал дед Петро.
Каких только Елена мешочков не шила. Сначала марлевые. Рвались при первых оборотах, забивая стиралку самогонной кашей, с таким трудом натёртой. Ситцевые мешочки ненамного прочнее оказались. Зато брезент воющая скорость вращения не рвала. Но и капли через него не выжималось.
Перешли на технологию подвешивания мешочков на крюки в ванной. Опять выход пшик да маленько. Отбросил дед Петро вариант с варкой. На сырую переработку натёртого материала перешёл. Прессы принялся изобретать. Почти весь урожай перевели на научный поиск. Елена ругалась про себя и вслух. Дед Петро, как истинный исследователь, азартно рвался к результату. Только к весне кое-что надавили и поставили бражку.
Бурдомага получилась термоядерная. Реакция на дрожжи, как у ракетного топлива, когда на старте с окислителем смешивается. Не успеешь бросить дрожжей – прёт шапкой из фляги на пол. «Скорей гаси сметаной!» – дед Петро отдаёт приказ. Ладно бы ложку. Банками приходилось переводить дорогой продукт на сдерживание бешеной реакции.
Вонизм вокруг процесса по всей квартире. Сок и сам не цветами пахнет. От химии брожения вообще дышать нечем.
Дед Петро, природе не доверяющий, по опыту всей жизни знал: бражке следует выстаиваться минимум дня три-четыре. Сверхзвуковая за данный период успевала плесенью покрыться.
Намучилась Елена. Наконец перешли к перегонке. Раз пропустили через аппарат, второй. А всё одно – косорыловка. Вонючая-я-я…
Пока выпьешь, физиономию на пять рядов перекорёжит. Такую только в медицинских целях использовать – для лечения алкогольной зависимости…
На следующую посевную кампанию Елена заявила такое категоричное «нет» сахарной свёкле, заручившись поддержкой брата Бориса, что дед Петро вынужден был сдаться. «Да будь я молодой, – ругался, – я бы вас просил разве?!»
Можно сказать, впервые в жизни задуманное не осуществил в полной мере…
Андрей Матвеевич и Елена закурили. В раскрытую дверь балкона вплыл колокольный звон, церковь находилась по другую сторону дома.
– Месяцев за семь до смерти отец надел нательный крестик, – сказала Елена.
– Петро? – удивился Андрей Матвеевич. – Он же атеист до хрипоты! Помню, шестидесятилетие его праздновали, с сестрой Верой они разругались на эту тему чуть не до драчки…
– И до кулаков доходило. Не было гулянки, чтоб не сошлись грудь в грудь. Как специально ждали поединка идеологий. Обязательно при встрече один или другой зацепит. И чуть не до первой крови будут… Вы тётю Веру знаете, она всю жизнь любила болеть. Вообще индивидуум в семье. Ничего не умеет толком. Ни стряпать, ни солить. Но всегда полная сумка лекарств. Как при отце таблетки достанет, тот сразу: «Вер, химия зачем? Сходи к попам, побейся лбом». Та сразу в бутылку лезет: «Богохульник бесстыжий!» И пошло… В другой раз, например, тётя Вера за столом от всего отказывается: «Сегодня пост, только капустку незаправленную». – «Знаешь, как попы делают?» – отец тут как тут поёрничать. «Как?» – «Мясо перекрестят со словами “это рыба” и наяривают в пост!» – «Сегодня рыбу тоже нельзя!» – скажет недовольно тётя. «Тогда мясо преврати в картошку!» – «Дурак ты, Петя!» Это было нечто. Отец ведь её нянчил в детстве. Ему было пять, ей меньше года, когда началась коллективизация. Родителей в поле гонят, хозяйство на нём. Рассказывал: сестра дурниной орёт. Он жванку ей из хлеба сделает, она выплёвывает. Мамкину титьку надо, а не хлеб в тряпочке. Тогда отец как начнёт мотылять люльку. Та о стенки бьётся, сестра ещё пуще заливается…
– С детства у них несогласие!
– «Чё в люльке такую богомолку не придушил! – ругался отец. –
О каком Боге запела бы, с моё повидав!» Запомнилось, однажды кричал в споре, как в Западной Украине рота власовцев без единого выстрела сдалась. Тут же расстреляли, не раздумывая! «Немцев никогда не расстреливали! – шумел отец. – А русских мужиков в расход! Где твой Бог был, когда они предавали и когда мы их?..» На что тётя Вера ему: «Это за грехи тяжкие!» Отца аж колотит: «Какие у меня к войне грехи накопились, чтобы калекой всю жизнь?» Отец не раз вспоминал паренька, кажется, Витю, сын полка у них был… На отдых часть отвели с передовой, Витя подходит к отцу: «Убьют меня сегодня, Петро, возьми вот шоколад». Отец ему, дескать, ты что, фронт вон где. Хотя, говорил, по виду чувствовалось – не жилец. И вот самопроизвольно взорвались снаряды, Витя, один-единственный, оказался рядом. «За какие грехи этого золотого парнишку в клочья?» – «За всеобщие!» –
«Дура ты одурманенная!»
– Узнаю Петра.
– Когда в этом доме отец с матерью квартиру получили, новоселье сделали. Вас, кажется, не было. Тётя Вера пришла и с порога: «Ой, Петя, как вам повезло! Церква рядом». Ух, он раскипятился: «Да будь моя воля, порушил бы, как дядя Гриша!» Дядя отца, рассказывали, рукастый был, до всего нового азартный. Чем только не занимался.
– Это который Петра к фотографии на Украине после войны привлёк?
– Ну, чтоб папка заработать мог. Фотоаппарат подарил. На треноге. Он у нас на Рабочих долго на чердаке пылился. Дядя был отличный столяр, маляр… По сей день храню бабушкину прялку, что он сделал. А в тридцатом году верховодил активистами, кто церковь в селе рушил. На иконостасе самолично всем святым глаза выколол. Отец с гордостью говорил об этом. И умалчивал вторую часть истории. Не знаю, рассказывал вам или нет? Лишь с год назад услышала от него, как дядя в сорок шестом восстанавливал церковь. Безглазые иконы, что бабки сохранили, отреставрировал. Иконостас сделал. Всё бесплатно. И это в голодный послевоенный год, а ведь семья на плечах… Что меня удивило: отец, рассказывая, не осуждал, что дядька изменил атеистическим взглядам. Мне соседка принесла кипарисовый крестик, я её поблагодарила за подарок, в вазочку крестик положила. Смотрю, папа шнурок к нему привязал, надел на шею. С ним и умер. С ним и похоронили.
Пришла Юля. На полголовы выше мамы в свои четырнадцать лет. Шумная и громкая.
– Это, что ли, Юля? – удивился Андрей Матвеевич. – Ничего себе вымахала. В деда пошла.
– В деда-прадеда бандюга! – хихикнула Юля поговоркой деда.
– Если в деда – дай-то Бог! На-ко! – Андрей Матвеевич протянул большую плитку шоколада. – Вам, молодым, сладкое полезное, а мне, старику…
– Старость не радость, а биологическое состояние организма! – отрапортовала народную мудрость Юля.
– И физическое тоже, – согласился Андрей Матвеевич.
Юля буйным ветром крутнулась по квартире, за пять минут успела съесть добрую половинку шоколадки и, хлопнув входной дверью, исчезла.
– Тяжело болел последний год, – подрезала Лена колбаски на закуску. – Астма всё же придушила его.
– Как травами не лечился… Помню, всё за багульником ездил…
– Да, после ранения в госпиталях столько лекарств закачали, организм уже не принимал…
– В госпитале, бывало, доктору влепит: «Вы не лечите, а калечите!»
– Во-во. Решил к травам прибегнуть. Прошерстил библиотеки, нашёл метод траволечения. Даже врачи у него переписывали. И астма затаилась на много лет, а тут достала… Месяц, второй… Но только полегчает, только синеть перестанет, сразу как ванька-встанька –
надо двигаться. Если не может сползти с дивана, будет ложиться и садиться, ложиться и садиться…
– Он всегда говорил: органы лежачее тело не обслуживают. Надо двигаться!
Опять забежала Юлька, схватила сотовый телефон с тумбочки, исчезла…
– В прошлом году на дачу уже не ездил, – продолжала Лена скорбный рассказ. – Я там, наконец-то, по-своему распланировала. Он ведь не давал. Цветник впервые сделала. Красота. На остальное времени не хватало. Разрывалась между дачей и домом, его одного надолго не оставишь. В сентябре, уже цветы отцвели, отец упросил свозить его. Приехали. «Я посижу, – говорит, – вы с Юлькой работайте». Через полчаса подхожу – на месте цветника чёрное пятно. Ползая на карачках, выполол подчистую. Только пионы – их ни с чем не спутаешь – оставил. Остальное повыдёргивал до былинки, до травинки. Думал, я без него сорняки развела. Хмель, который начала выращивать с мечтой о беседке, уничтожил. Не сдержалась, накричала… Потом расплакалась. За всё лето, говорю, на полчаса тебя допустила… А в день смерти запросился на дачу. Ты же, говорю, не спустишься по лестнице. Он только на четвереньках ползал. Сил уже не осталось…
– У него, Лена, вся жизнь не сахар. Иногда в шутку скажет: «Вся жизнь – борьба! Как с пяти лет начали на хозяйстве оставлять…»
А после войны столько операций, болей…
– Умер, верю, легко. Он вам, наверное, говорил: с ним, как астмой заболел, стали происходить забавные отключки. Когда заходился в кашле, мог на краткое мгновение потерять сознание. Через это перестал ездить за рулем один. Рядом обязательно кто-то должен сидеть, на тормоз в случае чего нажать. Отключаясь, рассказывал, попадал во что-то необыкновенное: яркий свет, музыка волшебная. «Так радостно на душе, – говорил, – очнусь и жалко: остаться бы там навсегда». В то утро зашла, он баллончик, что на неделю, за ночь израсходовал, так задыхался. Поговорили про дачу, вижу – совсем невмоготу. Только набрала номер «скорой», поворачиваюсь – он заваливается…
За Андреем Матвеевичем приехал внук, Елена осталась одна. Убрала со стола. Подошла к фотографии отца. Сама её делала, ровно тридцать лет назад. Ещё в техникуме училась. А фотоаппарат отец на окончание школы подарил. Захотелось поплакать…
Но тут со слезами и наливающимся синяком под глазом ворвалась Юлька. Незнакомые мальчишки пытались отобрать сотовый телефон. Обломилось. Потерпевшая хоть и пропустила первый удар, но тут же схватила кусок деревяшки и начала беспощадно крестить грабителей направо и налево. Лишь разогнав, расплакалась…
– Дед бы точно сказал тебе «в деда-прадеда бандюга!» – прижала Елена дочь к груди. – Успокойся уже…
– Мам, а деда в рай попал?
– А ты как думаешь?..
***В оформлении обложки использован рисунок художника Владимира Чупилко