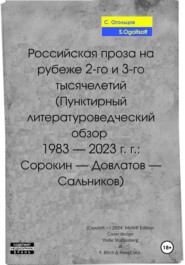По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ой! Это ты?
– Да.
– Ой! Ты что такой тощий?!
– Тихо! Ребёнка разбудишь.
Потом мне Ира рассказала, что её сестра Вита ездила в Одессу к родственникам и хотела повидать меня на шахте. Она доехала до Новой Дофиновки, но жительница посёлка, Наталья Курило, отсоветовала ехать дальше – дорога слишком непроходимая.
– Да, эта Наталья сидит в конторе шахты, наверху, в котловане.
– Она жаловалась, что ты вообще никого там не слушаешься, только мастера.
– Ей-то откуда знать? Она ж наверху сидит.
– Значит знает, раз говорит… А как там вообще?
– Там всё так… класс… море такое… вообще!. корабли над полем…
– Ну, ты и тощий… Ты там был с кем-нибудь?
– Ты что, сдурела?!
– Тихо! Ребёнка разбудишь… ну… ты сейчас что-то делал… ты раньше так никогда не делал.
– А… эт у камнерезной машин перенял… диски у неё так ходят.
– А какая тебя там должность?
– Уй, длинная – помощник машиниста камнерезной машины. Только сам про себя, я себя короче называю – фалличный ассоциатор.
– Это что?
– Это из древне-Греческого. Долго рассказывать…
– А жилищные условия там как?
– Две комнаты. Большие. Толик со второй машины говорит, они хорошо расположены. Зимой ветер задувать не будет, он там с другой стороны. А под окном – лиман.
– Ну, ты худющий!
– Тише! Ребёнка разбудишь!
Но ты всю равно проснулась…
– Слушай, а платочек где? Я на окне оставлял.
– Какой платочек? Я не видела.
В общем-то, правильно. Чтобы увидеть, надо знать что ищешь. Я вон сразу даже море не узнал.
(…так парусник и не нашёл своё пристанище, а потом и вовсе пропал. Как знать, может до сих пор бороздит просторы вселенной где-то…)
Конечно да, не очень-то приятно было услышать, когда Ира сказала, что в роддоме ей сказали, что её девственная плева до конца не была пробитой и тебе пришлось доканчивать начатое, но с обратной стороны… Хоть и пристыжённый, я не ощутил особой, да и вообще какой-то разницы, что моя жена утратила девственность в обратном направлении. Отчасти оставалось какое-то чувство вины за ту чересчур осторожную ночь в Большевике, но с тех пор я наяривал как мог, беззаветно. К тому же, истории известен по крайней мере один случай, когда рожала дева…
(…что касается случая в нашем, не Святом Семействе, то это результат программирования текстом посредством романа Эрве Базена, который я читал в своём отрочестве. Хотя там до родов у него дело не дошло, но всё равно, я бы не стал давать мне читать всё что ни попадя…)
Я поехал в Конотоп забрать тёплую одежду, полушубок, резиновые сапоги. Отец отдал мне свой чёрный матросский бушлат с медными пуговицами в два ряда. Я даже взял с собой гитару, потому что ехал обосновываться всерьёз и надолго.
В Конотопе все тоже ахали, что от меня только половина осталась, но чувствовал я себя как никогда великолепно… Моя мать обернула вещи белой холстиной и зашила, получился большой толстый тюк.
Однако, оставалось ещё кое-что сделать. Сделать и – рвать когти. Сделать и – залечь на дно в шахте «Дофиновка».
(…на протяжении всех этих пяти с чем-то лет я знал, что за всё нужно платить. Ничто не даётся за так. Речь идёт не про деньги за дурь, это само собой. Я имею в виду плату за «пушнину» по большому счёту, за все приходы и улёты. И чем ближе к финальной черте в корыте общего писсуара на Киевском вокзале междугородного сообщения, тем глубже я осознавал, что мне известно даже кто именно платит слишком высокую—дороже всяких денег—цену за мой кайф.
У меня не было ни желания, ни случая поделиться этим знанием хоть с кем-нибудь – настолько это полный бред и ахинея. Вот почему я глушил его и таил даже от самого себя, но оно неумолимым фактом всплывало снова и опять—причём не только по ук?рке—что я в неоплатном долгу перед многострадальным народом Камбоджи, парящимся в субэкваториальном климате юго-восточной Азии. И нет мне прощения…
Ничто не берётся ниоткуда, это – непреложная истина. Тактильные ощущения моего первого улёта в кочегарке стройбата установили неразрывную связь между кайфом и получением по мозгам. Впоследствии эти ощущения сгладились, но кайф продолжал поступать.
Вопрос: если не я, то кто же получает по мозгам?
К концу 5-(с-чем-то) – летнего срока употребления пришёл ответ… Отряды красных кхмеров, захватывая очередную деревню, убивали жителей-крестьян, таких же камбоджийцев как и сами. Для экономии патронов они убивали их ударами бамбуковых палок по черепу. Затем переворачивали трупы на спину и фотографировали мёртвые лица, как для паспорта.
На этих снимках правый глаз зажмурен, а левый выпучен. Многорядные ленты таких снимков—мертвецы с кошачьим выражением лица—регулярно помещались на страницах центральных газет. Я их видел. Они походили на иную, чуждую расу людей с кожей ободранной с их лиц. Мне было за что чувствовать себя виноватым.
Конечно, с учётом событий сопровождавших мой первый вылет в Одессу, красные кхмеры уже не вышибали крестьянские мозги для меня, но продолжали вышибать их, чтоб кайфовал кто-то ещё, помимо.
В Одессе я угодил в самую гущу вселенской битвы неизвестно кого неизвестно с кем остальным. В ходе непостижимых перипетий я стал кому-то союзником, а кому-то остальному – врагом, оставаясь в полном неведении: кому?
Кристально ясно лишь одно – те, с кем я, волею судеб, оказался по разные стороны баррикад, не преминут выследить меня и свести счёты. Не случайно, сходя—ни свет, ни заря—в Нежине с поезда Киев-Москва, я видел как в одном из вагонов приоткрылось окно и стеклоглазый—по наружности явный член монады главного инженера—выплюнул длинную струю слюны на перрон. Это – несомненный знак для других боевиков их тёмного легиона, метка, где именно брать дальнейший след, а проследить мои последующие передвижения вплоть до Конотопа им особого труда не составит. Ну а там они неизбежно выйдут на плантацию конопли в конце огорода хаты моих родителей на Посёлке. С неисчислимыми и невообразимыми последствиями непоправимо ужасного свойства.
Мой долг перед неизвестными мне союзниками и недобитыми крестьянами жалких деревушек в мокрых джунглях юго-восточной Азии подсказывал единственно верное решение…)
В сарае на Декабристов 13 я взял штыковую лопату и направился к плантации на крайней
грядке.
Они стояли махрово-гордые своей почти трёхметровой высотой. Налитые, источающие пронзительно пряный, густой аромат.
…простите меня вам тоже хочется жить но так надо иначе произойдёт непоправимое…это не месть за моё опоздание на одесский поезд это необходимость я делаю то что должен…простите…
И они падали—одна за другой, одна рядом с другой, одна на другую—от глубоких ударов штыка отсекающих от корней, прерывающих жизнь…
Я сложил их высокой грудой, снова пошёл в сарай и вернулся с канистрой бензина. Высоко поднялось трескучее пламя, поплыл густой белый дым.
Тётя Зина объявила тревогу, мать моя поспешила на огород: —«Серёжа! Что ты… Зачем? Как это?»
Не отрывая глаз от огня, я ответил на её застрявший вопрос: