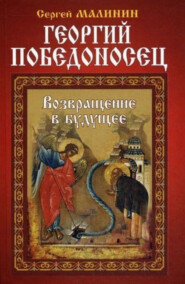По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Георгий Победоносец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хватил с земли топор, убитым разбойником обронённый, да и швырнул его прямо в лоб начальнику стражи. Вошёл топор по самый обух – десятник только рот разинул да с коня оземь и грянулся.
А Долгопятый-боярин глядит на эту резню и знай себе радуется, только что в ладоши не бьёт. «Любо! – кричит. – Ай любо! А ну, взять живым молодца!»
Накинули тут на Акима крепкую сеть, затянули, рывком его с ног свалили и саблю с кистенём из рук вывернули. Попинали маленько, как водится, потоптали ногами – куда ж без этого? Потом подняли на ноги и перед боярином поставили – слушать, стало быть, приговор.
Стоит Аким Безносый перед боярином – морда разбита, с бороды кровь на дорогу каплет, мешочек кожаный, коим он дыру на месте носа прикрывал, в драке потерялся; шапки, знамо дело, тоже нет, и сквозь спутанные космы на лбу клеймо проглядывает. Ну, словом, с первого взгляда видать, что за птица. Стоит он, стало быть, и смотрит в серое низкое небо – на боярина-то глядеть ему радости мало, раз его, толстобрюхого, ныне ни руками, ни зубами не достанешь.
– Ай да молодец, – боярин говорит. – Знатно ты меня потешил. За то, ежели на верность мне крест поцелуешь, подарю тебе живот. А не хочешь – отведаешь царской милости, какая для таких псов, как ты, припасена.
– На всё воля Божья, боярин, – Аким ему отвечает, а сам, как прежде, в небо глядит. – Милость царская мне и без того ведома. А только не бывать лесному зверю цепным псом. Казни меня, коли любо, а под твоими воротами лаять я всё одно не стану.
– Кому под воротами лаять, всегда сыщется, – говорит тогда боярин. – А и нет на свете собаки, коей пращуры вольно по лесу не бегали и волками не звались. Нешто у тебя, человека, меньше разума, чем у зверя лесного, который сильному хозяину поклонился? Ну, да неволить не стану. Не любо – казню, как конокрада. Вёдомо тебе, как конокрадов казнят?
Ну, сие и младенцу неразумному ведомо. Пригнут всем миром к земле два деревца, за руки да за ноги к ним привяжут, да верхушки-то и отпустят. Не чаял Аким Безносый для себя такой смерти; бояться-то не боялся, а и торопить кончину лютую, ежели подумать, вовсе незачем. Боярин-то дело предлагал. Оно, конечно, неволя, да только воли в лесной берлоге Аким уж досыта наелся. Спокойной да сытой жизни, какую Долгопятый ему сулил, он отродясь не видывал. Так отчего не попробовать? Оно, может, и не по вкусу придётся, однако кишки свои по всему лесу разбросать и того горше будет. Помереть всегда успеется, чаша сия никого не минует. Да и зла на боярина Аким Безносый не держал – с чего бы вдруг? Боярин как боярин, не хуже и не лучше других. Сказывают, зверь, так что с того? Кто ныне не зверь? Все звери, только один, яко корова либо овца бессмысленная, гнилую солому жуёт да ждёт, когда его резать придут, а другой сам направо и налево режет и всю жизнь досыта свежим мясом наедается. В волчьей стае, кто сильнее да злей, тот и вожак, а за хорошим вожаком и последнему зверю не худо живётся.
Словом, сговорились два душегуба. Да и как им было не сговориться, когда, сами того не ведая, имели они друг в друге великую нужду? Боярину пёс был надобен, да такой, чтоб его все волки на сто вёрст в округе до беспамятства боялись, а Акиму – хозяин, который бы его, государева преступника, от царского гнева укрыл и дозволил без оглядки далее православную кровь, яко воду, наземь лить.
Аким, как боярин повелел, крест на верность ему поцеловал. Ему, Акиму, всё едино было, что целовать – хоть крест святой, хоть телячий хвост. Целовал и думал: погодь, боярин, дай отдышаться, тогда и поглядим, любо мне в твоих псах ходить аль не любо.
Оказалось – любо. Кормят от пуза, зелена вина вдоволь, и бабу, коли придёт такая охота, немедля доставят. Работы немного, а когда есть, она только в радость – холопа ли дерзкого наказать, чтоб впредь буянить неповадно было, правду ли из татя пойманного калёным железом вытянуть, а то и прирезать кого втихую. Всяко случалось, и всё Акиму по нутру приходилось. Жаловал его боярин щедро – одёжей со своего плеча, деньгами, вольностями, каких иная дворня в долгопятовском имении отродясь не видывала, а паче всего – доверием. Ежели случалась хитрая закавыка, когда без лихого дела не обойдёшься, боярин звал Акима к себе в горницу и подолгу с ним советовался, как с равным почти что. К устам его ухо преклонял и советам безносого государева преступника частенько следовал – понимал, что в тайном воровском ремесле он, боярин, Акиму не ровня.
От такой жизни Аким Безносый зело раздобрел и так окреп, что хоть на медведя с голыми руками его выпускай. Отъелся Аким, отпарился в бане, волоса да бороду ровней подрезал и стал, ежели издалека глянуть, совсем на человека похож, а не на зверя лесного, каким раньше был. На лбу носил кожаную повязку, коя и волосам не давала в глаза лезть, и клеймо прикрывала; для носа же боярин пожаловал ему бархатный мешочек и сам не погнушался пустить среди дворни слух, будто купил себе нового палача где-то на стороне и будто носа у него нет с малолетства – собака-де ненароком откусила, когда он по младенческому неразумию в конуру к ней заполз.
За то, что побил Акимову ватагу, вышла боярину царская милость да ласка. А про самого Акима Долгопятый царю наплёл, будто сбежал разбойничий атаман в лес и там, в чащобе, без следа затерялся. Царь на эти слова похмурился, повздыхал – жалко-де, что сие крапивное семя не удалось под самый корень известь, – однако ж делать нечего, поверил. Тем более что с тех пор про Безносого Акима никто и слыхом не слыхивал – не то подался он в вольные казачьи земли, не то сгинул в болоте либо в волчьем брюхе. Так, по крайности, царь-батюшка со слов боярина Долгопятого думал, а за царём и все иные-прочие. К тому времени, вишь, Ивану Васильевичу, великому князю московскому и всея Руси государю, уже даже в мыслях перечить мало кто осмеливался.
То, что царю про него сказывал, боярин нарочно Акиму пересказал. Ничего не прибавил, да Аким и сам смекнул: неспроста это. Оставил боярин у себя в руке конец верёвки, которая у него, Акима, петлёй на шее была захлёстнута. Чуть что не по его, потянет за верёвку да скажет: гляди, государь-батюшка, какого я для тебя зверя изловил! Кабы не было у него на уме ничего такого, он бы прямо так царю и сказал: помер-де беглый каторжник безносый Аким вместе со всею своей ватагой, пулей убит, саблей засечён, бердышом зарублен…
Ну, да ничего иного Аким и не ждал. Не таков был боярин, чтоб даже самому верному из своих псов без оглядки верить. Безносый и сам-то никому не верил, а боярину служил правдой потому, что так ему самому легче было. А ещё потому, что боялся хозяина истинно как забитый дворовый пёс. Сам не мог в толк взять, в чём тут загвоздка: сроду никого и ничего не боялся, а на Долгопятого спокойно глядеть не мог – коленки подгибались, и по всему телу мурашки начинали бегать, ровно и не боярин то был, а сам сатана в бобровой шапке да с посохом. Так и тянуло на брюхо пасть и в пыли у его ног пресмыкаться, сапоги ему лизать. Однако Аким держался – знал, что льстецов да лизоблюдов вокруг боярина и без него достанет и что, ежели он, Аким, им уподобится, у Феофана Иоанновича к нему враз интерес пропадёт: на что ему, боярину Долгопятому, ещё один червь под ногами? Ему, кормильцу, помощник надобен, коего все кругом трепетали бы…
Размышляя об этом, Безносый Аким, по обыкновению, упражнялся в своём закутке на заднем дворе. Нынче он не взял с собой никакого оружия, помимо кожаной пращи и кучки гладких округлых камней. Пращником он был знатным: первый пущенный им камень погнул нагрудное зерцало на обряжённом в аломанские латы соломенном болване, второй сбил с глиняного горшка, что заменял «лыцарю» голову, побитый ржавчиной шелом, а третий, со свистом пролетев через весь двор, разнёс оный горшок вдребезги – только черепки в стороны брызнули. Одобрительно качнув косматой головой, Аким придирчиво осмотрел несколько камней, выбрал тот, что показался лучше иных, и вложил в ременную петлю. Праща начала со свистом описывать круги в воздухе, вращение её всё убыстрялось. Потом ремень хлопнул, выпуская камень на волю; снаряд пролетел через двор, звонко ударил в жердь, что заменяла чучелу ногу, и с треском её переломил. Ржавые латы с лязгом упали на землю, развалившись на куски.
Позади Акима кто-то испуганно охнул. Обернувшись, безносый палач увидел дворового мужика, который, истово крестясь, круглыми глазами смотрел на опрокинутого «лыцаря».
– Чего тебе? – буркнул Аким, не любивший, когда за ним подглядывали.
– Боярин тебя видеть желает, – кланяясь, как господину, ибо у всей дворни палач вызывал понятный страх, сообщил мужик. – В горнице ждёт. Велел поспешать.
– Без тебя знаю, – рыкнул Аким, с сожалением сворачивая пращу и засовывая её за пояс. – Ступай, я следом.
Боярин сидел в узкой светёлке, где обыкновенно уединялся, дабы без чужого глаза воздать должное зелену вину. Здесь же, когда случалась нужда, он вёл долгие беседы с глазу на глаз с Акимом. Бревенчатые стены были увешаны узорчатыми коврами, поверх которых красовалось любовно вычищенное и наточенное, хоть сей же час в бой, оружие предков – мечи, кривые сабли, шестопёры, булавы, кинжалы, круглые щиты и богато вызолоченные шеломы. Акиму нравилось глядеть на оружие: было оно не только красно, но и к делу пригодно, да не к какому попало делу, а к тому самому, которое Безносый Аким умел и любил делать лучше всего на свете.
На боярина глядеть было не в пример хуже, чем на мечи да луки со стрелами. Едва его завидев, Аким, как обычно, поборол желание распластаться на полу. Вместо этого он поклонился, стащив с головы шапку, и, оборотись к красному углу, перекрестился на иконы – боярин любил, чтоб люди при нём выказывали набожность, хотя бы и напускную. Вот Аким и крестился – жалко, что ли? Небось рука не отсохнет.
– Собирайся в дорогу, – сказал ему боярин, наливая себе вина в золочёную, с затейливым узором, сулею. – Я конюху скажу, чтоб Воронка тебе дал. На нём, на Воронке, и поедешь.
Сказав так, боярин разинул рот и выплеснул в него вино. Пока он крякал, сопел и утирал бороду, Аким быстро прикинул, что к чему. Воронок был жеребчик не быстрый, однако зело выносливый. Стало быть, путь предстоял дальний и нескорый. Куда бы это?
– Поедешь астраханского хана воевать, – будто подслушав его мысли, ответил на невысказанный вопрос палача Феофан Иоаннович. – Пристанешь к войску, кое ныне туда отправляется…
– Я-то? – не сдержавшись, перебил грозного хозяина изумлённый Аким.
– То-то, что ты, – проворчал боярин, сызнова наполняя сулею. – Ясно, что с такою рожей тебя десятником али пушкарём не поставят. Да мне сие и не надобно, войско с Божьей помощью и без тебя, пса, татарина побьёт. А ты гляди в оба. Попадёшься – стрельцы с тобой потешатся. На кол посадят да и оставят воронью на поживу. Посему иди за войском скрытно, личиной ли какой прикройся… Ну, не мне тебя учить. Сосед мой, Зимин, тож там будет. Вот его ты мне и добудь. Да так добудь, чтоб не на тебя, а на татар подумали. Чтоб в бою и у всех на глазах.
Аким поклонился с искренним почтением. Здесь, в этой увешанной оружием горнице, они с боярином не раз обсуждали, как бы им заставить чрезмерно горделивого да заносчивого дворянчика склонить непокорную голову перед родовитым соседом. Аким, лесная душа, предлагал меры простые, скорые и кровавые, боярин же его удерживал, говоря, что царь, коему хорошо ведомо об их с Зиминым подспудной распре и взаимной неприязни, может заподозрить его, Феофана Иоанновича, в злом умышлении. А ежели заподозрит, имение Зимина как пить дать ему не отпишет, а заберёт в казну. На что тогда руки марать? «Случая надобно ждать, – говорил боярин. – Случай, он завсегда подвернётся, ежели рот не разевать и терпение иметь».
Аким, понятно, с хозяином не спорил, но про себя думал, что осторожничает боярин сверх меры. Надобно тебе соседу шею свернуть – пойди да сверни, чего тут мудрить? А о том, что после будет, не задумывайся: Бог не выдаст, свинья не съест.
А теперь выходило, что боярин-то опять прав оказался: терпение его великое наконец себя оказало. На то и война, чтоб люди гибли. Свистнет ли из кустов меткая стрела, вонзится ли в разгар боя под ребро обоюдоострый кинжал, конец один – смерть. А виноват кто? Поди-ка, не боярин Долгопятый! Татарин виноват, больше некому… Ловко!
– А и мудр же ты, боярин, – молвил Аким, мигом всё сообразив.
– На то и думный боярин, чтоб головою думать, а не гузном, как иные, – проворчал Феофан Иоаннович, поднося к бороде наполненную до краёв сулею. – Ну, ступай с Богом. Да шалить не вздумай; ежели что, сам знаешь – из-под земли достану и обратно в неё, матушку, по самые ноздри вобью.
Безносый палач молча поклонился боярину и, тяжко скрипя половицами, вышел из горницы.
Глава 5
Денёк выдался ясный, погожий, почти по-летнему тёплый. Солнце с самого утра принялось за работу: выкрасило яркими пёстрыми красками небо и землю, зажгло на реке золотые искры, высушило росу, прогнало из ложбинок предутренний зябкий туман, обогрело и приласкало каждое деревце, каждую травинку, всякую Божью тварь. Эх, любо! Жаль только, что мужику в эту пору недосуг красотами земными любоваться. Да и где она, та пора, когда б ему, лапотнику, достало времени колом стоять и, разинув рот, глазеть на то, как речка рябит, либо как ветерок листвой играет? С ранней весны до поздней осени в поле спину гни, да и зимой работы хватает: то в лес по дрова, то в извоз, то в отхожий промысел, на Москве палаты каменные возводить, а то ещё чего на нечёсаную макушку свалится – за работой, слава тебе господи, мужику гоняться не приходится, она сама его где угодно сыщет.
А всё одно любо. И ещё краше, когда работа, которой занят, тебе по нутру. Хорошо тому, кого Господь в неизъяснимой милости своей наградил при рождении каким-никаким талантом, вложил в голову разумение, а в руки – ремесло. Талант, он всё едино себя окажет, будь ты хоть трижды мужик. Талант – благословение Господне, а оно как подземный ручей: сколь его взаперти ни держи, рано или поздно на волю пробьётся.
Так оно и со Стёпкой Лаптевым вышло. Богомазом, как дружок его, дворянский сын Никита Андреев сын Зимин, прочил, он, понятно, не стал – жизнь не пустила. Тогда, после той полузабытой драки на речном берегу, когда Стёпка боярскому сынку светлый его краснощёкий лик попортил, Никиткин отец, Андрей Савельевич, храни его Господь за его доброту, вывез всё Стёпкино семейство в дальнюю свою деревню, подальше от злого боярского глаза. Деревенька была, как говорится, кот наплакал, воробей нагадил – двадцать дворов всего, и меж них ни одного зажиточного. Кругом лес, а в лесу известно, какая земля – песочек, вот тебе и все пахотные угодья. Был когда-то починок – пришли мужички, лес повырубили, пни да коренья повыжгли, стали сеяться. Да только с тех пор уж много воды утекло – изрожалась землица, оскудела. Паши её или не паши – всё едино; счастье, ежели по осени удастся то вернуть, что весной в борозду бросили. Посему мужички в Лесной, как деревня-то прозывалась, издревле жили извозом, отхожими промыслами да рубкой леса, коего в округе, слава богу, хватало, и даже с избытком.
Вот и Стёпкин отец в лесорубы подался – жить-то надо. Да, видать, не пошла лаптевскому семейству впрок барская доброта: трёх годков не минуло, как зашибло его в лесу деревом. Насмерть зашибло; мужики, что с ним в лесу были, сказывали, что не мучился – сразу, с одного удара, Богу душу отдал. Видать, Стёпка, когда боярского сына кулаком в глаз бил, сильно Господа прогневал, вот и вышло ему, стало быть, через отцову смерть наказание.
Никто ему того не говорил, однако вину свою в отцовой погибели Стёпка нутром чуял. Ну, да как там ни будь, а остался он в свои неполные четырнадцать годков в семье единственным мужиком, кормильцем да защитником. И то слава богу, что всей семьи-то – мать да он сам. Однако двоим тож кормиться надобно, а мать после того, как отец-то погиб, с горя занедужила – ослабела ногами, едва-едва у печки с горшками управлялась. Ну, какой тут может быть монастырь, какая такая иконопись? Пришлось остаться; да он, Стёпка, с малолетства знал, что придётся, а потому и не горевал. Мужику себя пустыми мечтаньями тешить не полагается; мечтай ты хоть всю жизнь царём сделаться либо, для примера, взять себе в жёны Василису Премудрую, всё едино как был ты смердом в драных портах, так смердом и помрёшь, и не будет тебе ни царства, ни Василисы.
Парнем он рос крепким, в четырнадцать лет глядел на все семнадцать, а посему, когда попросился подручным в плотницкую артель, мужики недолго думали, тем паче что им как раз шустрый помощник был надобен. Стал Степан приучаться к ремеслу, и вот тут-то божий дар себя и оказал. Присели как-то мужики для роздыха. Стёпка тоже присел, только чуть поодаль, как младшему полагается. Сидит и топориком обрезок доски ковыряет, режет что-то. Старшой глядел-глядел, а после не вытерпел, подошёл. Хотел мальцу попенять: что ж ты, дескать, оголец, матерьял попусту переводишь? А глянул – и враз пенять раздумал: выходит из-под Стёпкиного топора петух, коим конёк крыши венчают, да так лепо выходит, так красно, что старшой залюбовался. А ну, говорит, кажи, чего у тебя тут. Стёпка застыдился, петуха руками закрыл. Это, говорит, так, для потехи. «А ежели не для потехи?» – старшой спрашивает. «Можно и не для потехи, – Стёпка ему говорит. – Тогда, я чай, много краше получится».
Вот с того дня и началось. Стал Степан резать всякую всячину – коньки для крыш, наличники кружевные, перила да столбики для крылечек. Мало-помалу слава о нём далеко разошлась, а артельному люду то на руку: зовут наперебой, за рукава хватают, мало что не дерутся, споря, чьи хоромы Стёпкина артель вперёд рубить-то будет. Много домов поставили – и на Москве, и вокруг неё, Первопрестольной. Строили и для купцов, и для дворян, и для государевой надобности. Оброк платили справно, тем паче что барин, Андрей Савельевич, его с должным разумением положил, не жадничая. И он был доволен, и артельщики на жизнь не жаловались. А чего жаловаться, когда работа добрая? И людям радость, и самому приятственно, и дух от дерева идёт здоровый, смолистый…
Степан сидел, оседлав крутую крышу дома, который они с мужиками срубили для приходского священника, отца Дмитрия, и, ловко орудуя обухом топора, приколачивал к коньку украшение – резную конскую голову. Батюшка прохаживался внизу по усеянному щепой двору промеж снующими плотниками и бабами, которые помогали прибраться после окончания работы, и снизу вверх поглядывал на Степана – поглядывал, кажется, одобрительно, с довольством в очах. Степан и сам был доволен работой: дом получился справный и зело изукрашенный, а конская голова вышла всего иного убранства краше – жалко даже, что высоко приколочена, снизу всей лепоты как след не разглядишь. Когда её резал, вспомнилась почему-то история, пересказанная в малолетстве Никитой, про чудотворную икону Георгия Победоносца. Там, на иконе, тоже был конь, и Степан, работая, отчего-то видел перед собой тот образ будто наяву. Так что конь получился как живой, разве что немного сердитый. Да и как иначе-то? Боевой ведь конь, змия копытами попирает, то вам не шутка! И отцу Дмитрию понравилось: сказал, что сердитый конь над его домом будет грешникам напоминать о неотвратимости Божьей кары. После, правда, застыдился и Степана обругал, но без сердца, а как бы шуткой: мол, что ж ты, нехристь, из меня, смиренного слуги Божьего, язычника какого-то делаешь? Экую диковину соорудил, так и тянет, на неё глядя, перекреститься…
Окончив работу, он помедлил спускаться с крыши. Хорошо было сидеть тут, на самом верху, откуда видна вся деревня, поля и сизый частокол хвойного леса, кое-где испятнанный червонным осенним золотом, и греться на последнем в этом году солнышке. На пригорке, вознеся к чуть забрызганному перистыми облаками синему-синему небу островерхую шатровую кровлю, высилась недавно построенная деревянная церковь – тож их артели работа. Степан и рубить её помогал, и резьбу на ней резал, и алтарь с иконостасом, которые внутри, его руками были сработаны.
То и дело налетавший с реки ветерок трепал его схваченные тонким кожаным ремешком волосы, путался в курчавой, молодой, но уже загустевшей русой бородке. Ветерок был прохладный и пах осенью, а от тёсовой крыши тянуло ровным сухим теплом, как от лежанки русской печки. Люди сверху казались маленькими и странно укороченными; там, среди них, сгребая в траве щепки – и белые, совсем свежие, и потемневшие от дождей старые, – суетилась, то и дело поглядывая наверх, Ольга, к которой Степан неделю назад заслал сватов. Отказа, понятно, не случилось: Ольга давно заглядывалась на статного и гожего собою резчика.
Да и женихом он считался завидным – и собой хорош, и силён, и в кружало не ходок, и ремесло в руках, и с молодым барином дружен – тоже, между прочим, не самое последнее дело. Как же откажешь, ежели сам Никита Андреич невесту сватает? Свадьбу, как заведено, решили играть по осени, когда кончатся полевые работы, и Степан с Ольгой старательно считали дни: вот один прошёл, вот ещё, а вот и неделя улиткой проползла… Кабы не работа, верно, совсем невтерпёж стало бы ждать; Степан, бывало, всё голову ломал: и как это баре живут, коим занять себя нечем?
И только это он о барах подумал, как заклубилась вдалеке над дорогой белая пыль и вылетел из-за придорожных кустов верховой. Степан, который выше всех сидел и дальше всех глядел, его первый увидел. А когда всадник подъехал ближе, русая борода молодого плотника шевельнулась, и блеснула под усами неумелая улыбка: верховой, что скакал со стороны барской усадьбы, как раз и был молодой барин, Никита Андреевич.
Степан призадумался: с чего бы вдруг? Нешто соскучился? Так ведь вроде недавно виделись. Чай, не дети уже, чтоб каждый божий день от зари до зари рука об руку бегать, в реке плескаться да в пыли, яко куры, копошиться. Разве что захотелось молодому Зимину на батюшкин дом поглядеть, доброй работой полюбоваться…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: