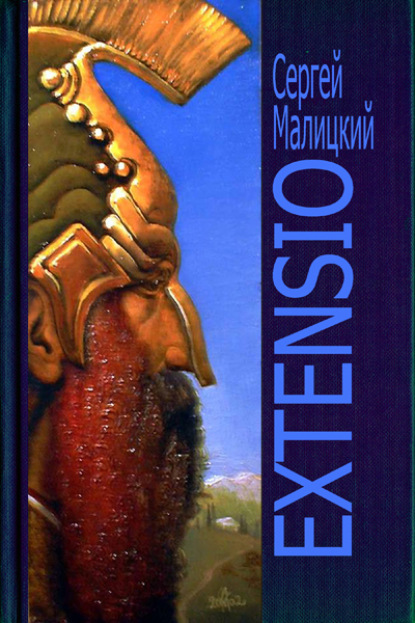По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Extensio
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Садись, – показал на стул мальчишке Ганс, а когда тот уселся, сдернул с ребенка рубаху, оставив того голым. Первое, что разглядел Джим, было не слабое, почти рахитичное тело, а неестественно большой живот, который лежал на коленях мальчишки. Но задергался Джим не от отвращения к этому животу, и не от землистого цвета безвольного тела, а от того, что увидел выше. Из плеч мальчишки торчала вторая пара крохотных ручек.
– Сиди, – жестко надавил на плечо Джима Ганс. – Неужто урода видел вблизи? Так вот, Гавриил сродни им, но не урод. Хочешь очиститься – сиди. Не хочешь, дай знак. Отвяжу и дверь открою. Ясно?
– Ясно, – выдохнул Джим.
– Давай, мой хороший, – ласково обратился к ребенку Ганс. – Не медли.
И мальчик запел.
?
Мальчик запел. Он запел негромко, и в песне его не было никаких слов. Возможно, их просто было невозможно подобрать для этой песни из-за непостоянства ее ритма, поэтому мальчик тянул всего лишь один звук, что-то среднее между «О» и «А», но то изменение высоты и тона, которое он применял, однозначно делало это звукоизвлечение песней и уж во всяком случае одаривало мелодией, которая менялась каждую секунду, не повторялась ни единым тактом, но оставалась чем-то цельным и беспощадным. Она покоряла, уничтожала, приподнимала, чтобы сбросить с огромной высоты, и сбрасывала, и подхватывала у самой земли, и уж точно одаривала какой-то легкостью. Джим даже потряс головой, настолько завораживающим был голос ребенка, хотя тот уже не смотрел в лицо Джиму, а просто пел с закрытыми глазами, и только тут заметил, что безобразный живот мальчишки почти исчез, а там, где на плечах ребенка были рудименты крохотных рук, – появились крылья. Сначала это были маленькие крылышки, но они становились больше с каждой секундой, пока не поднялись двумя белоснежными силуэтами за спиной мальчишки, скрывая держащего его за плечи Ганса. Потом эти крылья распростерлись в стороны и соединились над головой Джима, погружая его в тень. Вслед за этим Джим почувствовал, как кто-то выдергивает у него из уха глушилку, услышал хруст раздавленного прибора и даже успел почувствовать блаженство избавления от размалывающего его зуда, как вдруг понял, что распадается на тысячу частей, которые сталкиваются с друг другом, вращаясь в мглистом смерче на том самом месте, где он только что сидел, прикрученный ремнями к стулу. И эта тысяча частей услышала тысячью пар ушей тихие, но пронзительные слова Ганса:
– Время пошло, приятель, на таймере выставлено пять минут, начинаем стандартную процедуру. Постарайся не отвлекаться на неприятные ощущения. Погрузись в воспоминания, которые будут проявлять себя. Поэтому закрой глаза. Ты в любом случае увидишь больше, чем сможем увидеть мы.
Боль пришла сразу после этих слов. В каждую из этих тысяч или десятков тысяч частей. Пришла и захватила их все. Слилась в одно целое. Спаяла их намертво. Умножилась. Обожгла пламенем и холодом одновременно. Рассекла Джима стальной сеткой. Впилась в его ступни и поползла вверх, раздирая и выворачивая его наизнанку. И сквозь эту багровую стену, которая стала заливать его существо под веками, донесся раздраженный голос Ганса:
– Твою же мать, это же не стандартная контролька! Кто же так тебя спеленал, парень? Да кто ты такой, черт тебя раздери…
?
Джим стоял на Девичьем мосту. Прямо перед ним висела на поручнях моста, болтая крохотными ножками, малышка, чем-то напоминающая Эмили Уайт. В руках у Джима было что-то вроде глевии или простого копья. Что-то вроде того, что должно было вселять в него уверенность. И эта уверенность жила в нем. Но ее было недостаточно, чтобы перейти мост. Эта была уверенность в том, что он не сможет его перейти.
– Ну, – раздался звонкий голосок девочки. – И что ты решил?
– Я еще думаю, – ответил Джим. – Может быть, ты все же посторонишься? И я пройду мимо тебя?
– Бесполезно, – скорчила гримасу девочка. – Пройти мимо нельзя. Это же квест, игра. Даже если бы я и захотела, чтобы ты прошел. Один дядя даже пытался миновать меня, перебирая руками доски под мостом. Он свалился в пропасть. Там внизу такая же прозрачная стена, что и здесь. Ее можно пробить только оружием. Но тогда ты убьешь меня. Эта стена я и есть.
– Тебя часто убивают? – спросил Джим.
– Часто, – грустно кивнула девочка.
– И что ты при этом чувствуешь? – спросил Джим.
– Мне очень больно, – призналась девочка. – Но недолго. Почти сразу наступает облегчение. Но я помню эту боль, и это самое страшное. Что ты собираешься делать? О чем ты думаешь?
– Я не могу тебя убить, – признался Джим.
– Каждый десятый не может, – вздохнула девочка.
– Но девять могут, – уточнил Джим.
– Девять могут, – согласилась девочка. – А каждый десятый – нет.
– И что они делают? – спросил Джим. – Что делают эти десятые?
– Обычно уходят, – пожала плечами девочка. – Некоторые остаются и защищают меня.
– Кажется, мне подходит второе, – решил Джим.
– Но тебя-то точно убьют, – удивилась девочка. – Рано или поздно.
– Ничего страшного, – сказал Джим. – Я игрок. Перезагружусь. И в следующий раз сразу пойду через другой мост.
– А меня убьют, – прошептала девочка. – Если ты этого не увидишь, тебе будет легче? Или ты снова придешь за мной?
?
– Мама, мне очень больно.
– Потерпи немного, Джим. Скоро тебе будет легче. Не заставляй меня плакать. Потерпи.
– Я терплю.
– Я вижу.
?
Ослепительное испепеляющее солнце. Раскаленные обжигающие латы. Белый, залитый кровью песок. Легкий горячий ветер, развевающий ленты, прихваченные к копьям. И серые циклопические стены, за которыми укрылись не только те враги, с которыми Джим должен будет скрестить оружие, но и те, что стоят на стенах, не прячась от стрел, и смотрят на него как на насекомое. Которые могут стереть его в пыль щелчком пальцев. Которые не убивают его вроде бы потому, что где-то за его спиной есть кое-кто сравнимый могуществом с ними, но по сути лишь из-за того, что и те, и другие хотят позабавиться. Все хотят позабавиться. И его защитники, и его недруги. И он позабавит их так же, как сейчас они забавляют его, пусть даже никто из тех, кто стоит рядом, их не видит. Вот они стоят на крепостных зубцах, неподвластные даже выпущенным из катапульт камням, исполненные всевластия и самодовольства, и ждут, когда он или убьет кого-то, или сам будет убит. Силой собственной крови Джим может разглядеть каждого. Опоясанную магией искушения, рожденную из пены и как никто умеющую ненавидеть красавицу. Ее возлюбленного, для которого ненависть, а так же коварство и злоба подобны желанному напитку, вкус которого неотличим от вкуса смерти. Златокудрого, сребролукого и светоносного красавца, исполненного всесилия, надменности и всепоглощающей ревности ко всякому, кто дерзнет приблизиться к тайнам искусства. Его прекрасную сестрицу-охотницу, слывущую идеалом стройности и источником целомудрия и счастья. Ее мать, претерпевшую столько, что она даже на поле битвы никак не может оторваться от своих детей. Их приятеля, трясущегося над чистотой доверенных ему рек. И еще кого-то из слуг и прихлебателей, чьи силуэты подобны струям падающего у горизонта дождя…
?
– Черт тебя раздери, приятель! Двадцать минут! Двадцать минут пришлось потратить на твою прошивку! Я уж думал, что не справимся. Кто это тебя так? Да какая разница? Убираемся отсюда! У нас остались считанные минуты. Секунды!
Ганс был в ярости. Напротив Джима сидел на стуле уже не восьмилетний истерзанный мальчик, а сытый и отвратительный подросток лет двенадцати. И живот его за последние двадцать минут явно удвоился.
– Гавриил! – рявкнул Ганс, бросая ему рубашку. – Надевай немедленно! Надеюсь, она не треснет на твоем животе.
– Что со мной? – спросил Джим, сплевывая кровь. По ощущениям, его долго и упорно били ногами.
– Откуда я знаю, – прорычал Ганс, сбрасывая монеты с подноса в ладонь. – Кто-то тебя очень любит. Точно так же, как любят яд, который подкладывают в еду или питье недругу. Или другу. Все зависит от обстоятельств. Кстати, я понятия не имею, как ты все это выдержал. Любой другой сдох бы уже на десятой минуте. Я уж думал, труп буду вытаскивать из под пацана.
– Вы вытащили это из меня? – спросил Джим, пытаясь преодолеть пронизывающую его слабость и с отвращением смотря на то, как Гавриил со сладкой улыбкой медленно натягивает на живот рубаху.
– Мы обожрались твоей начинкой, – фыркнул Ганс и бросился помогать Гавриилу. – Выпили все без остатка. Мальчик полакомился бы и еще, когда он обжирается, то забывает об умеренности, но все остальное твое нутро слишком плотно упаковано. Там есть еще какая-то программа, но она не для слежки. Она для исполнения. Похоже, в ней твой смысл. А уж что под ней спрятано, не ко мне вопрос. Возможно, она просто будит твои воспоминания. Только ты сам можешь в этом разобраться. Те, кто бросил в тебя эту сложнейшую программу слежения, и то не смогли ее снять, хотя что-то они и стерли. Следы от попыток взлома имеются в достатке. В любом случае, твоя программа сделана умельцем высшего класса. Она ж ведь еще и твоей прокачке препятствует. Зачем? Вот это ты можешь объяснить? Ты же, вроде, недавно убил бойца девятого уровня? И где результат? Где твои бонусы? Нет их! Вот этого я точно понять не могу.
– Что значит, «для исполнения», – спросил Джим, пытаясь освободиться от пут. – Я что, обращусь в раба?
– Вот уж чего не знаю, того не знаю, – бросился во вторую комнату и подхватил там какую-то сумку Ганс. – От тебя зависит. Но какую-то информацию ты получишь без сомнения. Конечно, если она запустится. В ней твоя тайна. В ней!
– Как ее запустить? – спросил Джим, пытаясь встать вместе со стулом. – Да освободите же меня!
– Не знаю я, как ее запустить! – почти заорал Ганс, пытаясь расшевелить Гавриила. – Ключ может быть каким угодно! Словом, надписью, запахом, образом, вкусом, местом! Не знаю! Может, ты чихнуть должен, не знаю! Да черт же меня раздери! Они уже здесь!
Джим услышал за спиной какой-то треск, и уже разворачиваясь вместе со стулом, прежде чем увидел начинающее проявляться на стене комнаты зеркальное пятно, успел заметить, что Ганс дернул за шиворот скорчившего плаксивую физиономию и причитающего – «Ненавижу тебя, Грубер. Ненавижу!» – Гавриила, подхватил суковатую палку, ударил ею в другую стену и скрылся вместе с хныкающим подростком почти в таком же мерцающем пятне, которое тут же исчезло.
– Будь я проклят! – зарычал Джим, прыгнул спиной на стол, нащупал среди обломков стула эфес меча и нажал на его сенсор, надеясь, что не отрежет себе что-то жизненно важное.