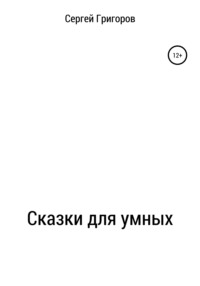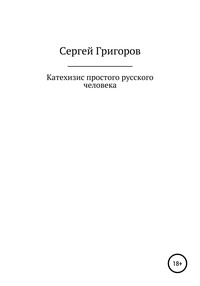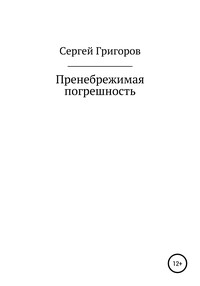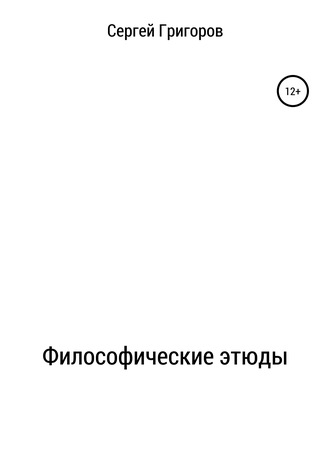
Философические этюды
Заспорив о чем-либо, двое закадычных друзей начинают выяснять, кто прав. Когда обычные аргументы заканчиваются, один говорит:
– Я прав потому, что сильнее тебя!
– Нет, это я прав! Я в два раза тебя сильнее!
– А я в сто раз! В тысячу!
– А я в… в миллион! В миллиард раз!
Оставим в стороне то обстоятельство, что в подобном споре, как и в большинстве научных дискуссий, побеждает тот, у кого больше сил и эмоций. Поговорим о произнесенных числах. О том, насколько точны мы в восприятии стоящих за ними величин.
Миллион, миллиард – что это такое? Как можно представить себе то, что за ними стоит?
Количество русских на планете – где-то полторы сотни миллионов. Всего на Земле в наше время проживает около шести миллиардов людей. Можно провести несложные оценки. Если средний прожиточный возраст, скажем, 60 лет, то ежегодно умирает около одной шестидесятой общего количества жителей, то есть сто миллионов человек. Примерно столько же и рождается. Если в год сто миллионов, значит, каждый месяц рождается восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три человека и еще одна треть. А в каждые сутки – двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два и шесть десятых… в каждую минуту – сто девяносто человек, в секунду – три с небольшим «хвостиком». Ежесекундно по крайней мере шесть человек (родители появившегося на свет ребенка) испытывают радость. Да, но кто-то в ту же секунду в горе…
Не будем касаться столь тонких понятий, как горе или радость. Вспомним, какой малой кажется Земля на географической карте. А на изображении Солнечной системы – и того меньше… Значит, миллиард – это мало? Почти то же, что и «десять», «двадцать»… ну, разве что немного больше.
Не все, однако, так просто.
Попробуйте «честно» досчитать до миллиона. Если каждую секунду вы будете произносить одно число… Быстрее нельзя? Наверное, можно только медленнее. Скажем, «один», «два» и так далее вы скажете быстро, но потом вынужденно замедлитесь, произнося, например, «восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь» – за секунду человек даже с хорошо подвешенным языком не выговорит столько слов. Так вот, называя одно число в секунду, вы будете считать до миллиона… одиннадцать с половиной суток. Полторы недели без перерыва на сон и выходные!
Счет до миллиарда гораздо утомительнее. Если на каждое число у вас будет уходить две секунды (восемьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь, поверьте, ни за что не произнести и за три секунды), то на все про все у вас уйдет более шестидесяти трех лет. А еще вам надо будет выкраивать время, чтобы когда-нибудь поесть, поспать, да и… оправление других естественных надобностей будет отвлекать. Короче, вы можете посвятить всю свою жизнь счету до миллиарда, но так и не достигнете поставленной цели. Можно только надеяться, что внуки, а то и правнуки победно завершат начатое вами.
Значит, один миллиард – это очень много?
Когда-то – много, когда-то – не очень. В любом случае не стоит без нужды бросаться большими числами. Ко всему следует относиться с должным почтением.
В Африке вроде бы говорят: не дергай за хвост спящего льва. Аналогичная русская пословица более абстрактна: не буди лихо, пока оно тихо.
Какими будем
Прочитанное должно было раскрыть вам глаза на реальные потенции человека. Автор этих строк, естественно, тоже не может прыгнуть выше головы. Я не знаю, как дальше пойдет наша эволюция и каким будет сверхчеловек. Могу только предполагать.
Сразу отметим, что говоря о следующей стадии человека, надо иметь в виду не какого-то Бэтмена, Василису Прекрасную и иже с ними. Повышение силы, ловкости, сообразительности и прочее есть лишь линейное улучшение, а речь должна идти о качественном скачке. Между нами и прочей живностью на Земле – пропасть, и примерно такой же отрыв должен быть между человеком и сверхчеловеком.
Общественный прогресс вроде бы всегда требовал развития народовластия и гуманизма, воспитания у каждого индивидуума чувства гражданственности. Окончательная победа доставалась тому, кто человечнее относился и к друзьям, и к врагам. Хочется поэтому верить, что столбовой путь нашей цивилизации – от варварства и жестокосердия к братству и всеобщей любви.
Тотальная компьютеризация и мировая электронная паутина, кстати, уже создали материальную базу подлинного народовластия, которую во времена первых утопистов никто, наверное, и представить-то себе не мог. Осталось любви где-то добыть, да…
Немного о терминах. Здесь употребляется слово «народовластие», а не «демократия» не просто так, не по недосмотру или из вычурности. Та демократия, которая сейчас буйствует на планете, не выдерживает элементарный критики (см., например, мою книгу «Русская доля»). Однако и «правильная», абстрактная демократия имеет существенные изъяны. Хотя бы в том, что во всех случаях она подразумевает верховенство закона перед волей одного человека, а тут прячется пренеприятнейший подводный камень. Здравый смысл говорит, что недостаточно написать мудрые законы. Недостаточно – а, может, невозможно – добиться правильной структуризации функциональных обязанностей должностных лиц с предоставлением каждому необходимой свободы в пределах его полномочий. Жизнь сложнее мертвой буквы, и всего, что может случиться, не предусмотришь. Требуется животворное творческое начало. А для этого нужен индивидуализм, единоначалие. Второй изъян в том, что демократия имеет склонность превращаться в охлократию, когда, разжигая низменные инстинкты толпы, к власти приходят недостойные люди. Третий же изъян в том, что далеко не каждое решение, принятое большинством, правильное и верное. Сын Человеческий был распят почти по единодушному требованию народа, то есть в результате самой что ни на есть демократической процедуры.
Ладно, поправят как-нибудь представления о правильной организации власти. Это мелочь, главное – что в перспективе.
Мы видим, как набирают силы процессы глобализации и всеобщей интеграции, как государство все настойчивее вторгается в сферы, ранее считавшиеся вотчиной личности. Как все лучше организуется помощь больным и обездоленным, как… Не ясно, однако, почему до сих пор приходится платить практически за любую еду, жилище и одежду – иметь все это вроде бы неотъемлемое право человека, все равно что дышать. Не ясно, почему так медленно сокращаются военные арсеналы, почему бушует терроризм и разделение по этническим признакам. Ну, наверное, и это все когда-нибудь подправят.
Может, согласиться с Тейяр де Шарденом, утверждающим, что мы летим на всех парах к глобальному объединению разума, к точке Омега? Этот иезуит был дьявольски умным и проницательным. В чем-то он, несомненно, близок к истине. Но правда его человеческая, а потому половинчатая. В результате простого суммирования сверхчеловек не появится. Жизненный опыт подсказывает, что люди всегда обобществляли только то, чего им не жалко.
Размышляя в рамках все той же цепочки неживое-живое-субъект-разумное существо, можно догадаться, какую рефлексию следует осуществить, от чего должен отделиться внутри себя человек, чтобы перейти в качественно новое состояние. Ответ неожиданный, шокирующий: от мышления.
Как же так? Да ведь в этом главное отличие человека от животных! Как же Декартовское «мыслю – значит существую»?
Не надо эмоций: я знаю, что говорю, и готов отвечать за свои слова.
Психология – тонкая штучка, ее конструкциям не место в теле художественного произведения. Поэтому ограничимся самыми минимальными пояснениями. Чтобы стопроцентно убедиться в обоснованности прозвучавшего утверждения, вам придется внимательно изучить множество специальных изданий. Приобрести личный опыт медитации, необходимый для улавливания слабых реакций своего организма. Может быть, серьезно заняться йогой. Будет полезно проштудировать труды гурджиевской школы, объединившей несколько философско-психологических систем Востока и взрастившей самую знаменитую в истории человечества плеяду мистиков.
А суть вопроса проста, как гвоздь: мы обладаем мышлением, но не управляем им, как было сказано выше. Люди умственного труда прекрасно чувствуют эту особенность.
Погружаясь в пухлые научные и антинаучные фолианты, обратите внимание на то, сколько путаницы в описаниях внутреннего мира человека, как слаба терминология. Мышление часто низводят до вульгарных вычислений, логических умозаключений или классификации. «Воля» объявляется либо вообще не определяемым свойством человека, либо подменяется настойчивостью, упрямством в преодолении стоящих препятствий. Фактически все механизмы психики до сих пор остаются тайной за семью печатями. Следуя Петру Успенскому, популяризатору гурджиевских откровений, нельзя не признать, что люди даже осознают себя довольно редко. Мы как бы дремлем бодрствуя. Наше самосознание просыпается на считанные мгновения – именно эти секунды жизни запечатлеваются в памяти – и вновь наши мысли текут сами по себе, без всякой связи с действительностью.
Так вот, библейское «разделившись, человек погибнет» следует понимать не как предостережение, намек на подстерегающую нас опасность, а как указание пути к дальнейшему совершенствованию. Отделив самосознание и волю от мышления в результате следующего рефлексивного шага, человек получит возможность управлять своим интеллектом. Из божьего дара способность мыслить превратится в рабочую силу, как ныне руки, и человек станет сверхчеловеком. Сможет оперировать не отдельными утверждениями и модусом поненсом, а формами мышления целиком. Тогда-то и можно будет соединять разум хоть всей планеты в одно целое, как ныне мы объединяем физический труд на фабриках и заводах. Возможно, в новом, интеллектическом обществе возникнут мыслегонные конвейеры, у которых сверхлюди, вооруженные всей мыслимой и немыслимой пока оргтехникой, будут клепать сказочно сложные абстрактные конструкции. И придет новый Учитель, призванный не разделять, а объединять…
Тогда, быть может, церковь преодолеет детские болезни роста, и, подобно, науке, каждое крушение прежних догм превратит в очередную победу, в удачный повод для углубления своего учения. Впрочем, поскольку Письменами Бога могут считаться только вечные законы Мироздания, с нашей, современной точки зрения особой разницы между религией и наукой не станет.
Вероятно, многие люди на короткое время уже превращались в сверхчеловеков. Тот же Гаутама, например, непонятно за что называемый своими современниками Просветленным. Дело, видимо, за малым – собрать подобных индивидуумов в одно время и в одном месте, чтобы они приступили к развитию своей цивилизации.
Да, но как тогда понимать утверждение, что человек создан по образу и подобию Бога? Признать его неправильным? Я предлагаю не торопиться. Возможно, мы и образ, и подобие. Но не конечной, а одной из промежуточных стадий Творца. Перед тем, как расцвести, бабочка живет вначале гусеницей, затем куколкой. Может, человек всего лишь одна из необходимых начальных стадий Разумного, нечто вроде глупого хищного червяка, и впереди еще не одно перерождение? И не являются ли все наши представления о Боге заблуждением, профанацией, лишь оскорбляющей Его величие?
Вы спросите: а дальше что, каким будет сверх-сверхчеловек? Я, пожалуй, уподоблюсь известному товарищу, обещавшему выпить море, если перекроют питающие его реки. Я скажу, что будет представлять из себя сверх-сверхчеловек, если вначале вы растолкуете кошке, какова разница между человеком и простым сверхчеловеком.
Вот явится барин – барин нас рассудит.
Ну и что?
– спросите вы, прочитав эти строчки. А ничего.
Пришел момент завершения этого этюда несмотря на то, что нетронутым осталось множество вопросов. Как-нибудь потом доберемся и до них, а сейчас, в заключение, я хочу поднять всего одну тему, мимо которой просто не могу пройти.
Полегоньку-потихоньку жизнь все же изменяется несмотря на издевки скептиков. Придумываются новые слова, философы дают им различную интерпретацию, новое понимание. Все больше убеждаешься в том, что природа дивно упорядочена, и у всего сущего есть смысл. Но глаза начинает мозолить несуразность того, что каждая прописная истина, каждое техническое решение, каждый этический императив открываются бесчисленное множество раз. Мир представляется гигантской кофемолкой, в которой миллиарды лет перемалывается один и тот же материал. Бесконечный круговорот информации в природе. В материнской утробе человек проходит путь, который преодолел его биологический вид: от одноклеточного организма через насекомое, рыбу, амфибию, звероподобное хвостатое существо – к тому созданию, которое и называется гомо сапиенсом. Но это еще не все. Каждый человеческий детеныш начинает учиться. Усваивать давно известные истины. И жует их, жует, жует. А потом этот же процесс осуществляют его дети, внуки и так далее. Зачем? Бессмысленность какая-то.
Объяснение может быть следующим. Вы задумывались, как «существует» закон всемирного тяготения? Ну конечно же не в виде формулы, написанной на листке. Он проявляется везде и всюду, подчиняя материальные предметы своим требованиям. А также отражается в психике человека, задумавшегося о нем или пытающегося его понять. Но все, называемое «духовным», имеет свой материальный носитель. Человеческий мозг по сути представляет собой электрическую машину, и любая возникшая в нем мысль есть некая последовательность электромагнитных импульсов. Что же происходит, когда мы пытаемся понять закон тяготения или другую закономерность? Психическое отражение ее материализуется! Иными словами, понимание есть способ проявления, материализации, актуализации наших знаний об устройстве мира. Информация, оказывается, перемалывается не просто так – это способ ее существования.
Человек с самых первых мгновений появления в мире размышляет о Боге… Не являются ли наши мысли о Нем – даже атеистические! – прямым доказательством Его существования? Если это не так, то почему говорят, что Бог поругаем не бывает?
Этюд второй. Ковчег иллюзий
Размышления о нашей цивилизации проявляют печальную картину: будто плывем мы в горячечном бреду по безбрежному океану на утлом суденышке не зная куда и зачем.
Ковчежек наш давно перегружен, но с каждым часом обитателей его становится все больше и больше. Близки к исчерпанию заготовленные природой припасы, не хватает даже чистой воды. Нам бы заняться организацией быта, но вместо этого мы отчаянно спорим, кто из нас самый-самый – самый умный, самый сильный, ловкий или хитрый.
Куда плывем? Кормчии наши ищут жизненные ориентиры. В поисках точки опоры создают то очередную философско-религиозную систему, то новую научную теорию. Пытаются нащупать океанское дно, понять, что это такое – бушующий вокруг океан. Но чем глубже опускаются они в грозные воды, тем темнее, непонятнее и непривычнее.
Голым и беззащитным каждый из нас приходит в этот мир. Таким и уходит. Бренно все материальное под неумолимой ступой времени. Вот почему надежную опору самые прозорливые ищут в духовной сфере. Они полагают, что это истина. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», – сказано в Евангелии от Иоанна (уточним: в главе 8 стихе 32. Поскольку цитировать Канон следует с почтением, условимся пользоваться общепринятыми обозначениями. В данном случае, например, точная отсылка такова: Ин 8:32).
Но как и где искать истину? Может, мы уже обладаем ею? Многие духовные наставники утверждали, что истина в вере. Что ж, поговорим о том, что предоставляет нам религиозный опыт.
Ограниченность религиозной практики
Первое, что бросается в глаза, – множественность верований. Христианство, подразделяемое на православие, католицизм, протестантов, адвентистов и прочее и прочее; ислам, бурлящий многими соперничающими течениями; с десяток буддистских школ, а еще тысячеголовый индуизм, иудаизм, конфуцианство, синтоизм, разнообразные направления шаманизма… Да и воинствующих атеистов следует относить к заурядному религиозному учению. Хватит перечислений.
Главные мировые религии – агрессивный атеизм, буддизм, христианство и ислам – открыты, готовы принять неофитов, и каждый из нас при желании может стать, например, циничным материалистом, угодливым униатом или дисциплинированным суннитом. В настоящего иудея, однако, в одночасье превратиться нельзя – им можно только родиться. Как, кстати, нельзя стать и настоящим огнепоклонником. Неужели истина изначально доступна не всем? Вдруг самая важная тайна бытия принадлежит, скажем, последователям Вуду, и никогда не откроется представителям иных верований? Что-то сомнительно.
Гораздо органичнее кажется утверждение, что везде и для всех законы мира одинаковы. И Бог, если Он существует, един для всех людей – для европейцев и для арабов с американцами, индийцев и китайцев. Смешно полагать, что христианин живет на земле один раз, а индус способен на реинкарнацию и может перерождаться в различных животных или растениях. Однако стоит только ему покреститься, так эта способность пропадает.
Евангелие от Матфея приводит слова Иисуса Христа «…по вере вашей да будет вам» (Мф 9:29). Если оттолкнуться от этого утверждения, то объяснение факту процветания многих религий может быть только следующим: каждый человек, углубляясь в выбранное верование, сам создает себе бога. Точнее – идола. Множественность конфессий может означать только то, что ни одна из них не обладает истиной. Все они суть несовершенные продукты человекотворчества.
Кто-то, быть может, возразит в неподдельном возмущении: люди отвергают Пресвятую Троицу (или Аллаха, восьмеричный путь Будды и т.д. – конкретика здесь не важна) в силу заблуждений, из-за неумения или нежелания принять истину.
Да, проблема восприятия истины важна, ниже поговорим об этом. Но здесь, очевидно, причина в ином. Если б какое-нибудь верование имело подавляющее превосходство, то давно воцарилось бы на планете. Мы же наблюдаем противоположную картину: ни одна из религий не имеет перед другими заметных преимуществ.
Сомнения в истинности существующих конфессий, навеянные внешними данными, – их множественностью, подкрепим критикой «изнутри». Для примера возьмем христианство. Почему именно его? Да просто мне, русскому, это учение ближе прочих. Поверьте: с не меньшим успехом можно пройтись и по любой другой религии.
Отвлечемся от критического анализа отличий между различными направлениями христианства. Не будем, в частности, обсуждать, сколькими перстами правильнее осенять себя крестным знамением. Отринем и все накопившиеся обиды, порой весьма горькие. Не станем, например, давать оценку папскому благословлению вторжения в 1941 году в нашу страну варварских полчищ практически всей Европы. Ограничимся обсуждением принципиального момента – сущности самой веры.
В своем Послании к Евреям Павел, без преувеличения величайший проповедник христианства, а до обращения, под именем Савл, беспощадный гонитель, дал следующее определение: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11:1). Красиво и емко сказано, не так ли?
Напомним и следующие слова Иисуса Христа, приведенные в Евангелии от Матфея: «…если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф 17:20). Значит, вера – это огромная сила, и при определенных обстоятельствах может использоваться как сверхоружие? Столько войн на религиозной почве происходило, но задокументированная история почему-то умалчивает о перемещении гор и прочих коллизиях глобального масштаба. Почему? Неужели до сих пор не нашлось ни одного по-настоящему верующего человека? Или такой все же был, но отдал свое сердце ложным богам?
Символ христианской веры провозглашает, что Единый Бог Отец, Вседержитель сотворил небо и землю всем видимым и невидимым.
Каким образом уверовать в это? Повторять и склонять на все лады? Но, как известно, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Да и что это такое – слово? Написанное – каракули. Произнесенное – пустой звук. Само по себе оно ничто. Важно то, что таится за ним. Человек мыслит не словами, а образами-понятиями. Поэтому существует только один способ усвоения выделенного – обдумывание, проникновение «внутрь» этих слов, изучение предметной области, формирование умозрительных и прочих моделей, понятий и взаимосвязей между ними и встраивание их в свое мировоззрение.
Поскольку процитированное утверждение общезначимо, для его раскрытия необходимо всерьез заняться археологией и антропологией, совершенствовать физические представления об устройстве и возникновении Мироздания и прочее и прочее. Ничего подобного наши духовные наставники не предлагают. Наоборот, они запрещают даже обсуждать прозвучавшую догму и требуют, чтобы мы уверовали также в то, что:
Иисус Христос есть Господь Единый, Сын Божий Единородный, рожденный от Отца прежде сего века, несотворенный и единосущный Отцу, ради людей и их спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святаго и девы Марии и вочеловечился;
Он распят был за нас при Понтийском Пилате, страдав и будучи погребен, воскрес в третий день;
Он взошел на небеса и сел одесную у Отца и вновь придет со славой судить живых и мертвых. И Царствию Его не будет конца.
Помимо перечисленных положений Символа веры, предлагается верить в непорочное зачатие Иисуса, а также в Пресвятую Троицу, ни разу не упомянутую не только в Библии, но и во всей раннехристианской литературе. Кроме того, кто-то требует верить в заступничество и чудотворение икон, а другие им решительно возражают. Третьи предлагают поклоняться всем святым, коих образовалось уже многие тысячи и тысячи…
И слепому видно, что чем больше требований, тем больше возникает различных их толкований. В результате нагромождения слов когда-то единое духовное движение распалось. Но процесс деления не закончился, секты и прочие сообщества религиозной окраски до сих пор продолжают плодиться.
Апофеоз неестественности христианского учения, вероятно, отражается формулой Тертуллиана, подхваченной Фомой Аквинским: «верую, ибо это абсурдно». Скажите, нашелся хоть один человек, уверовавший после того, как услышал эти слова!?
Во Втором Послании Павла к Тимофею есть горькое пророчество: «…будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим 4:3, 4).
Напрашивается предположение, что изначальное учение Христа было искажено, подменено. Изучение истории позволяет сказать, когда произошел надлом. Это случилось тогда, когда христианская церковь получила поддержку государства, а ее функционеры из гонимых превратились в гонителей инакомыслия. Еще точнее: произошло это в 325 году на Никейском соборе, руководимом «равноапостольским» императором Константином, в ту пору – некрещеным, язычником. Тогда, когда Николай Чудотворец в споре с «ересиархом» Арием применил самый убедительный аргумент – нанес ему пощечину (вспомните по этому случаю Иисусово «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую»). Тогда был принят и цитируемый выше Символ веры.
Глубочайшее недоумение ныне вызывает Иисусова формула, приведенная в Евангелии от Луки: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк 16:10). Что это за «малое» такое, которому необходимо быть верным? В свете вышеизложенного ответ должен быть ясен: нацеленность на познание существа веры. Для подкрепления сего вновь привлечем авторитет Павла, дав цитату из его Послания к Римлянам: «…невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы…» (Рим 1:20), и цитату из его Послания к Евреям: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр 11:3). Достаточно, чтобы убедиться в том, что вера – один из инструментов познания? И что верно также и обратное: верить можно только в то, что знаешь? Однако современное христианство, как и прочие религиозные системы, предлагает уверовать в голые слова.
* * *
Итак, ограниченность религиозной практики определяется самой ее природой: провозглашая какие-то постулаты в качестве неопровержимых догм, не подлежащих обсуждению, она вступает в неразрешимое противоречие с человеческой натурой, допускающей веру только в то, что может быть осмыслено и понято.
Пожалуйста, не расценивайте сказанное как призыв подвергнуть остракизму известные вам духовные авторитеты. Если испытываете потребность, то без лишних философий «приткнитесь» куда-нибудь. Как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Верующему легче жить, воспитывать детей. На бытовом уровне рекомендации всех мировых религий имеют несущественные отличия, формируют примерно одинаковые представления о добре и зле, о правильном, нравственно чистом выстраивании отношений с себе подобными. Разве что сатанисты «срываются», да ортодоксальный иудаизм все не дождется суда истории за создание зловредного мифа о превосходстве одного народа над прочими.