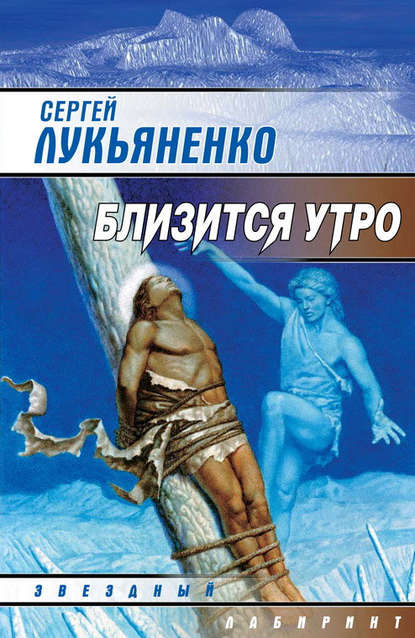По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Близится утро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Попал ты, Ильмар… – сказал я самому себе. – Ох и попал же…
Очень медленно – спешить мне теперь было некуда – я двинулся по периметру комнаты. И всюду, куда только дотягивался, ощупывал стены. Все камни были крепкими, надежными. Никаких выцарапанных посланий тоже не было. Да и чем их выцарапывать, если в камеру голым бросают? Ногтями? Или собственный зуб выдрать, да им попробовать? Нет, не выйдет, не найдется на свете зубов крепче гранита.
Через полчаса ощупывать стало нечего. Сложив руки ковшиком, я подставил их под лениво текущую струйку. Сестра-Покровительница, посмотри на меня, ободри, вразуми…
Вода была хорошая. Вкусная, чистая. Удивительное дело, водопровод в камере – неслыханная роскошь. Хотя кто в мире богаче Святой Церкви? Разве что Владетель… Да и то сомнительно.
Я отошел обратно к груде опилок. Уселся, скрестив ноги, подгреб под себя побольше трухи. Камеру я, можно сказать, изучил. Уж чем-чем, а умением в темноте не теряться Сестра меня щедро одарила. И не в таких переделках бывали…
Тряхнул я головой и признался себе, что не прав. В таких – не бывал. Египетские гробницы, киргизские курганы, саксонские подземелья – все это давным-давно заброшено. Кроме хитрых, но обветшалых ловушек нет там преград. Да и не голым я в них забирался – с веревками, лампами, прочим снаряжением. А здесь – тюрьма. Камера, в которой до конца жизни сидеть предстоит… если не удастся выбраться, конечно.
Так что же я имею?
По стенам не забраться, до люка не допрыгнуть…
Есть у меня, конечно, халат. А из шелкового халата можно легко веревку сделать. Это и снаряжение, это и оружие…
Веревка. Груза нет, крюка нет, но придумать-то что-нибудь можно? Ведь можно? Значит, забрасываю веревку, цепляю ее за решетчатый люк, подтягиваюсь…
Снаружи раздался шум. Я поднялся, поморгал, когда в коридоре появился желтый дрожащий отблеск. Надо же, как быстро глаза от света отвыкли!
– Дальше, дальше…
Голоса – много голосов. И шаги дружные. Человек пять-шесть идет.
Люк с грохотом отодвинулся. Надзиратель заглянул вниз, а за его спиной замаячили каменные лица конвоиров.
– Ильмар-вор! – угрожающе произнес надзиратель. – Если ты сейчас же не отдашь халат доброй волей, мы спустим лестницу и заберем его силой.
Только начал побег обдумывать…
– Святые братья, не губите! – как можно жалобнее воскликнул я. – Холодно здесь, помру я! Оставьте одежду, святые братья! Даже римская стража над Искупителем так не зверствовала!
– Так и ты не Искупитель, Ильмар-вор. – Надзиратель был непреклонен. – И нечего о зверствах говорить – по полста лет люди в таких камерах жили! Халат!
– Да что ты с ним рассусоливаешь… – брезгливо бросил кто-то из святых братьев. – Он еще имя Искупителя своим грязным языком трепать будет! Давайте…
Вниз начала опускаться лестница. Ну вот, только сломанных ребер мне не хватало! В один миг я сорвал с себя халат, скомкал и швырнул вверх, прямо в лицо надзирателю.
– Забирайте! Изверги!
…Для порядка бы еще слезу пустить, пусть в моем слабодушии уверятся, но плакать совсем не хочется. Когда в душе одна лишь злость – откуда слезы?
– Может, поучить его для порядка? – осведомился кто-то.
– Нет, не положено! – отрезал надзиратель. – Служба должна осуществляться со всем тщанием, но без лишней жестокости!
Экий он законник…
– Халат проверь, может, уже успел веревок надергать? – спросил тот, кто желал заняться моим воспитанием.
– А я что делаю? – обиделся надзиратель. – Все в порядке, целый халат… а поясок, поясок!
– Поясок у меня…
Решетка легла на свое место, а свет и голоса удалились. Да уж, кто по доброй воле здесь решит задержаться…
Я снова вернулся к своим опилкам. Вот так, Ильмар-вор. Нет тебе фарта. Обходись тем, что есть. Головой.
Каждому вору, а порой и честному бюргеру, рано или поздно приходится с тюрьмой знакомство сводить. Ну, если за пьяную драку присудили тебе месяц конюшни чистить или за мелкую кражу добряк-судья год каторги пожаловал, – это дело простое. Устраивайся, обживайся, учись, как обитать за решеткой. А вот когда попал на пожизненную… ну, или на десять лет рудников, что верная смерть, – то готовься бежать.
Только по уму готовься!
Вначале пойми, как ты бежать будешь. Слабину прощупай – в стене, в полу, в стражниках. И жди момента. Не дергайся раньше времени. Но и не упусти свой шанс. Не перегори. Тюрьма, особенно одиночка, тем ужасна, что волю убивает. И тело еще не ослабло, и мысли двигаются, а воли нет – и пропал человек. Перед ним дверь открой, ключ на столе забудь, оружие оставь, а он будет тупо смотреть, шага к свободе не сделает.
Бежать. Как? Камера глухая, стены не пробить. До люка не допрыгнуть. Эх, будь у меня хорошее Слово, а на Слове… лестница, к примеру. Или хотя бы веревка с крюком, веревку можно и на слабое Слово положить. Ну и пила, конечно, чтобы, к люку добравшись, перепилить брусья…
Пустое это. Во-первых, даже выберусь из камеры – надо будет как-то дверь в коридор открывать. А во-вторых, нет у меня Слова.
Что у меня есть? Опилки, вода да слив для нечистот…
Можно, конечно, опилками слив забить. Даже думать противно, с чем их для этого мешать придется, но… Можно, наверное. А когда камера вся доверху водой заполнится, подплыть к решетке, попытаться с замком справиться…
Я захохотал, но смех в гулкой темноте прозвучал так страшно, что наперед я зарекся смеяться.
Это ж сколько будет наполняться камера от тонкой струйки?
Дня три, четыре…
А меня ведь кормить собираются.
Да и не смогу я трое суток в ледяной воде проплавать. В лучшем случае – утону. Но тогда уж проще жилы на руке перегрызть да и отправиться медленной скоростью на тот свет…
Значит, не там слабину ищу.
Глава вторая,
в которой я делаю глупости, но вреда мне это не приносит
Уж не знаю, кто мог в такой камере пятьдесят лет прожить. Может, дикий гренландец или исландец, привыкший среди льдов жить, на морозе нужду справлять и снегом умываться. Холодно! Все время холодно, а ведь сейчас теплая ранняя осень стоит. Холод мешал спать, холод не давал думать, холод тянул силы. Хоть бы одеяло какое! Хоть бы одежду оставили!
Первую ночь в камере я не мог даже глаз сомкнуть. Промучился, то пытаясь зарыться в опилки – тогда ледяной пол высасывал из меня тепло, то сгребая все под себя – тогда мучил холод, идущий от каменных стен.
Но, проснувшись, я обнаружил, что в какой-то миг все-таки задремал. Пошел в угол, к воде и сливу, да и наткнулся на что-то круглое и мягкое, лежащее на полу.
Это оказался мой паек. Ползая по камере, я нашел две вареные картошки, маленькую репку, ломоть хлеба и кусок соленой трески. Еда была помятой, видно, ее попросту, без церемоний, скинули через решетчатый люк. Вот и рухнул еще один мой план – подкараулить надзирателя в тот момент, когда он будет разносить еду.
Справив дела и умывшись, я вернулся к своим опилкам. Очистил картофелину – интересно, скоро ли я перестану ее чистить и начну жрать с кожурой? – да и стал есть, вприкуску с треской.
Очень медленно – спешить мне теперь было некуда – я двинулся по периметру комнаты. И всюду, куда только дотягивался, ощупывал стены. Все камни были крепкими, надежными. Никаких выцарапанных посланий тоже не было. Да и чем их выцарапывать, если в камеру голым бросают? Ногтями? Или собственный зуб выдрать, да им попробовать? Нет, не выйдет, не найдется на свете зубов крепче гранита.
Через полчаса ощупывать стало нечего. Сложив руки ковшиком, я подставил их под лениво текущую струйку. Сестра-Покровительница, посмотри на меня, ободри, вразуми…
Вода была хорошая. Вкусная, чистая. Удивительное дело, водопровод в камере – неслыханная роскошь. Хотя кто в мире богаче Святой Церкви? Разве что Владетель… Да и то сомнительно.
Я отошел обратно к груде опилок. Уселся, скрестив ноги, подгреб под себя побольше трухи. Камеру я, можно сказать, изучил. Уж чем-чем, а умением в темноте не теряться Сестра меня щедро одарила. И не в таких переделках бывали…
Тряхнул я головой и признался себе, что не прав. В таких – не бывал. Египетские гробницы, киргизские курганы, саксонские подземелья – все это давным-давно заброшено. Кроме хитрых, но обветшалых ловушек нет там преград. Да и не голым я в них забирался – с веревками, лампами, прочим снаряжением. А здесь – тюрьма. Камера, в которой до конца жизни сидеть предстоит… если не удастся выбраться, конечно.
Так что же я имею?
По стенам не забраться, до люка не допрыгнуть…
Есть у меня, конечно, халат. А из шелкового халата можно легко веревку сделать. Это и снаряжение, это и оружие…
Веревка. Груза нет, крюка нет, но придумать-то что-нибудь можно? Ведь можно? Значит, забрасываю веревку, цепляю ее за решетчатый люк, подтягиваюсь…
Снаружи раздался шум. Я поднялся, поморгал, когда в коридоре появился желтый дрожащий отблеск. Надо же, как быстро глаза от света отвыкли!
– Дальше, дальше…
Голоса – много голосов. И шаги дружные. Человек пять-шесть идет.
Люк с грохотом отодвинулся. Надзиратель заглянул вниз, а за его спиной замаячили каменные лица конвоиров.
– Ильмар-вор! – угрожающе произнес надзиратель. – Если ты сейчас же не отдашь халат доброй волей, мы спустим лестницу и заберем его силой.
Только начал побег обдумывать…
– Святые братья, не губите! – как можно жалобнее воскликнул я. – Холодно здесь, помру я! Оставьте одежду, святые братья! Даже римская стража над Искупителем так не зверствовала!
– Так и ты не Искупитель, Ильмар-вор. – Надзиратель был непреклонен. – И нечего о зверствах говорить – по полста лет люди в таких камерах жили! Халат!
– Да что ты с ним рассусоливаешь… – брезгливо бросил кто-то из святых братьев. – Он еще имя Искупителя своим грязным языком трепать будет! Давайте…
Вниз начала опускаться лестница. Ну вот, только сломанных ребер мне не хватало! В один миг я сорвал с себя халат, скомкал и швырнул вверх, прямо в лицо надзирателю.
– Забирайте! Изверги!
…Для порядка бы еще слезу пустить, пусть в моем слабодушии уверятся, но плакать совсем не хочется. Когда в душе одна лишь злость – откуда слезы?
– Может, поучить его для порядка? – осведомился кто-то.
– Нет, не положено! – отрезал надзиратель. – Служба должна осуществляться со всем тщанием, но без лишней жестокости!
Экий он законник…
– Халат проверь, может, уже успел веревок надергать? – спросил тот, кто желал заняться моим воспитанием.
– А я что делаю? – обиделся надзиратель. – Все в порядке, целый халат… а поясок, поясок!
– Поясок у меня…
Решетка легла на свое место, а свет и голоса удалились. Да уж, кто по доброй воле здесь решит задержаться…
Я снова вернулся к своим опилкам. Вот так, Ильмар-вор. Нет тебе фарта. Обходись тем, что есть. Головой.
Каждому вору, а порой и честному бюргеру, рано или поздно приходится с тюрьмой знакомство сводить. Ну, если за пьяную драку присудили тебе месяц конюшни чистить или за мелкую кражу добряк-судья год каторги пожаловал, – это дело простое. Устраивайся, обживайся, учись, как обитать за решеткой. А вот когда попал на пожизненную… ну, или на десять лет рудников, что верная смерть, – то готовься бежать.
Только по уму готовься!
Вначале пойми, как ты бежать будешь. Слабину прощупай – в стене, в полу, в стражниках. И жди момента. Не дергайся раньше времени. Но и не упусти свой шанс. Не перегори. Тюрьма, особенно одиночка, тем ужасна, что волю убивает. И тело еще не ослабло, и мысли двигаются, а воли нет – и пропал человек. Перед ним дверь открой, ключ на столе забудь, оружие оставь, а он будет тупо смотреть, шага к свободе не сделает.
Бежать. Как? Камера глухая, стены не пробить. До люка не допрыгнуть. Эх, будь у меня хорошее Слово, а на Слове… лестница, к примеру. Или хотя бы веревка с крюком, веревку можно и на слабое Слово положить. Ну и пила, конечно, чтобы, к люку добравшись, перепилить брусья…
Пустое это. Во-первых, даже выберусь из камеры – надо будет как-то дверь в коридор открывать. А во-вторых, нет у меня Слова.
Что у меня есть? Опилки, вода да слив для нечистот…
Можно, конечно, опилками слив забить. Даже думать противно, с чем их для этого мешать придется, но… Можно, наверное. А когда камера вся доверху водой заполнится, подплыть к решетке, попытаться с замком справиться…
Я захохотал, но смех в гулкой темноте прозвучал так страшно, что наперед я зарекся смеяться.
Это ж сколько будет наполняться камера от тонкой струйки?
Дня три, четыре…
А меня ведь кормить собираются.
Да и не смогу я трое суток в ледяной воде проплавать. В лучшем случае – утону. Но тогда уж проще жилы на руке перегрызть да и отправиться медленной скоростью на тот свет…
Значит, не там слабину ищу.
Глава вторая,
в которой я делаю глупости, но вреда мне это не приносит
Уж не знаю, кто мог в такой камере пятьдесят лет прожить. Может, дикий гренландец или исландец, привыкший среди льдов жить, на морозе нужду справлять и снегом умываться. Холодно! Все время холодно, а ведь сейчас теплая ранняя осень стоит. Холод мешал спать, холод не давал думать, холод тянул силы. Хоть бы одеяло какое! Хоть бы одежду оставили!
Первую ночь в камере я не мог даже глаз сомкнуть. Промучился, то пытаясь зарыться в опилки – тогда ледяной пол высасывал из меня тепло, то сгребая все под себя – тогда мучил холод, идущий от каменных стен.
Но, проснувшись, я обнаружил, что в какой-то миг все-таки задремал. Пошел в угол, к воде и сливу, да и наткнулся на что-то круглое и мягкое, лежащее на полу.
Это оказался мой паек. Ползая по камере, я нашел две вареные картошки, маленькую репку, ломоть хлеба и кусок соленой трески. Еда была помятой, видно, ее попросту, без церемоний, скинули через решетчатый люк. Вот и рухнул еще один мой план – подкараулить надзирателя в тот момент, когда он будет разносить еду.
Справив дела и умывшись, я вернулся к своим опилкам. Очистил картофелину – интересно, скоро ли я перестану ее чистить и начну жрать с кожурой? – да и стал есть, вприкуску с треской.