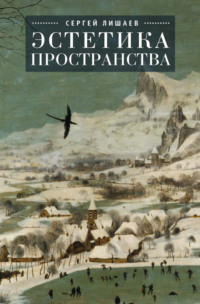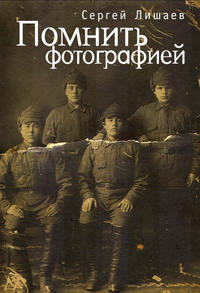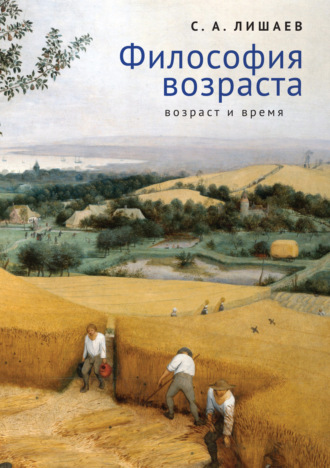
Философия возраста (возраст и время)
Различение ситуативного и надситуативного времени имеет принципиальное значение для феноменологии возраста. Именно на уровне над ситуативного времени конституируются возрастные модусы человеческого существования.
Возраст и определяющее время. Темпоральная структура временения, если рассматривать ее на ситуативном уровне, на протяжении жизни не меняется. Меняется ли что-то в структуре биографического (надситуативного) времени по ее ходу? Несомненно. Меняется величина направлений (измерений, векторов) времени. Происходит это при переходе с ситуативного на надситуативный уровень временения, то есть тогда, когда мы овременяем свое существование на внутрибиографическом (возрастном) и биографическом уровнях. На этом уровне он имеет дело с конечностью жизни и знает о ее средней и максимальной продолжительности (65–90 лет). Знает он и о том, что дольше определенного срока не проживет, а прожить меньше, не дотянув до преклонных лет, может каждый, в том числе и он сам.
Таким образом, если от анализа темпорального устройства Присутствия перейти к анализу индивидуальной жизни как целого, то в поле зрения попадает не только временная структура экзистенции, но и соотношение трех направлений временения по величине. В границах века соотношение прошлого, настоящего и будущего меняется с каждым днем и с каждым возрастом. По величине будущее, прошлое и настоящее сравняются «в час смертный». Но пока человек жив, соотношение временных горизонтов в границах жизни – на что он не всегда обращает внимание – постоянно меняется. Величина надситуативного прошлого увеличивается, будущего – уменьшается, настоящего поначалу (от молодости к зрелости) возрастает, потом (от зрелости к старости) – убывает. Если персональное будущее не сокращается, то прошлое не растет.
Для периодизации возрастов взрослости важно, что при постоянном изменении в соотношении величин временных горизонтов их соотношение на протяжении продолжительного времени не изменяется, остается стабильным: многие годы может преобладать или будущее, или настоящее, или прошлое. Общий баланс темпоральных векторов в рамках одного возраста до поры до времени не меняется, что и определяет возрастную расположенность человека, его возрастное «так есть» и возрастную идентичность. Длительное преобладание одного из трех временных направлений над другими дает качественное отличие одного возраста от другого. Молодость длится не один год, соотношение времен по величине все время меняется, но… молодость до определенного момента остается молодостью, отличающей себя от следующего другого возраста – от зрелости.
Возрастная расположенность человека определена временем, которое доминирует по своей протяженности. Назовем его определяющим или, иначе, доминирующим временем. (Понятие определяющего времени не применимо к возрастам детства[65].) Формирование темпоральной структуры существования и ее разворачивание в актах ситуативного временения происходит в детстве, но на биографическом уровне оно разворачивается в молодости. (Процесс формирования временного сознания на надситуативном уровне будет рассмотрен в главе, посвященной молодости.)
Смена одного определяющего времени другим обусловлена заданным биохронопоэзисом изменением параметров человеческого тела. Телесные изменения меняют баланс между хранимым (прошлое), ожидаемым (будущее) и исполняемым (настоящее) временем. Переход от одного возраста к другому – для взрослого – обусловлен сменой темпоральной временной доминанты.
В молодости содержание жизни принадлежит моему «я» как возможное будущее, в зрелости оно есть то, что находится в процессе исполнения, в старости – его завершают и осмысляют, а в модусе ветхой старости – его находят в соотнесенности с Другим и временением в режиме (на)стоящего настоящего11. Наиболее протяженное время молодости – будущее, зрелости – настоящее, старости – прошлое. От такого – определяющего темпоральный профиль жизни – времени и должен отправляться философский анализ возрастов взрослости.
Самое протяженное надситуативное время – это вместе с тем и время, которое притягивает к себе наше внимание, которое то тревожит, то успокаивает. От того, как с ним обстоит дело, зависит самочувствие человека, его удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью.
Время и временение неотделимы от заботы, а забота – от надситуативного временения. Темпоральное устройство вне-себя-бытия, когда оно надситуативно развернуто, непрестанно генерирует заботу. Заботу о себе, заботу о людях (о ближних и дальних), об окружающем мире. Темпоральность как возможность иного (в том числе – смерти) вместе с надеждой производит заботу и тревогу. Брошенный на свои возможности, человек осознает необходимость разобраться с ними, осмыслить их, отобрав из них те, за исполнение которых стоит приняться. Исполнение избранных возможностей – это, в пределе, исполнение-осуществление жизни. Человек не про- [66] сто брошен (погружен) в свои возможности (осуществленные, осуществляемые, еще не осуществленные, пока что неосуществимые), он ищет себя, свое содержание в том, что теперь (настоящее), в том, что предстоит (будущее), в том, что осуществилось или не осуществилось (прошлое).
Жизнь как темпоральная данность тревожит. И не напрасно. Знающий жизнь беспокоится о ней, поскольку ее содержательное наполнение и исполнение не гарантированы. Ее наполнение и исполнение, и взрослый не может этого не осознавать, не в последнюю очередь зависят от него. При этом условия реализации того, что желанно, не всегда находятся в нашей власти. Окна возможностей открываются на определенное – в том числе определенное возрастом – время, а потом закрываются. Если не воспользоваться тем, что дает возраст, тогда что-то из того, что могло исполниться, не исполнится… Над ситуативное овременение жизни понуждает к поиску осмысленности не только в сиюминутных реакциях, оно требует придать ей структуру для-чего-бытия, чтобы наполнить жизнь содержанием из другого/Другого. Временность существования генерирует заботу, надежду и ностальгию. Взрослый человек стремится к осмысленной жизни и по-разному реализует это стремление в зависимости от того, в каком возрасте он находится.
Способность к овременению жизни сама по себе свидетельствует о нехватке содержания. Нехватка содержания не только рождает и воспроизводит потребность в нем, она еще и причиняет боль, поскольку сознание времени – это сознание конечности, которое побуждает бодрствовать, искать содержание и преисполняться им, исполняя его. У времени острый наконечник, который жалит. А потому всегда есть основания для того, чтобы жалеть, прощать и любить человека.
Если говорить о жизни как целом, то первенство в генерации заботы следует отдать будущему, на границе которого от юных дней клубятся тучи и гремит гром: жизнь коротка, возможности ограничены, и близится время, когда они исчерпывают себя полностью. «Надо поторапливаться!» Озадаченность эсхатоном (концом) реет над всеми делами и размышлениями взрослых (ребенок живет в раю, потому что о конце или не знает, или не думает, не принимает «близко к сердцу», пребывая в настоящем[67]).
В каждом возрасте взрослости свои, принадлежащие по преимуществу данному возрасту, генераторы экзистенциальной тревоги. Возрастные различия в соотношении времен сосредотачивают внимание на специфических для каждого из возрастов заботах.
Изменения в раскладе времен внутри индивидуального века по их величине вносят онтические коррективы в трансцендентальную аналитику временности Присутствия. Если в экзистенциальной аналитике Dasein все три момента времени равноисходны, то в философском описании возраста на первый план выходит неравнозначность временных измерений, их зависимость от временных параметров жизни как целого.
* * *Рассмотрение возраста в горизонте герменевтической феноменологии требует прояснить отношение возрастных модусов к темпоральности как экзистенциальной структуре Dasein. Темпоральность как экстатически-горизонтальное единство временности характеризует сущее,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Лишаев С. А. Влечение к ветхому (Опыт философского истолкования). – Самара: Самар, гуманит. академ., 1999. – 108 с.
2
Лишаев С. А. Эстетика Другого: Монография. – Самара: Самар, туманит. академ., 2000. 366 с.
3
Интерес к эстетике старого и ветхого нашел отражение в ряде работ, мотивированных изучением феноменов эстетики времени. В частности, он дал толчок к размышлениям над эстетической привлекательностью старой фотографии (Лишаев С. А. Старая фотография // Mixtura verborum’ 2007: сила простых вещей. Сб. ст. – Самар, гуманит. академ. Самара, 2007. С. 40–62), и привлек внимание к феномену руины (Лишаев С. А. Игры руин (материалы к эстетической аналитике руины) // Mixtura verborum > 2013: время, история, память. Философский ежегодник. – Самара, 2014. С. 84–100; Лишаев С. А. Эстетика руины // Ежегодник по феноменологической философии. М.: Издательский центр РГГУ, 2015. С. 87–114.).
4
Подробнее о связи феноменов эстетики времени с возрастными этосами см. Приложение 2: Этос и эстезис: эстетический анализ и возрастная антропологик».
5
Лишаев С. А. Старость и современность // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2007. № 1. С. 71–81; Лишаев С. А. Горизонты старости: типология и экзистенциальное содержание // Mixtura verborum’ 2006: топология современности. Сб. ст. – Самара, Самар, гуманит. академ., 2007. С. 14–43.
6
Проекты РГНФ-РФФИ: 2015–2017 гг. – «Герменевтика возраста в горизонте экзистенциальной аналитики» (№ 15-03-00705); РФФИ, 2019–2021 гг. – «Маргинальные феномены человеческого бытия (Антропология ad Marginem)» (№ 19-011-00910).
7
К таким, в частности, относятся: краткий экскурс в историю философского анализа возраста, рассмотрение связи между старостью, мудростью и философией, сопоставление старости и детства, сюжет о причинах возрастного замедления и ускорения времени.
8
Основной вклад в научный анализ возраста внесли представители возрастной психологии (К. Бюлер, В. Штерн, Ж. Пиаже, К. Коффка, А. Валлон, Э. Эриксон, В. Франкл, Дж. Брунер, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. В. Зеньковский, Б. Г. Ананьев, Н. А. Рыбников, А. В. Запорожец, И. А. Соколянский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, Л. В. Толстых, Л. И. Божович, И. С. Кон, Е. И. Степанова, А. А. Деркач и др.), а также представители социологии возраста (К. Мангейм, Т. Парсонс, Д. П. Мердок, М. Пайпер, С. Аапола, А. Левинсон, И. Гоффман, М. Э. Елютина, В. В. Бочаров, В. Д. Альперович, Н. В. Веселкова, Е. В. Прямикова, Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая и др.). Особую роль в историческом и историко-культурном исследовании возраста сыграла изданная в i960 году книга Филиппа Арьеса, посвященная восприятию детства «при Старом порядке» (Аръес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999) – Эта пионерская работа стимулировала интерес к изучению возраста и историками, и представителями социальных и гуманитарных наук. В кругу этнологических исследований возраста, оказавших воздействие на анализ детства далеко за пределами этой дисциплины, следует отметить работу Маргарет Мид (МидМ. Культура и мир детства. М., 1988).
9
Данное утверждение не исключает того, что, к примеру, в христианской традиции свобода рассматривалась как благо, как дар Бога. Бог хочет, чтобы человек свободно следовал тому, к чему Он предназначил его. При этом христианство живет не пафосом свободы, самоопределения и самоутверждения, а любовью ко Христу, стремлением к уподоблению Ему как Новому Адаму. Сущность человека (совершенная человечность) дана христианину в Иисусе Христе.
10
Способен ли человек на такое или нет, не окажется ли его «я» конструкцией, которая возводится «его руками», но по лекалам, предоставленным информационными потоками, – это другой вопрос. Установка модерна предполагает, что субъект сам собирает себя и свой мир. Он, как автономный субъект, основа всего.
11
Можно говорить – методологически – о возрасте гор, домов, египетских пирамид, звезд, галактик…
12
В этой работе мы используем ряд новых для философского тезауруса терминов, призванных удерживать в мысли текучую «материю» времени. Задача в полной мере едва ли разрешима, и тем не менее философия призвана решать ее. В нашей работе мы пользуемся разными терминами, описывающими ускользающее от анализа время. В частности, мы пользуемся терминами «хронопоэзис», «хроноэкспозиция», «хроноизмещение», введенными в отечественную литературу А. К. Секацким (см., напр.: Секацкий А. К. Единство мира: опыт поэзии и метафизики. – СПб: Алетейя, 2021). Эти термины представляются нам весьма удачными: компактными, емкими по смыслу, выразительными.
13
Невозможно сократить время необходимое на формирование человека и на реализацию его целей (то есть его хроноэкспозицию), но умереть можно в любой в любой момент, начиная с момента рождения.
14
Ситуацию необходимого выбора прообраза, которая особенно остро стоит перед человеком посттрадиционного общества хорошо передает известное стихотворение Ю. Левитанского:
Каждый выбирает для себяженщину, религию, дорогу.Дьяволу служить или пророку —каждый выбирает для себя.<…>Каждый выбирает для себя.Выбираю тоже – как умею.Ни к кому претензий не имею.Каждый выбирает для себя.15
См.: Пигров К. С., Секацкий А. К. Бытие и возраст. Монография в диалогах. – СПб.: Алетейя, 2017; Косилова Е. В. Философия возраста: Взаимосвязь эмоционального и познавательного взросления человека. – М.: ЛЕНАНД, 2014; Красиков В. И. «Синдром существования». – Томск, 2002. С. 9–126; Эпштейн М. Н. К философии возраста: Фрактальность жизни и периодическая таблица возрастов // Звезда. 2006. № 4. URL: http://magazines.russ.rU/zvezda/2006/4/ep12.html (дата обращения: 20.08.2021). Подробнее см.: Приложение 1: Возраст в истории европейской философии.
16
Педантичное следование «маршрутами», проложенными основателями феноменологии, – добродетель историка философии, но не философа. Философский этос предполагает верность существу дела, а не основателям той или иной философской традиции. Он предполагает уважение к учителям, благодарность за проделанный ими путь, за побуждение к мышлению, но не предполагает следования букве их учений). Философ озабочен существом дела, истиной. В этом и состоит его верность учителям философии и ей самой. Только самостоятельная мысль включена в философию, жива в качестве мысли. Философ – не то же, что «верный ученик», педантично следующий за учителями. Во всяком случае, из верности существу дела, если верить традиции, предлагал исходить еще Аристотель («Платон мне друг, но истина дороже»). Философы, принадлежащие к широко понятой феноменологической традиции, не составляют здесь исключения. Хайдеггер, Шелер, Мерло-Понти, Сартр и другие феноменологи следовали именно этим путем. Отношения Гуссерля с Хайдеггером до и после «Бытия и времени» хорошо иллюстрируют коллизии в отношениях ученика и учителя, которые неизбежно возникают между ними, когда ученик решает мыслить самостоятельно.
17
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 34.
18
В структуре древней, средневековой и новоевропейской философии возраст как особая область философской рефлексии, если оставить в стороне отдельные работы и фрагменты в текстах, посвященных иным вопросам, не тематизировался (см.: Приложение 1).
19
Если бы структура учебного процесса и перечень философских специальностей формировались с позиций той или иной традиции, они были бы не такими, какими они являются в ситуации доминирования учебно- и научно-административной практики структурирования философии. Феноменологи предложили бы один перечень дисциплин, представители аналитической философии – другой, постструктуралисты – третий и т. д.
20
Как верно замечает И. Дёмин, понятие «бытийный регион» «не совпадает с предметной областью той или иной частной позитивной науки, а представляет собой лишь возможную область научной тематизации» (Дёмин И. В. Философия истории как региональная онтология: монография. – Самара: Самар, гуманит. акад., 2012. С. 136).
21
Хайдеггеровское понимание философской антропологии оппонирует шелеровскому антропологическому проекту, в котором вопрос «Что есть человек?» оказывается центральным вопросом философского знания. Подробнее о соотношении шелеровского проекта философской антропологии с антропологией как региональной онтологией см.: Дорофеев Д. Ю. Хайдеггер и философская антропология. URL: http:// anthropology.rchgi.spb.ru/haidegger/haidger_i2.htm (дата обращения: 30.08.2015); Дорофеев Д. Ю. Философская антропология // URL: http:// anthropology.rchgi.spb.ru/ant_fil.html (дата обращения: 30.08.2021); Лохов С. А. М. Шелер о методе философской антропологии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Философия». 2002. № 3. С. 197–204.
22
В своей работе «Кант и проблема метафизики» Хайдеггер, отвечая на вопрос о том, что такое антропология как область познания и как она становится философской, писал, что «антропология может называться философской, поскольку ее метод является философским, например – в смысле сущностного исследования человека. <…> Тогда философская антропология есть не что иное, как региональная онтология человека, и, как таковая, не выходит из ряда других онтологий, которые вместе с ней распределяют между собой всю область сущего» (Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 122–123).
23
Дёмин И. В. Указ. соч. С. 134.
24
Известно, что Э. Гуссерль, которому автор посвятил «Бытие и время», увидел в нем не фундаментальную онтологию, а попытку построить онтологию повседневности, то есть региональную онтологию в том смысле, который придавал этому термину Гуссерль (для Гуссерля региональная онтология – это эйдетическая наука, предметом которой являются лежащие в основании той или иной науки априорные понятия).
25
Дёмин И. В. Понятие «бытийный регион» в герменевтической феноменологии М. Хайдеггера // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 7. С. 135.
26
Философская антропология как региональная онтология отличается от иных философско-антропологических проектов. В том числе тех, которые предлагались мыслителями феноменологической традиции (например, М. Шелером).
27
Специальных работ, посвященных изучению того, как рассматривался возраст в истории европейской философии, нет. Зато имеется монографическое исследование, посвященное анализу (в большей мере – реконструкции) понимания старости от древности до наших дней (Рыбакова Н. А. Проблема старости в европейской философии: от античности до современности. СПб.: Алетейя, 2006).
28
Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3–4. – М.: Мысль, 1994; Аристотель. Поэтика. Риторика. – М.: Азбука-классика, 2007; Тит Лукреций Кар. О природе вещей. – М.: Художественная литература, 1983; Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995; Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. – М.: Наука, 1993.
29
Структура и иерархическое строение космоса служили моделью для устроения государства и устроения жизни отдельного человека. Эта же модель определяла оценку возрастов, давала понимание того, кого и как надо воспитывать, чему учить.
30
Мерой состоятельности человека оказывалась полнота, с которой в нем воспроизводилась онтологическая структура мироздания, в которой, если взять за основу платоническую схему, тело космоса (мир материальных вещей) подчинено мировой душе, душа – космическому уму, а ум – Единому (Благу). Чем последовательнее онтологическая иерархия воспроизводится смертным, тем совершеннее человек и тем больше у него оснований, чтобы править другими людьми (тело подчиняется душе, растительное и аффективное начала души – уму, а ум – Благу). Поскольку ум созревает позже, чем тело и низшие способности души, править должны пожилые и старые. Платон, например, был убежденным сторонником геронтократии (на эту тему см.: Печатнова Л. Г. Спартанская геронтократия и «Законы» Платона // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. № 2. С. 74–84).
31
О значении пайдейи для древнегреческой культуры см.: Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. В 2 томах. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997–2001.
32
Интерес к возрасту у Платона был связан с интересом к воспитанию гражданина идеального государства. Его внимание было направлено на тех, кто молод и нуждается в попечении. Прежде всего, мыслителя волновало воспитание стражей («Государство», «Законы»). Интересовали его также пожилые люди и старики, поскольку править в государстве должны философы, а философами становятся, когда достигают умственной зрелости. Платон считал, что человек достигает ее (если достигает) в пожилом возрасте.
33
О трактовке старости античными авторами подробно говорится в монографии Н. А. Рыбаковой {Рыбакова Н. А. Указ. соч. С. 63–113).
34
Старость рассматривается Цицероном с привлечением широкого спектра философских учений (особенно заметно влияние идей Эпикура), хотя общая ее трактовка определяется стоической установкой на достойную, мужественную старость, которая определена мудрым приятием конца. Влияние эпикуреизма ощущается в стремлении Цицерона убедить своего читателя, что наслаждения доступны не только молодым и зрелым, но также и старикам, хотя удовольствия старости и уступают более ранним возрастам по интенсивности и разнообразию. В целом же он стремился показать, что и в старости «люди полнокровно живут, пока могут творить и вершить дела, связанные с исполнением их долга, и презирать смерть» {Цицерон. О старости. Указ. соч. С. 26). Вывод Цицерона таков: мудрый готовится к старости и принимает ее, противодействуя сопутствующей ей слабости и умея воспользоваться преимуществами, которые она дает человеку (опыт, знания, владение полнотой завершенной в целом жизни).
35
Аристотель. Указ. соч. С. 59.
36
Если в платоновском «Государстве» геронтократия была умеренной (философы – люди после 50), в «Законах» геронтократическая идея выражена более радикально: править должны пожилые люди и старики (люди от 50 до 75 лет).
37
Мыслитель широких интересов, Аристотель касается – вскользь – и темы возраста в своей «Риторике». Возраст интересовал его как особый нравственный характер (этос). Причем если Платон, касаясь возраста, брал в расчет прежде всего лучших (тех, кто – при надлежащем воспитании – может стать стражем или даже философом), то Аристотеля интересовал этос обычного (среднего) человека. Он описывает особенности нравственного характера юноши, старика и зрелого человека.
Заслуживает внимания тот факт, что Аристотель говорит о возрастах, оставляя без внимания детство. Это, конечно, не случайность. Дети остались вне его поля зрения, по-видимому, потому, что они еще не сложились как люди и не соизмеримы с другими возрастами. Аристотель словно проводит черту между еще не людьми и людьми, то есть между взрослыми, которые делятся на молодых (юных), зрелых и старых людей, и детьми.
При этом он сравнивает этосы юношей и стариков между собой как противоположные возрастные модусы, а этос зрелости определяет как их синтез, лишенный крайностей, а стало быть, и недостатков. Ведь источник отклонения от нравственно доброкачественного – это избыток и недостаток. В основе характеристик, которые Аристотель дает возрастам, лежит представление о целом, о гармонии, о мере как основе совершенного характера. Люди зрелого возраста – по Аристотелю – наиболее совершенны. У юношей и стариков одного недостает, другого же – в избытке. У юношей мало опыта, но много желаний, они благородны и великодушны, но при этом самоуверенны, потому что слишком мало знают жизнь. У стариков, напротив, слишком много опыта (поэтому они чересчур осторожны, живут прошлым); старики ориентируются на пользу, а не на красоту, они малодушны, умеренны в желаниях, ворчливы; великое их не увлекает, они пребывают в заботах о насущном. Зрелость соединяет достоинства юности и старости и нейтрализует крайности: «они по своему характеру будут между указанными возрастами, не обладая крайностями ни того, ни другого, не выказывая ни чрезмерной смелости, потому что подобное качество есть дерзость, ни излишнего страха, но как следует относясь к тому и другому, не выказывая всем ни доверия, ни недоверия, но рассуждая более соответственно истине, не живя исключительно ни для прекрасного, ни для полезного, но для того и другого вместе, не склоняясь ни на сторону скупости, ни на сторону расточительности, но держась надлежащей меры. Подобным же образом [они относятся] и к гневу, и к желанию. Они соединяют благоразумие с храбростью и храбрость с благоразумием. В юношах же и старцах эти качества являются разъединенными, ибо юноши мужественны и необузданны, а старые люди – благоразумны и трусливы. Вообще говоря, они обладают всеми полезными качествами, которые есть у юности и у старости в отдельности, что же касается качеств, которыми юность и старость обладают в чрезмерной или недостаточной степени, то ими они обладают в степени умеренной и надлежащей» (Аристотель. Риторика. Кн. II. Гл. XIV // Аристотель. Указ. соч. С. 58–59). В этой цитате мы привели практически полностью ту часть текста, в которой Аристотель говорит о зрелости.