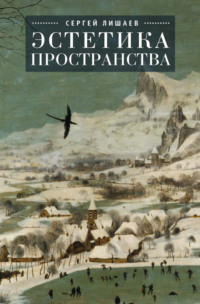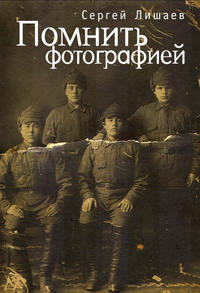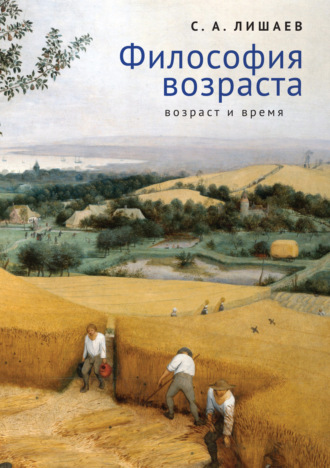
Философия возраста (возраст и время)
История осмысления возраста в европейской философии позволяет сделать вывод, что конституирование философии возраста как особой области философской антропологии сегодня не только возможно, но и необходимо. Разрушение традиционных представлений о человеке и, соответственно, о его возрастах приводит к расфокусировке возрастного сознания и самосознания. Диффузия различий приводит общество и человека в замешательство. Представления о том, что значит быть ребенком, молодым или зрелым человеком, стариком, размываются, возраст перестает быть чем-то самопонятным. Из простой данности он переходит в категорию вещей, предполагающих личный выбор. Но если возраст не воспринимается как биологически и темпорально обусловленная данность, если его (в какой-то мере) выбирают, если варианты возрастного поведения (этоса) моделируются самим человеком (а не только задаются извне), тогда философская аналитика возраста становится важной формой взаимодействия с возрастом.
Возможность выбора возрастной идентичности не может не учитываться обществом и государством в социальной политике, в решении вопросов, связанных с образованием, социальным обеспечением и т. д. В такой ситуации философия возраста будет решать две задачи: 1) исследовать специфику возрастов как особых способов человеческого существования и 2) удерживать их внутренне единство, их связность, чтобы не потерять за деревьями леса, за возрастами – человека.
Очевидно, что возраст в современной философии может описываться в разных концептуальных оптиках. Мы полагаем, что одной из многообещающих методологических перспектив для философии возраста является герменевтическая феноменология. Экзистенциальная аналитика, с одной стороны, сохраняет видение человека как целого (как Dasein, как бытия-в-мире), а с другой – позволяет, отправляясь от сущностной взаимосвязи экзистенциальности и фактичности в бытии Dasein, рассматривать разные возрастные формации как способы экзистирования.
Глава 2
Философский взгляд на возраст
2.1. Человек, время, возраст
В философских работах, посвященных проблематике возраста, внимание фокусируется на анализе отдельных возрастов и на проблемах возрастной динамики. При этом общие понятия философии возраста часто остаются концептуально непроработанными. Философия возраста как особая область философской рефлексии находится в стадии формирования, и обобщающих трудов по данной проблематике немного (см. Приложение 1 к гл. 1). Разработка феноменального поля философии возраста опережает осмысление ее концептуальных оснований. Понять причины такого положения несложно, но согласиться с ним нельзя. Сложившуюся ситуацию надо по мере сил и возможностей менять. Перед тем как перейти к феноменологии возрастных расположений, мы специально остановимся на прояснении методологических установок, которыми мы руководствовались, и введем понятия, которыми мы пользуемся в этой книге. Об отдельных возрастах в ходе решения этой задачи речь будет идти только в той мере, в какой это необходимо для раскрытия смыслового содержания базовых для философии возраста в целом понятий.
Вариативность подходов к изучению возраста. Философский анализ возраста может осуществляться с разных позиций. Его, например, можно рассматривать в перспективе социальной философии. В этом случае на первый план выйдут особенности социального взаимодействия субъектов в зависимости от их возрастной идентичности. Центральными окажутся вопросы, связанные с анализом группового поведения разных возрастных групп, с изучением моделей межпоколенческого взаимодействия, с проблемами, возникающими в общении отцов и детей, дедов и внуков.
Совсем другой подход к анализу возраста мы получим в том случае, если на первый план выдвигается проблема пайдейи (образования, воспитания). Здесь внимание будет сфокусировано на взрослении, на переходе от детства к взрослости, от молодости к зрелости. В современной философии возраста, тем более в его психологии и социологии, приоритетная тема – это переход от детства к взрослости, от молодости – к полной взрослости. В исследовании Елены Косиловой[56]предметом рассмотрения, в частности, становятся условия, критерии и движущие силы процесса взросления. Взросление интересует ее в двух аспектах: экзистенциальном (переход от потребительского отношения к «среде» к ответственному отношению к ней) и познавательном (переход от «гносеологического эгоизма» к гносеологической зрелости, когда истина становится чем-то более важным, чем адаптация к среде).
Возможен и третий подход. Он актуализируется в рамках экзистенциально-феноменологического рассмотрения возраста. Здесь хроно-проекция жизни (и в ее статике, и в динамике) рассматривается через экспликацию временных параметров экзистирования. В этой – темпорально-экзистенциальной – перспективе работает В. И. Красиков, рассматривающий молодость, зрелость и старость в горизонте понятий прошлого, настоящего и будущего. Его анализ возраста можно охарактеризовать как экзистенциально-феноменологический. В центре внимания этого философа – «синдром существования», который возникает не сразу, а «со временем» и не у всех людей, а лишь у тех из них, кто ищет осмысленности в собственном существовании. Осмысленность существования определяется темпоральным режимом сознания (осмысляется через воображение и память) и рефлексией. Она определяется балансом будущего (воображения), настоящего и прошлого (память, рефлексия). Давая подробную характеристику трем возрастам жизни (молодости, зрелости и старости), В. И. Красиков рассматривает – в общей форме – и вопрос о соотношении возраста и времени[57].
Близок к экзистенциально-феноменологическому подходу анализ проблематики возраста, выполненный К.С. Пигровым и А. К. Секацким в работе «Бытие и возраст», хотя сами они в явной форме не проговаривают ее методологические основания[58]. Интересным и плодотворным, в частности, является выполненный в этой работе анализ соотношения линейного и циклического времени на материале зрелости и старости.
К разработке философии возраста в рамках широко понятой экзистенциально-феноменологической традиции примыкает и наша работа. Возраст для нас – это жизнь в ее временном развороте и это самая близкая человеку форма данности времени. Приоритетность времени в языковом предпонимании возраста задается его семантикой. Это слово указывает на темпоральную структуру жизни (на ее периодичность, ступенчатость), на ее динамику (на рост, на изменение параметров живого тела), на зависимость динамики от длительности (количество прожитых лет) и на направленность к концу (ограниченность возрастной динамики рождением и смертью, человеческим веком). Последнюю из означенных характеристику семантика «возраста» несет имплицитно (помнить о возрасте – помнить о смерти).
Методологический горизонт анализа возраста в этой книге – герменевтическая феноменология. Ниже мы остановимся на экзистенциальной аналитике темпоральности (временности) Dasein (Присутствия), чтобы в дальнейшем провести концептуальную разметку тематического поля философии возраста.
Временность в герменевтической феноменологии. Фактичность жизни в ее возрастном аспекте определена темпоральностью экзистенции. Если бы человек не был временным сущим, он не имел бы возраста. Быть в мире и быть в нем «какое-то время» способен лишь тот, кто существует не «в себе», а «вне себя», кто, благодаря этому, встречает (открывает) сущее в его ограниченности, конечности, несамотождественности, включенности в тройственный горизонт будущего-настоящего-прошлого, кто знает о своей временности, а стало быть – о своем возрасте.
Темпоральность экзистенциального устройства означает, что человек находит себя в единстве трех моментов: прошлого (бывшего), настоящего (актуального) и будущего (настающего). Все три временных измерения (которые в «Бытии и времени» именуются «экстазисами») включены в определение структуры экзистенции: бытие-в-мире – это вперёд-себя-уже-бытие-в-мире-при-внутримирно-встречном-сущем.
Человек – это набросок себя (вперёд-себя-бытие, будущее); он тот, кто всякий раз имеет дело с внутримирно-встречным сущим (бытие-при-внутримирно-встречном-сущем, настоящее), и тот, кто экзистирует исходя из своей соотнесенности с миром (уже-бытие-в-мире, прошлое).
Три временных момента равноисходны. Хайдеггер подчеркивает континуальность времени: «Только по отношению к теперь мы схватываем «потом» и «некогда», «раньше» и «позже»»[59]. «Приуроченность» (к теперь) – одна из исходных структур времени. Вторая структура – это «значимость». «Время, которое нам всегда уже дано, поскольку мы его себе отводим и берем в расчет, имеет характер «времени-для-того-чтобы»[60]. «Теперь» «текущей повседневности», всегда соотнесенное с «позже» и «раньше», – это значимое «теперь», в котором обнаруживается забота как экзистенциал бытия-в-мире. Повседневное теперь – никогда не теперь, оно всегда соотнесено с тем, что было, и тем, что будет, оно не само в себе, оно не для себя, оно «для того, чтобы».
Темпоральность Dasein – это темпоральность, о которой можно сказать, что она «всегда наша»; это темпоральность, в которой обнаруживается направленность и конечность бытия-в-мире. Dasein («мы сами») раскрывается темпорально (по ходу экзистирования и временения). При этом во вне-себя-бытии как временном бытии раскрывается бытие как таковое (Бытие с заглавной буквы, бытие-вообще). Во всяком случае, таково наше толкование бытия-в-мире. Вне-себя-бытие (человек, Dasein) основано в Бытии как имманентной трансцендентности. Человек потому бытие-в-мире, что в нем и через него есть Бытие. Бытие как Другое сущему (трансцендентное ему) находится (имеет место) в человеке. Человек, благодаря его выдвинутости в Ничто[61], а мы бы сказали – в Другое, существует способом присутствиеразмерного сущего.
Человек как бытие-в-мире раскрыт в прошлое, настоящее и будущее. «Если Dasein нет, то его и не было; но если Dasein не будет, то его не было и нет»[62]. Судьба человека свершается временно, быть для него – значит быть временным, знающим о направленности своей жизни к концу и подчиненным в своем существовании императиву смысла.
Человек экзистирует (трансцендирует), набрасывая себя на сущее, его бытие имеет характер перехода. Переходность раскрывается в понимании временности сущего. Dasein временно, потому что оно вне-себя. Вне себя оно потому, что причастно Другому. Набрасывание – это трансцендирование в одном из трех направлений (горизонтов) времени. Dasein временит себя (набрасывает себя) или к наступающему, или к присутствующему в настоящем, или к бывшему, не нарушая при этом «экстатически-горизонтального единства временности».
«Поскольку исходное время как временность делает возможным бытийное устройство Dasein, и это сущее (Dasein) есть таким образом, что оно себя временит, именно это сущее, относящееся к бытийному роду экзистирующего Dasein, должно быть исходно и соразмерно [с его сутью] названо временным сущим как таковым»[63].
Сознание темпорально-возрастной неоднородности сущего имеет своим условием временной характер Присутствия как вне-себя-бытия.
От экзистенциальной аналитики временности к философии возраста. Человеческое существование имеет темпоральную структуру и коренится в изначальном (экзистенциальном) времени. Исходное время размыкает сущее на временной характер его существования, включая сюда существование Присутствия как живого существа. Темпоральность в трактовке Хайдеггера – это экзистенциальная структура присутствиеразмерного сущего. Однако то, как именно реализуется трансцендентальная временность, когда мы имеем дело не с присутствиеразмерным сущим, а со стариками, детьми, мужчинами, женщинами, крестьянами, шахтерами и т. д., остается вне поля зрения экзистенциальной аналитики.
Если от фундаментальной онтологии перейти к вопросам философской антропологии как региональной онтологии, тогда обойти вниманием пол и возраст, принадлежность человека к определенной культуре, профессии и т. д. не получится. Антропология рассматривает человеческую жизнь, исходя из экзистенциального устройства Присутствия. Она учитывает поправки, вносимые в экзистирование изменчивостью тела, связанной с его биохронопоэзисом. Ее интерес фокусируется, в частности, на коррективах, вносимых в темпоральность «человека вообще» хроно-характеристиками определенного человека, которые принято относить к его возрастным характеристикам. По ходу осмысления возраста необходимо удерживать связь, существующую между темпо-ральностью (временностью) как способом быть (экзистенциальным временем) и темпоральным статусом тела (временем сущего).
Ситуативное и надситуативное время. Для корректного описания возрастной структуры жизни необходимо различать, как минимум, два уровня временения: ситуативный, который можно определить как временение «малого радиуса действия», и надситуативный. В актах временения второго уровня тесные рамки текущей ситуации преодолеваются и человек овременяет свое существование в биографическом времени. Когда за точку отсчета (за настоящее) берется жизнь в целом, надситуативное временение смещается с персонально-биографического на трансперсональный, исторический уровень. (Тему исторического временения мы здесь не рассматриваем, ограничив себя задачей описать временение на персональном, биографическом уровне.)
Понятие «ситуация» удерживает фактичность экзистенции. Человек не существует в пространстве и времени в формате «вообще», он всегда существует «в частности»: он тот, кто брошен в круговорот сущего, находится в конкретной ситуации, связан с определенными обстоятельствами и обязательствами, с которыми вынужден сообразовываться. Ситуативность имеет пространственную и темпоральную структуру. Вызов, исходящий из ситуации, по необходимости имеет форму «неотложного вызова»: ситуация, в которой мы находимся здесь и теперь, к чему-то нас подталкивает, о чем-то напоминает, чего-то от нас требует и т. д. Жизнь дергает «за рукав»: звенит будильник – просыпайся, пора на работу (на работе ждет отчет, который вчера вечером ты отложил «на завтра»); ты ставишь ногу на порог и слышишь напутствие заботливой супруги: «Танцы в семь, не забудь отвести Машу!».
Настоятельности текущей ситуации соответствует протяженность (глубина) ее сжатых временных горизонтов. Это время с «коротким дыханием»; одна ситуация сменяет другую. Действовать надо прямо сейчас, сообразовываясь с происходящим в настоящее время.
Поясним сказанное на примере. Неприятный разговор с начальством, случившийся на прошлой неделе, не выходит из головы. Этот разговор – мое ситуативное прошлое, воздействующее на поведение в настоящем и ближайшем будущем. Оно сказывается на текущем настроении, определяет мое желание избежать встречи с руководителем, хотя есть вопросы, которые надо с ним обсудить. Скорее всего, я постараюсь не попадаться ему на глаза также и завтра (мое ситуативное будущее). Но «неприятность» – лишь маленький эпизод. Через какое-то время она, оставшись в «рабочем прошлом», забудется, так и не став единицей хранения в долговременной памяти, а отношения с руководством войдут в свою обычную колею. (Однако в случае, если «неприятность» окажется крупной и завершится увольнением, она, скорее всего, войдет в биографическое прошлое: «После того злополучного разговора все у меня пошло наперекосяк… Пришлось уйти с работы. Долго не мог никуда устроиться, начались неприятности дома. Пристрастился к спиртному…»).
Ситуативное время неустойчиво и всегда находится в подвижном состоянии. Время распада текущей ситуации невелико. Даже если мы ничего не сделали, чтобы она разрешилась, она все равно разрешится («проехали, после драки кулаками не машут»). По мере решения задач предмет беспокойства из того, что неотложно, переходит в режим исполнения, а затем переходит в категорию сделанного, в то, что было недавно, но уже прошло. В определенном смысле ситуативное время в единстве трех его горизонтов всегда находится под знаком ситуативного настоящего: это то, во что я вовлечен сейчас, в чем я теперь участвую. Это прошлое настоящего и будущее настоящего. Ситуативное будущее сопряжено с делами дня и с ближайшим прошлым. А ближайшее прошлое – это прошлое в границах текущей ситуации. Ситуативное прошлое находится в непосредственной связи с настоящим и будущим актуальной ситуации. Понятно, что текущее, ситуативное время в границах недели («дело этой недели») включает в себя множество более мелких ситуаций, которые имеют свои прошлое-настоящее-будущее. Одни из них имеют отношение к «делу недели», другие же – нет. Ситуативность временения – это условность, но такая условность, на которую мы ориентируемся, которая определяет наше поведение. Длительность текущей ситуации может иметь разную протяженность: это могут быть часы, дни, недели и даже месяцы.
От ситуативного времени следует отличать время надситуативное (биографическое). Если настоящее, прошлое и будущее определяет не «злоба дня», значит, они определены надситуативно. Их пронизывает забота, но это забота из надситуативного горизонта. Между надситуативным и ситуативным временением есть связь. Ситуативная озабоченность может быть скользящим наконечником надситуативной заботы, а может и не быть. Время ситуативной озабоченности может довлеть самому себе. И тогда нас терзает сознание разрыва между намеченным в размерности надситуативного времени и происходящим теперь. Мы страдаем, что наше время уходит в песок, что обеты, которые были даны, не исполняются, что жизнь распыляется в бесконечной череде бытовых ситуаций, в которых, как кажется, нет ничего существенного, нет того, к чему стремится наше «я». Человек «длинной воли» тем и отличается от человека «короткой воли», что умеет подчинить суетливую повседневность содержанию большого, биографического времени. Он не идет за стихийно складывающимися обстоятельствами и переменчивыми требованиями среды, формирует ситуацию (ситуации) под задачу исполнения отдаленных целей. Если ситуативное время приурочено к «теперь», то надситуативно-биографическое время приурочено к «последнему будущему», к эсхатону.
Надситуативное прошлое (так же как настоящее и будущее) имеет отношение к жизни в целом, к жизни как процессу, имеющему начало и конец и структурированному заботой. Жизнь в целом – это базовая мета-ситуация, в которую вписаны как наличная ситуация, так и надситуативные акты временения. Индивидуальный век является предельным горизонтом для всех частных ситуаций, в которых конкретизируется фактичность (ситуативность) Присутствия.
Аналогичным образом и надситуативное будущее, что отличает его от будущего ситуативного (от планов на завтра, на неделю, на месяц), не определяется «злобой дня» и «текущим моментом». Это опосредованная, рефлексивная связь с тем, что еще не началось. Например, человек, работающий на севере, размышляет (мечтает) об отдаленном будущем: «Когда уйду на пенсию, продам тут все и куплю дом на юге, на берегу теплого моря!». Это пример надситуативного будущего как «другой жизни» внутри жизни, это «будущее в мечтах и планах». Оно связано с надситуативным настоящим («живу на севере, потому что здесь работа и хорошо платят») и прошлым («детство провел на юге – как же там хорошо!»). Но с текущей жизнью такое будущее не связано, хотя его и можно заставить на него работать, если, например, тот, кто мечтает о море, будет откладывать деньги на «счастливое будущее».
Большое будущее открыто для начинаний и сопряжено с прошлым. «Что в моей жизни было существенного? Что я могу вспомнить? Что вспоминается само? Как мое прошлое связано с моим настоящим и будущим? Что представляет собой жизнь? Что из того, о чем мечталось когда-то, сбылось? Какое отношение имеет мое настоящее к тому будущему, о котором я думал в прошлом? О каком будущем я думаю теперь?» Проброс в будущее предполагает соотнесенность с прошлым и настоящим в их полном биографическом масштабе. Совершая такой проброс, человек меняет регистр временения с ситуативного (тактического) на экзистенциальный (стратегический). Внимание смещается с текущей озабоченности на заботу об исполнении жизни как целого, как одной ситуации.
Связывая себя со своим отдаленным будущим и прошлым, человек набрасывает жизненные цели и проясняет персональные смыслы. В таком пробрасывании «назад» и «вперед» расположенность Присутствия (его «так есть») разворачивается до предела, до жизни в надситуативном единстве того, что «есть», «было», «будет» и что резюмируется в выражениях типа: «вот моя жизнь, такой она была до сих пор, а такой она должна быть и будет!» (в молодости), или: «…Вот она какая – жизнь» (в зрелости), или: «Моя жизнь была вот такой, пришло время завершить ее…» (в старости).
Посмотрим теперь внимательнее на то, как обстоит дело с надситуативным настоящим. Оно обеспечивает возможность текущей ситуации, но не саму ситуацию. Когда я нечто делаю или обдумываю (переживаю) – это ситуативное настоящее. Поскольку речь идет о времени, которое давно началось и – предположительно – еще долго продлится (например, «я учусь в университете», «я уже четыре года живу в браке» и т. д.), это надситуативное настоящее. Оно соотносится не с ближайшим, а с отдаленным – надситуативным – прошлым и таким же будущим, которые ограничивают надситуативное настоящее. Понятно, что надситуативное настоящее большего масштаба может включать в себя свои надситуативные настоящее-прошлое-будущее меньшего масштаба. Надситуативные времена сопряжены с теми или иными надситуативными вовлеченностями (например: «С тех пор, как я женат», «со времени перехода на новую работу», «с того дня, как я поступил в университет», «вышел на пенсию» и т. д.). Сдавая сессию, я решаю локальную задачу, которая имеет смысл не сама по себе, а как момент в достижении цели, поставленной несколько лет назад: получить высшее образование. Ситуативное настоящее с большими (надситуативными) прошлым и будущим связано не прямо, а опосредованно. Ближайшим образом множество отдельных эпизодов сопрягаются с надситуативными прошлым и будущим в границах «моего студенчества».
Говоря о над ситуативном времени как «втором этаже» временения, следует подчеркнуть его разноуровневость. Надситуативное временение, как уже было сказано, вмещает не только текущие ситуации, но и более крупные фрагменты времени, в зависимости от того, что является точкой отсчета (надситуативным настоящим).
1. Оно может быть надбиографическим (историческим). В этом случае настоящее – моя жизнь как целое, а прошлое – то, что происходило до моего рождения, будущее – жизнь моих потомков, жизнь после того, как я умру[64].
2. Надситуативное время может быть возрастным (внутрибиографическим). В этом случае настоящее – это возраст, в котором я нахожусь теперь, с которым я себя идентифицирую (например: «я, молодой», «я, старый»), а будущее и прошлое временятся в масштабе прошедших и предстоящих возрастов. Молодой человек, поскольку он считает себя таковым, имеет в качестве соразмерного молодости надситуативно-возрастного прошлого детство (от младенчества до отрочества), а в качестве будущего – возраста взрослости (зрелость и старость).
3. Надситуативное время может быть внутривозрастным. Например, время, которое я осознаю как свою молодость, как свое возрастное настоящее, включает в себя надситуативное временение, которое не выходит за рамки молодости. Вернемся для примера к студенчеству. Студенческие годы – это надситуативное настоящее, которое отделено от надситуативного прошлого внутри молодости: прошлое – это старшие классы школы, это годы, когда я думал о том, что мне делать после того, как она закончится; это то время, когда я готовился к поступлению в университет. Над ситуативное будущее в этом случае также не выходит за рамки молодости, оно воспринимается как время «после университета», время поисков, самоутверждения в профессии, время строительства семьи и т. д.
Разделение надситуативного временения на возрастное и внутривозрастное имеет существенное значение для анализа всех возрастов взрослости. Особенно существенно это различение для анализа старости, специфика которой состоит в том, что в ней отсутствует возрастное будущее, в то время как внутривозрастное будущее может сохранять свою актуальность. Так, например, старик способен связывать свое «теперь» с жизнью в нелюбимом им городе и думать о том, что надо сделать, чтобы дожить жизнь на природе, на земле. Будущая жизнь в своем доме, куда будут приезжать дети и внуки, – это его надситуативное будущее, размещенное внутри старости.