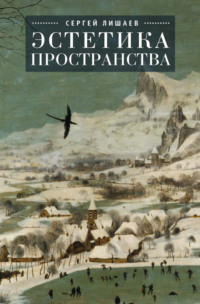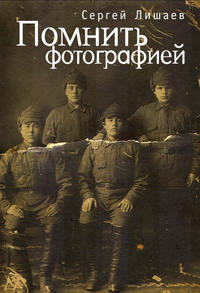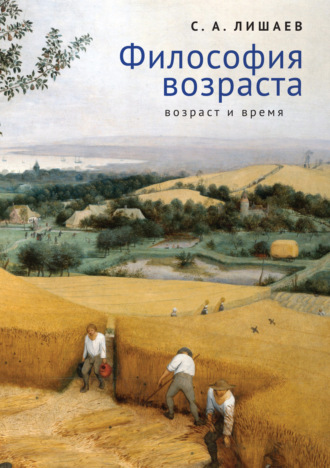
Философия возраста (возраст и время)
Известно, что М. Хайдеггер говорил о философской антропологии в контексте обсуждения шелеровского проекта антропологии как фундамента философского знания в целом[21]. В отличие от Шелера, Хайдеггер видел в антропологии региональную онтологию, в фокусе внимания которой находится человек как особый бытийный регион[22]. Стоит напомнить, что Dasein для немецкого мыслителя – это не один из бытийных регионов (не один из регионов сущего), но особое измерение, «в котором и из которого те или иные бытийные регионы конституируются и обретают свой смысл»[23]. Следовательно, необходимо различать человека как Dasein и человека, рассматриваемого как бытийный регион сущего. (Хайдеггер неоднократно – то прямо, то косвенно – упоминает о таких бытийных регионах, как природа, человек, история, язык; очевидно, что список бытийных регионов может включать в себя и иные области сущего.)
Сам Хайдеггер, работая над экспликацией ключевых моментов фундаментальной онтологии, в разработку региональных онтологий не углублялся. Интерес фундаментальной онтологии сосредоточен на экзистенциально-онтологической конституции Присутствия, на его трансцендентально-онтологическом (априорном) устройстве. Для фундаментальной онтологии интересен не человек, а его бытийное устройство, то есть то, каким образом через онтологические структуры (основоструктуры) Dasein раскрывается Бытие. «Опрашивая» присутствиеразмерное сущее на его бытийное устройство, Хайдеггер стремится эксплицировать смысл Бытия как такового.
Однако постольку, поскольку доступ к Бытию возможен только через присутствиеразмерное сущее, Хайдеггер не смог избежать недопонимания его философского проекта, связанного с тем, что многие современники и потомки мыслителя рассматривали его как одну из версий экзистенциализма или как вариант философской антропологии. Можно спорить о том, в какой мере Хайдеггеру удалось (и удалось ли вообще), обращаясь к сущему «человек», уйти от философии субъекта к фундаментальной онтологии и дать не анализ трансцендентального субъекта, не анализ антропологических универсалий, а анализ Бытия как такового[24]. Однако те споры, которые ведутся вокруг онтологического/антропологического проекта Хайдеггера, не отменяют того, что исходный пункт вопрошания в «Бытии и времени» – это Бытие, что анализ экзистенции он проводит, исходя из онтологического вопроса и в постоянной оглядке на Бытие.
Если согласиться с тем, что аналитика Dasein (Присутствия) – это фундаментальная онтология, стоит задать следующий вопрос: что произойдет, если философ, оставаясь в пределах герменевтической философии, будет всматриваться в человека и задавать вопросы не ради анализа его бытийного устройства, а ради постижения его судьбы? Мы полагаем, что такой поворот ведет к построению философской антропологии как региональной онтологии.
Данный тип антропологии будет отличаться от различных форм частных (научных) антропологий. Научные антропологии или рассматривают человека как сущее среди сущего, исследуя его в соответствии с теми или иными специальными подходами (биологическим, палеоантропологическим, медицинским, психологическим, культурно-историческим, etc.), или ищут пути к созданию интегральной науки о человеке в рамках той или иной программы междисциплинарных исследований. У региональной онтологии (независимо от того, какой бытийный регион она исследует) совсем иные задачи. Процитируем в этой связи И. Дёмина: «Региональная онтология представляет собой особого рода донаучное раскрытие бытийного региона, донаучную экспликацию его онтологических характеристик. <…> Донаучный опыт… не столько подготавливает собственно научную тематизацию сущего, сколько фундирует ее»[25].
Философская антропология предполагает иную направленность исследовательского внимания, чем фундаментальная онтология. В антропологии внимание направлено не на выявление и анализ экзистенциалов присутствиеразмерного сущего, а на исследование того, каким образом бытийное устройство исполняется в разнообразии его онтических модусов. В центре внимания антропологии как региональной онтологии будет находиться не экзистенциально-онтологическая структура Dasein (без уточнения пола, возраста, национальности, профессии и т. д.), а то, как исполняется Dasein по ходу человеческой жизни, то есть то, как, собственно, Присутствие есть тогда, когда это «есть» кем-то исполняется: пятилетним ребенком, девушкой, сорокалетним мужчиной, семидесятилетним стариком и т. д.). Философская антропология как составная часть экзистенциальной аналитики фокусирует внимание на том, как именно человек набрасывает себя на свои возможности (на возможности вот-этого сущего), как он исполняет Бытие (бытие-как-таковое, бытие-во-обще) в разнообразии онтических модусов индивидуальной жизни.
Ведущий вопрос философской антропологии как региональной онтологии можно, таким образом, сформулировать как вопрос о том, как исполняется Другое в различных модусах «со-размерного» ему сущего (Dasein). И это – не вопрос фундаментальной онтологии, рассматривающей онтологическую структуру Присутствия, ее априорные, универсальные структуры. Это вопрос конкретизации онтологической основоструктуры Dasein применительно к телесным и душевным модусам сущего, которое есть мы сами. В центре внимания философской антропологии как региональной онтологии находится человек в разнородности его онтических модусов, рассматриваемых не в себе, а в со-отнесенности с экзистенцией.
Исследование разнообразных модусов человеческого существования позволяет конкретизировать онтологическую структуру Присутствия (Dasein, бытия-в-мире, бытия, которое есть мы сами). А понимание человека как Присутствия, в свою очередь, определяет методологию анализа разнородных модусов человеческого существования, тематизируемых в рамках региональной онтологии.
В антропологии как региональной онтологии жизнь человека, взятая в многообразии ее телесных и социально-культурных модусов, будет соотноситься с тем способом, которым человек есть, с экзистированием, с выдвинутостью в Другое.
Первое (онтическая разнородность человека, многообразие форм его жизни) выпадает из поля зрения аналитики Присутствия как фундаментальной онтологии, поскольку онтическое не универсально и углубление в его анализ не дает знания априорных форм бытийного устройства экзистенции, второе (соотнесение многообразных форм человеческого существования с основоструктурой Dasein) не попадает в поле зрения позитивно-научной тематизации человека и тех философских антропологий, которые возникают за пределами герменевтической феноменологии[26].
Подведем итог рассмотрения дисциплинарного статуса философии возраста в концептуальном горизонте экзистенциальной феноменологии. В центре внимания философской антропологии как региональной онтологии находится человек в разных модусах его существования в их отношении к основоструктурам Присутствия.
Задача философской антропологии состоит в исследовании Присутствия со стороны конституирующих фактичность его существования поправок на тело (на пол, возраст, физические и психические отклонения и др.) и культуру (язык, миф, религия, искусство и т. д.).
Философию возраста как раздел философской антропологии интересуют темпоральные модусы исполнения Присутствия. Через понятие «возраст» можно рассмотреть темпоральные параметры такого исполнения. Изучение возраста в рамках региональной онтологии предполагает осмысление временных модусов существования как имеющих свое основание в устройстве Dasein. Внимание исследователя в этом случае оказывается сфокусировано на прояснении того, как те или иные возрастные формации изменяют характер экзистирования человека.
Приложения к первой главе
Приложение 1
Возраст в истории европейской философии
Не претендуя на систематический (и тем более исчерпывающий) анализ истории изучения возрастной структуры жизни в европейской философии, ограничимся краткой характеристикой основных подходов к трактовке данного вопроса в философии и – шире – в культуре разных исторических эпох[27]. Нас интересуют принципы, определявшие отношение философов к возрастной структуре человеческого существования.
Возраст в античности. Среди мыслителей древнего мира, обращавших внимание на возрастную структуру человеческого существования, – всем известные имена: Платон и Аристотель, Эпикур и Тит Лукреций Кар, Эпиктет и Сенека, Цицерон и Марк Аврелий[28]… Что определяет подход античных мыслителей к возрасту, если охарактеризовать его в целом? Античное сознание космоцентрично. Греческим и римским философам важно было понять космос (Целое). Понимание онтологической структуры космоса определяло понимание человека (и наоборот). Цельному космосу соответствовал человек-микрокосм как его часть. Исходя из того или иного понимания сущности природы и человека, мыслители древности стремились описать место, занимаемое людьми в космосе и полисе, и прояснить, как следует вести себя земнородным, чтобы не нарушить общего порядка и не причинить зла себе и окружающим[29]. Чтобы прожить счастливую/достойную жизнь, надо, как полагали древние, понимать логос мира и логос человека и, насколько это в человеческих силах, приводить жизнь (свои желания, мысли и действия) в соответствие с Целым.
Сам по себе возраст античных мыслителей не интересовал. Платон и Аристотель, эпикурейцы и стоики хотя и удерживали его в поле зрения, но (за редкими исключениями) не рассматривали специально. Возраст оказывался в поле зрения по той причине, что смертные достигают полноты сил (и теряют их) не сразу, а постепенно. Самым ценным (хотя и не самым обсуждаемым) является возраст, в котором способности человека максимально развиты и гармонизированы и в котором достигается наибольшее соответствие тому, что «ожидает» от него космос (Целое) и что предполагается его природой (сущностью). Идеальным возрастом для древних была зрелость[30].
Разные люди входят в тот или иной возраст не одновременно; они с неодинаковой полнотой реализуют возможности, которые приходят с тем или иным возрастом. Осознание данного обстоятельства пробуждало интерес к рассмотрению вопроса о правильном развитии человека от детства к юности, от юности к зрелости. Размышление о пайдейе (воспитании, образовании) предполагало внимание к еще-не-зрелым людям; интерес не столько теоретический, сколько практический. Правильное воспитание молодого поколения требовало попечения со стороны тех, кто уже достиг зрелости[31]. Зрелым гражданам следовало, полагали философы, осознанно подходить к воспитанию (образованию) детей и юношей[32].
Впрочем, даже относительная гармонизация сил и способностей не снимает вопросов, связанных с возрастной динамикой. Жизнь не всегда прерывается в зените… За расцветом следует увядание. Интерес к старости имел форму вопроса о возможности/невозможности удержания-сохранения полноты сил, достигаемой в годы зрелости. Возникал и вопрос о возможности счастливой жизни и/или «достойного завершения жизни» в старости.
Старость интересовала древних заметно больше других возрастов[33] (не случайно единственным трактатом о возрасте, написанным Цицероном, был трактат «О старости»[34]). Причина интереса в том, что древние, рассматривавшие человека как одушевленное и умное тело, испытывали затруднения относительно временной локализации зрелости. Возрастные границы зрелости размывались, поскольку, как писал Аристотель, «тело достигает цветущей поры от тридцати до тридцати пяти лет, а душа – около сорока девяти»[35]. Совершенной согласованности (гармонии) способностей достичь при таких обстоятельствах не удается: время телесной зрелости лишь отчасти совпадает со временем, когда достигается умственная зрелость. Лучшее, что есть в душе, – это ум, а ум созревает поздно, отставая от тела с его желаниями, страстями и тягой к удовольствиям (аффективное измерение души). Разум становится зрелым, когда тело и эмоциональная жизнь (у кого-то медленно, а у кого-то быстро) начинают клониться к закату. Достижение полной зрелости античные мыслители склонны смещать ближе к старости, так что лучший возраст для Платона и Аристотеля – это время, когда тело еще сохраняет силы (хотя и начинает понемногу ослабевать), а разум достигает своего (по способностям конкретного человека) максимального развития. Из-за более позднего созревания ума человек достигает зрелости ближе к старости, к возрасту от
50 до 60–65 лет. Платон полагал, что в сословие философов человек не может попасть раньше 50 лет. Но если Платон, как можно понять из «Государства» и «Законов», склонен был отождествить зрелость ума со старостью[36], то Аристотель был настроен не столь радикально. Он обращал внимание на то, что с какого-то момента деградация тела наносит ущерб и душевной зрелости человека[37].
Если говорить о рассмотрении возраста в эллинистический период, то наибольшее внимание этой теме уделяли стоики (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий) и эпикурейцы (Тит Лукреций Кар в его поэме «О природе вещей»). И те, и другие были нацелены на прояснение вопроса о правильной жизни, задаваясь вопросом о том, как прожить жизнь достойно, как прожить ее счастливо, как относиться к смерти. Нет ничего удивительного в том, что их интерес концентрировался на старости, поскольку старости и смерть – соседи. Вопрос об отношении к смерти был и вопросом об отношении к старости, и наоборот. Детство, юность и зрелость в качестве возрастов интересовали их меньше, поскольку – с точки зрения эпикурейской и стоической этики – проблемы не представляли. Важно, полагали они, осмыслить правильное поведение мудреца (того, кто ищет мудрости) в ситуации убывания жизненных сил и приближения смерти. Эпикурейцы обосновывали возможность избежать страдания и избавиться от страха смерти даже в старости и сохранить покой и невозмутимость (атараксия). В отличие от них, стоиков волновал вопрос о том, как справиться с сознанием собственной смертности, которое в старости набирает силу, и сохранить человеческое достоинство до конца жизни.
Как видим, отдельные возрасты не рассматривались древними как что-то самодостаточное (как отдельные миры). Они интересовались ими по ходу обсуждения вопросов, связанных с жизнью государства (воспитание граждан, оптимальный возраст, необходимый для выполнения тех или иных обязанностей, для занятия государственных должностей), а также в связи с решением вопросов этического плана. Тема лучшего этоса примыкает к проблематике воспитания и самовоспитания человека. Достижение счастливой/достойной жизни предполагает учет тех ограничений и возможностей, которые накладывает на человека возраст. Знать особенности разных возрастов необходимо для того, чтобы привести человека к нормативной (заданной Целым) зрелости и/или удержать, насколько это возможно, полноту и гармонию сил и способностей до смертного часа (проблема достойной/счастливой старости). Каждый возраст характеризовался и оценивался античными мыслителями через соотнесение с общим устройством космоса, определяющим человеческую природу.
Возраст в Средневековье. Средневековая мысль близка античной в том отношении, что рассматривает человека не из него самого, а из Другого. Правда, Другое в античной и христианской мысли понимается по-разному. Если в античности Другое – это космос в целом (для Платона и неоплатоников он собран в космическом уме и сосредоточен в сверхумном Благе), то в христианскую эпоху – это Бог-Творец. Имманентности Другого как Блага (Единого) противостоит трансцендентный Другой (Творец мира).
Постижение действующего «в мире сём» человека предполагает его сопоставление с Ветхим и Новым Адамом (с Богочеловеком). Христианских мыслителей интересовал человек, исцелившийся от последствий грехопадения, пришедший к Богу и стремящийся к уподоблению Ему. Средневековое искусство исходило из образа преображенного, просветленного Духом человека. С таким человеком и сопоставлялся человек падший, поврежденный, греховный.
Цельный человек недосягаем для смерти. Смерть – следствие утраты цельности (целомудрия), результат падения, следствие первородного греха. Смертные нуждаются в исцелении, в восстановлении утраченной цельности. В центре христианской антропологии находится идея восстановления падшего человека. Восстановление-исцеление человека – действительная возможность для всех потомков Адама, после того как Христос искупил его первородный грех. Голгофская жертва дает надежду на спасение через Нового Адама (через Христа) и в Новом Адаме. Преодолеть последствия первородного греха человек может подражая Христу, уподобляясь Ему в меру собственного духовного усилия и при благодатной помощи свыше.
Понимание человека в христианском мире отличается от его понимания в мире античном в том отношении, что его смерть не рассматривается как необходимый момент вечного кругооборота космических «сезонов», здесь она – рубеж, отделяющий смертную судьбу «от того, что за гробом». Не зрелости и полноты физических и душевных сил ищет христианская душа, а единения с Новым (Вторым) Адамом. Она ищет освобождения от тяжести греха, тяготеющего над жизнью «плотяного», обреченного на страдания и смерть человека. Важна не сила, а правда, чистота, святость. Совершенный человек – Иисус Христос. Потомки Адама могут спастись и обрести – после Страшного Суда – вечную жизнь, если последуют за Христом. Посмертная судьба зависит не от космических сил, а от Живого Бога, от Творца, Искупителя и Судии, и от направленности человеческой воли. Масштаб для «измерения» и оценки человека задается не Космосом, а Богочеловеком.
Христианская антропология, как и антропология античная, «измеряет», оценивает, понимает смертного человека через образ цельного человека. При таком подходе возраст не может стать (для богослова и философа) предметом самостоятельного интереса, хотя возраст и учитывается при решении сотериологического вопроса, при размышлениях над грехами и добродетелями, над таинствами исповеди и покаяния и т. д. Сотериология и христианская этика предполагали, что, следуя путем спасения, человеку необходимо учитывать, среди прочего, возрастные характеристики: разным возрастам сопутствуют разные соблазны, разные возможности познания Истины, разная мера внутренней чистоты и близости к Господу. Младенчество и детство, к примеру, привлекали внимание в связи с вопросом о том, что будет, если смерть заберет человека в «невинном возрасте», что ожидает ребенка после смерти? Попадет ли он в Царство Божие? Тяготеет ли первородный грех над младенцами? Что ожидает тех, кто не был крещен? Когда ребенок утрачивает невинность? С какого времени он должен исповедоваться перед причастием?
Изменение представления о совершенном человеке (о сущности человека) изменило и распределение внимания между разными возрастами. Дети и детство привлекали раннехристианских и средневековых теологов значительно больше, чем античных мыслителей[38]. Это связано как с евангельскими сюжетами, в которых Христос говорит о детях[39], так и с тем, что дети – это образ лично безгрешного («по возрасту») человека. Хотя дети «по роду» своему и несут в себе семя первородного греха, но персонально они невинны и их образ – подобие Адама и Евы до грехопадения.
Если говорить о старости, она привлекала внимание христианских богословов не столько тем, что в преклонные годы человеческий ум (как полагали античные мыслители) достигает максимально возможной для него зрелости (мудрости старцев), сколько тем, что старики ближе прочих возрастов к концу жизни, а значит – и к Богу, что плотские влечения, как и искушения духовного порядка (гордость, тщеславие), с обветшанием плоти и приближением смерти ослабевают. Старый человек ближе к Богу и свободнее от суетных помышлений, чем тот, кто молод или зрел. Именно поэтому старики мудрее молодых и зрелых. Мудрость – это святость, чистота, просветленность (христианская мудрость не тождественна «мудрости мира сего», она не совпадает ни с развитостью интеллекта, ни с опытностью, ни с объемом теоретических знаний).
Как видим, возрастные формации, в которых власть плотского начала и страстей над человеком слаба (детство и старость), в христианском миропонимании получают положительную оценку. В слабости человек учится смирению и благодарности. Ущербные с точки зрения «языческой мудрости» модусы существования (детство и старость) здесь приобретают положительные коннотации (бедность и болезни, нередко сопутствующие старости, оцениваются как поучение, даже как посещение Божие, детство прочитывается через чистоту и невинность, свободу от страстей…). Масштаб, с которым христианская мысль подходит к человеку, – святость как преображение имманентного трансцендентным – таков, что в круге света оказывается не сила (тела, души, ума), а чистота. По этой причине детство и старость оказываются в привилегированном – по сравнению с молодостью и зрелостью – положении. Определенный интерес к возрасту в христианском богословии не привел (и не мог привести) к созданию теологии возраста, так что авторы, которые предпринимали опыты связного изложения христианской философии/теологии возраста, вынуждены заниматься ее реконструкцией[40].
Гуманистический поворот и открытие возраста. Ситуация с пониманием человека начинает меняться, хотя и медленно, с эпохи Возрождения. Гуманистическая революция акцентировала внимание на человеке как самостоятельном деятеле. И хотя вплоть до эпохи сентиментализма и романтизма человека понимали через сущность, которая мыслились как заданная Богом или Природой, именно с этой эпохи внимание мыслящей части общества фокусировалось – и чем дальше, тем больше – на человеческих возможностях безотносительно к какому-либо заранее заданному масштабу. Важным становится не соответствие от века установленному порядку, образу жизни и мысли, а возможность творчества, обновления себя и мира, возможность свободного само-определения, по ходу которого «я» конкретизирует свою сущность (Доопределяет ее, хотя – пока что – и не конструирует ее произвольно). Концентрация внимания на человеческой активности, на способности выходить (в своей творческой деятельности) за границы данного, установившегося, привычного должна была привести (и привела), с одной стороны, к подрыву представлений о мире как о ставшем и, с другой стороны, к подрыву представления о предопределяющей жизнь земного человека его сущности.
В горизонте вопроса об исторической динамике философской рефлексии над возрастными модусами это означает, что направление, в котором она развивалась, должно было привести к проблематизации возраста как феномена человеческого самосознания, к его высвобождению из-под власти представления о сущности человека и к появлению потребности в анализе (в том числе философском) возрастов и возрастной динамики. Логика трансформации европейской культуры вела к тому, что отношение к возрасту стало определяться не представлением о сущности человека, а фактическим раскрытием возраста в человеческой жизни как длительности. Теперь анализ возрастных модусов конкретизирует понятие «человек» применительно к человеку, который имеет собственное имя.
Впрочем, мы забежали вперед. Посмотрим на то, что происходило с познанием возраста в Новое время.
Движение в направлении, открывшем возраст для философского исследования, длилось несколько столетий, на протяжении которых возрастная динамика рассматривалась через представление о «человеке вообще», через представление о вечной, от века данной сущности (которая разными авторами понималась, разумеется, по-разному).
Наибольшее внимание, по традиции, уделялось детству, поскольку воспитанию и образованию в эту эпоху придавалось все большее значение. В середине XVII столетия педагогика начинает обособляться от философии, хотя вопросами воспитания и образования по-прежнему занимаются люди с философской подготовкой. Сочинения Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. Песталоцци заложили основы возрастной психологии и педагогики[41]. Но возраст не стал для них самостоятельной проблемой, он интересовал их в той мере, в какой требовалось учитывать возрастные особенности при решении конкретных воспитательных и дидактических задач.
Особняком в истории обособления темы возраста как особого направления для теоретической рефлексии стоит творчество Ж.-Ж. Руссо с его книгой «Эмиль, или О воспитании»[42]. Появление «Эмиля», с одной стороны, стало симптомом «сдвига на глубине» (на уровне базовых интуиций культуры), с другой – запустило процесс пересмотра традиционного отношения к возрастам. Ж.-Ж. Руссо открыл обществу то, что уже давно пробивалось к свету понимания, но в полной мере осознано не было: взгляд на детство как на особый мир[43]. Руссо протестовал против авторитарной педагогики, которая «постоянно ищет в ребенке взрослого»[44]. Критикуемый мыслителем подход педагогов XVII–XVIII столетий к образованию был плодом традиционной антропологии, смотревшей на земного человека через его извечную природу. Эта природа для «века разума» (как и для античной мысли) четче всего являла себя в образе зрелого (взрослого) человека; среди зрелых людей она, в свою очередь, в наибольшей мере выражается наиболее разумными людьми: это образованные люди, это ученые и философы.