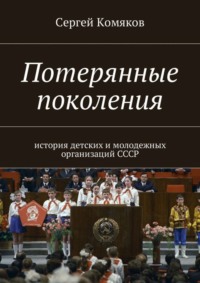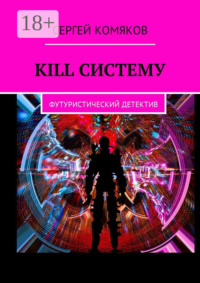Запрещенная Таня
Ополченцы, показывая места приземления диверсантов и рассказывая об их пленении, была радостно возбуждены, а вот милиционеры хмурились. Татьяна поняла, что пожилые ополченцы еще не поняли, куда они попали, а милиционеры понимали, что такая удача больше вряд ли привалит. Ее поразил остановившийся взгляд милиционера заныкавшего нож одного из пленных диверсантов. Татьяна осторожно взяла этот кусок металла с тяжелой деревянной рукояткой. На широком клинке была выбита дата «1936», а коричневое дерево рукояти было заполировано умелой рукой.
– Вот так, – вздохнул миллионер, забирал клинок у Татьяны, и вставляя в ножны на поясе. Она поняла, как не хочется ему встретиться в бою с настоящим хозяином такого ножа, и насколько эта встреча неизбежна.
Между тем веселые ополченцы, одетые в какую-то причудливую полувоенную форму показывали ей позиции их ополченческого батальона. Позиции были устроены по всем правилам военной науки, освоенной ополченцами на занятиях по гражданской обороне.
– Каждый день меняем, – похвалился командир ополченцев, показывая свежие зеленные ветки деревьев, закрывавшие траншеи сверху и по мысли командира маскировавшие их с воздуха.
Но кроме маскировки у ополченцев не было ничего для отражения налета. Все тяжелое оружие ушло на переформирование фронтовых частей, после прорыва немцами Лужской линии. А на территории Бадаевских складов было только три пулемета в больших и глубоких капонирах. Пулеметы стояли на самодельных зенитных станках. Примерно такие были изображены в книжках о Гражданской войне. Пулеметы крепились на обводах стальных колес, укрепленных на стальных спицах. Это позволяло наводить пулемет по горизонтали, пояснил командир ополченцев. А для наводки по вертикали использовался какой-то странного вида стопор. Пока ополченец расписывал Татьяне надежность этого старого пулемета и где храниться запас воды необходимый для длительной стрельбы, она смотрела на задумчивое лицо милиционера в синей гимнастерке. Милиционер не смотрел ни на пулемет, ни на ополченца, ни на Татьяну. Его глаза остановились на недалеком леске, за которым уже был фронт.
18
Самолеты прошли над Бадаевским складами. Разрывов зенитных снарядов вокруг них тало меньше. Но с земли практически сразу стали подниматься дымки пожаров.
– Пойдемте вниз, – это Александр Николаевич тронул Татьяну за руку, – нам еще работать.
Его каска сидела на голове плотно, но лицо было бледным.
– Вам работать, – ответила Татьяна, ей совсем не хотелось идти в сумрак затемненного при налете Дома Радио и сидеть в молчаливом страхе, как перед новым бомбовым ударом немцев, так и перед обсуждением увиденного. А совершенно невыносимым было то, что сейчас было нужно написать что-то правильное и патриотическое, то, что покажет как сильны ленинградцы, как легки для них немецкие бомбовые удары.
Александр Николаевич посмотрел на дым, поднимавшийся над Бадаевскими складами. Этот дым уже сливался с сумраком, но отблески пожаров уже подкрашивали его.
– Мы там ничем не поможем, – сказал он сипло, – у нас есть своя работа. Свой боевой пост.
– А вы думаете, что мы сражаемся на нем лучше, чем они там, – и Татьяна зло кивнула в строну складов. Она подумала, что все их радио с комическими и беспомощными репортажами, прерывающимися сводками Совинформбюро ничто иное как старые пулеметы ополчения на некрашеных стальных колесах.
– У нас своя работа, – потупился Александр Николаевич, – мы такие же бойцы Родины, только наш фронт это радиоэфир.
Отвечать на эту дурь Татьяне не хотелось, и она резко отвернулась от Александра Николаевича. Там – вдали уже разгорался пожар на складах.
Александр Николаевич потоптался и пошел к лестнице. Он не погибнет, а просто попадет в первую блокадную зиму. Не придет на работу, его не окажется в больницах, а в ЗАГС не поступали документы о его смерти. С таким долго мучились кадровики и секретчики. Ведь они могли попасть в больницы или быть эвакуированы вместе с семьями или больными. Иногда они пропадали без следа, и никто не хотел гадать, что стало с ними.
Рабочее расписание и рабочее место таких пропавших медленно занималось живыми, как медленно зарастает открытая рана. И только десятилетия спустя в товарищеских посиделках как-то вспоминались такие ни живые, ни мертвые и медленно замирал разговор как бы желая исчезнувшим быстрой и легкой смерти или долгой но невозможной жизни.
19
Начинало холодать. Татьяна уже носила теплое пальто и шляпку. Миша дождался ее после работы, что было тяжело.
– Смотри, – Миша оказал ей какую-то черную пыль, труху, – мама вчера собирала.
– Что собирала? – не поняла Татьяна, поднимая воротник.
– Остатки сгоревшего на Бадаевских складах. Ты же там была. Подумал, тебе будет интересно.
Она кивнула.
– Когда склады потушили, да они выгорели все. Сил потушить их не было. На их место стали ездить и собирать то, что осталось. Вот что там собирают.
Он как-то спокойно высыпал черную труху на стол.
– Зачем это собирают, – спросила Татьян с брезгливостью и страхом, смотря на черную жирную труху. Эта труха напоминала жирную пыль с крупинками черного угля.
– Старшее поколение, боится голода, – охотно пояснил Миша, – у кого есть время, ездят туда, разгребают большие кучи золы и находят там что-то. Если это хотя бы немного съедобно, то везут к себе домой. Ты же знаешь, что выдача по карточкам будет сокращаться.
Так труха стала оживать приобретать человеческое тепло. Татьяна положила ладонь на кучку черной золы. Зола действительно была жирная, скорее всего это была сгоревшая мука вперемешку с сахаром. Черные кристаллы – угольки были пересыпаны мучной пылью. И там была земля, земля, пропитанная жирным сахаром, но еще не кровью.
– Нас это ждет, – тихо спросила Татьяна, – это мы прогоревшие и пережженные этой войной.
Он поджал губы, отвернулся. Татьяна отметила, как сгорбились его плечи. Ей уже не хотелось, чтобы он сегодня провожал ее домой.
– Миша, ты не ответил.
– А что говорить, – резко обернул он, – вот доживем и увидим. Зачем нам сейчас это обсуждать? Что я могу сделать. Давай доживем.
– Если доживем.
Миша попытался сменить тему:
– Я, почему этот разговор начал. Мама говорила, что склады были разгромлены все. Они не были защищены с воздуха и немцы их разнесли полностью. Там ничего не осталось. Только это, – он снова кивнул на горсть пепла.
Миша еще раз посмотрел на труху и выбросил ее на тротуар. Потряс руку, а потом вытер ее о газету. С каким-то брезгливым сожалением Миша посмотрел на газету, свернул ее и засунул в большой карман своего плаща.
– Там были люди, – Татьяна посмотрела на Мишу, – я их видела там. Когда ездил за репортажем. Ополченцы и милиционеры. Сотни три. А вся защита с воздуха три старых пулемета. Они там были. Я их видела живыми.
Миша тяжело вздохнул:
– Там ничего не осталось. Все ополченцы в одной большой могиле. Там же и милиционеры. Они должны были охранять склады и не могли укрыться. Приказ был таков: не допустить диверсии на складах. Боялись того, что во время налета диверсанты подожгут склады. Так и стояли под бомбами. Немцы их бомбили, а они не могли даже укрыться в блиндажах.
– Почему? – недоуменно спросила Татьяна.
– Таков был приказ, – Миша поджал губы, они слились в тонкую полоску, – они же там не сами по себе были. Их послали по приказу.
Татьяна вспомнила того задумчивого милиционера с трофейной финкой германского диверсанта. Тогда ее потрясла грусть в его взгляде. Как будто он уже тога поникал свою судьбу. Он уже простился с жизнью, а трофейная финка была как тяжелые пятаки на глаза живого мертвеца. И как были веселы ополченцы «пымавшие» немца, оказавшегося совсем не немцем, а старым нашим.
Миша пожевал нижнюю губу и отвернулся к окну закрытому светомаскировкой.
– Мама видела как пожарные, и приехавшие милиционеры сносят в могилы трупы.
Татьяна посмотрела на Мишино лицо серое в усталости:
– Эта война разделяет нас.
– На живых мертвых? – спросил он.
– На понимающих и не понимающих. Эти ополченцы так и не поняли, что немцы разбомбят их. Вот и не прятались по своим блиндажам. Хотя от них тоже защита не велика, но все же. Они все верили им из Смольного, – она кивнула в сторону центра Ленинграда, – хотя они и послали их стоять под немецкими бомбами.
Миша взял ее за руку вышел локтя. Сегодня Татьяна не возражала.
20
Войну вели ужасно. Татьяна осознавала, что герои революционной войны не могли остановить немцев. И с первых дней такие домашние имена Тимошенко, Буденного, Ворошилова, стали вытесняться резкими, как молнии немецкими именами Бока, Гудериана, Клейста, Гепнера, Лееба. Эти громкие имена, которые советские люди слышали уже в 1940 жестко и артикулировано били по вискам: «танки Лееба» перешли Двину, «Клейст взял Пинск», « войска Гепнера заняли Новгород». Обычные граждане не запоминали имен германских генералов, для них они были какими-то расплывчатыми немцами, накатывающимися с запада. Эта расплывчатость меньше пугала, позволяла понять, что можно биться с теми плакатными немцами, что красноармейский штык проткнет брюхо немецкого барона.
Уже первые поражения поставили перед Татьяной те же вопросы, что и перед десятками миллионов, которые еще могли думать. И не боялись думать.
«Почему столько лет готовились и почему такое произошло?»
«К чему готовились наши генералы и былинные маршалы?»
И самое тревожное и страшное:
«Когда и где это прекратиться?»
Через день после Бадаевских складов немцы ударили по городу. Сразу шестьдесят самолетов пошли на город. Несколько прорвались к центру и сбросили бомбы. Тогда большинству стало страшно. Этот первый удар не был сильным, но он только показал, что скоро все станет куда тяжелее.
По городу уже ползли безумные слухи. Так рассказывали, что центр разбомбила шестнадцатилетняя летчица. Ее самолет удалось сбить уже на окраине. Когда погас пожар, то в смятой кабине нашли только маленькое тельце шестнадцатилетней летчицы, в которое плавился железный крест.
Якобы этот крест вручил ей лично Гитлер, а она научилась летать в восемь лет, а в годы войны уже совершила несколько сот вылетов, бомбила Англию и Грецию.
Когда пожарные загасили пламя и принесли этот Железный крест, оплавленный с загнутыми концами своему начальнику. Тот долго рассматривал его, держа на ладони своей брезентовой рукавицы, а потом бросил на землю и стал топтать.
Так же говорили, что за смерть этой летчицы немцы будут особо мстить. Так приказали Гитлер и Геринг.
За два дня Татьяна встретила семь человек знакомых, которых убила именно это немецкая летчица. По их рассказам она бомбила Ленинград причудливым зигзагом, убивая на своем пути людей и собак.
Вся эта дичь предвещала массовую панику, когда немцы подойдут к окраинам города. Они были уже близко. Татьяна не знала этого, но чувствовала по тону сводок и по тому, как все больше мужчин из ленинградского руководства появлялись на работе в неглаженных рубашках. Они вывозили семьи, и некому стало крахмалить, выглаживать манжеты и воротники. Потом костюмы заменили полувоенные френчи, за которыми было не видно мятых серо-белых сорочек. Все эти безымянные совслужащие так и пройдут блокаду в этих френчах.
21
Татьяна заметила, что последнее время у не трясутся руки. Пальцы. Не попадают по вылезшей из коробки папиросе. Сначала она думала, что это от привычки старого курильщика не потерять последнюю папиросу. Но сегодня на Радио выдали «Казбек» по карточкам выдали роскошно – по восемь коробок в руки. А помзвукорежа Марина Анатольевна обменяла ей свой «Казбек» на три Татьянины банки консервированного молока. И открыв пачку свежего «Казбека» Татьяна поняла, что руки дрожат не из – за страха потерять папиросы. Он дрожат из-за страха. И от напряжения.
После отговаривания карточек пришлось писать сводку. В ней опять не было ни правды, ни убедительности. Она написала ее быстро и просто. Так же быстро и просто е пробубнил диктор. Закончив слушать эфир, Татьяна поняла, что этой сводке не верит никто на Радио. А может, не верит никто и в городе. Во всяком случае, из тех, кто может думать, не верит никто.
С таким мыслями она вернулась в свою комнату. Положила пакет с продуктами на буфет. Села, не раздеваясь на стул рядом.
– Почему они так ведут себя? – спросила у пустоты Татьяна.
– Что ты имеешь в виду? – переспросил Коля.
– Почему советская власть так относиться к нам? Почему они не расскажут всем правду?
– Правду, – переспросил Коля.
– Да. Правду. Мы о ней в мирное время не слышали. А теперь ее нет и подавно.
– Какую правду? – очень тихо переспросил Коля.
– Как какую? – Татьяна, наконец, расстегнула пуговицы пальто, – она только одна и есть. Настоящая.
– Что ты такое говоришь? – глаза Коли заметались по стенам комнаты.
– Наверное, я о том, что надо бы следовать собственным лозунгам.
– Татьяна, – прошипел Коля, – сейчас не время.
– Да, – кивнула она, – не время и не место. Скажи еще, что по законам военного времени сейчас шлепнут без некролога. Так у нас и в мирное время было так же. Раз. И пропал человек.
– Таня, прошу тебя, – пробурчал Коля.
Лицо его стало белеть, глаза сильно моргали. Татьяна испугалась, что сейчас у Коли начнется приступ. Она быстро достала две таблетки люминала и дала Коле, а разговор решила продолжить уже в другом месте и с другим человеком.
Миша был счастлив увидеть ее. Его университет частично уже эвакуировали, но он под эвакуацию не попадал. Не были у Миши ни семьи, ни детей, а мать – старушка не учитывалась советской властью. Все это его не смущало, тем более, что ему добавили часы лекций и студентов.
– Представляешь, – громко сказал Миша, – если так пойдет и дальше, то я стану завкафедрой еще до зимы.
– Это война, – сказала Татьяна, – потери двигают наше общество быстрее, чем мирная жизнь.
– Я не попаду под мобилизацию, – так же громко сказал Миша, – у меня и язва была, но главное туберкулез. Он, вроде, прошел, но плеврит остался. В эвакуацию не берут, но и на фронт тоже. Буду расти здесь. В тылу!
Татьяна переступила через кучу грязи – город убирался все хуже и хуже:
– Почему они молчат?
– Кто они? – не понял Миша.
– Наши власти. Отцы города.
– Ну как так молчат? – почему-то Миша посмотрел по сторонам. До комендантского часа было еще рано и патрулей на улице было мало.
– Они не говорят нам всей правды, – упрямо повторила Татьяна, – на фронте совсем не так, как говорят в сводках. Они все это скрывают и от нас и от вас.
Как хорошо, что Миша не знал ее пару лет назад. Коля сейчас бы оборвал ее и прошептал бы: «Ты что. Опять захотела в подвал большого дома?». Миша ничего о ее запретном прошлом не знал и не перебивал ее. Во всяком случае, пока.
– Во время войны, – очень серьезно сказал Миша, – никогда не говорят всего. Враг имеет уши везде.
– Ты имеешь ввиду нашу советскую власть, – обычным тоном спросила Татьяна.
– Советскую власть? – опешил Миша.
_ Да. Под внутренним врагом, имеющим уши.
Миша резко остановился и дернул Татьяну за локоть:
– Что ты такое говоришь?
– А я думала, что ты не решишься на такое. Во всяком случае, пока мы не переночуем вместе, – с легким смешком отстранилась она.
Миша сумрачно смотрел на нее. Он стоял и машинально тер большим пальцем правой руки фалангу указательного пальца. Татьяна поняла, что он уже думал об этом, хотя и боялся думать.
– Ты думаешь, все они, – Татьяна кивнула в сторону уже пустой мостовой, где недавно ходили люди, – не думают об этом?
– Не думают, не все думают, – тихо сказал Миша, – те, кто много думали, уже вообще не думают.
Татьяна засмеялась чмокнула Мишу в шоку и побежала домой легким шагом влюбленной женщины.
22
Они шли с Мишей, который ждал ее после работы. Миша жил в коммуналке с мамой школьной учительницей. Сын пошел дальше и стал кандидатом наук и доцентом. Миша смеялся, что после того как он защитил диссертацию мама перестала говорить ему о литературе, но часто напоминала, чтобы он одел шапку:
– Она считает, говорил он, что все ученые такие рассеянные, что все забывают.
– А ты не такой, – улыбнулась Татьяна.
– Как видишь, нет, – Миша рассмеялся, – ведь тебя не забыл.
– Не надо, – Татьяна, сказала это какие-то серьезно- скрипучим голосом, – не надо. Сейчас не время и не место. Скорее всего, не время.
– Время всегда одно, – как-то неуклюже отметил он.
– Ты ничего не знаешь обо мне. А я не хочу тебе ничего говорить. И если ты думаешь, что в стихах можно понять человека то заблуждаешься.
Они несколько минут шли молча. Город был темен – светомаскировка делала свое дело. Часто встречались патрули милиции и домкомов. Страшно не было, но казалось настороженность разлита в воздухе.
– Знаешь, – неожиданно тих, сказал Миша, – мы с мамой жили восемь лет с соседом. Кто он уже, наверное, не важно. А вчера во время налета.
Миша замолчал. Он обернулся по сторонам. И как-то странно поправил кепку.
– Что во время налета, – машинально переспросила Татьяна.
– Во время бомбежки сосед открыл окна своей комнаты, включил все лампы и закричал, гладя на надвигавшуюся волну черных германских самолетов: «красота-то, какая немцы пришли!», – очень тихо рассказал Миша, – наверное, его комната уже свободна.
Татьяна хрустнула пальцами:
– Ты думаешь это очень интимно? Рассказывать истории, за которые дают немалые сроки? Может ты считаешь, что это меня возбуждает? Или это позволит тебе подобраться ко мне ближе?
– Нет, нет, – сказал он, – я о том кто кого и как долго знает. Можно знать человека очень долго, а потом получить такое.
Она кивнула:
– Можно и так, а можно и наоборот. Если тебя это интересует, то я замужем. Он хороший человек, а жизнь у нас как у всех. И не лучше и не хуже. Разве, что детей нет.
– Хороший человек, – тихо сказал Миша, – хороший, а не любимый.
– И не начинай, – прервала его Татьяна, – в семейных отношениях много основано не на сиюминутных чувствах, когда кипят эмоции, а на то, что пережито вместе. Это фундамент семейной жизни, а эмоции, порывы только краска на стенах этого дома.
– Ты мне говоришь это потому, что знаешь, что я не оставлю тебя? – поинтересовался он.
– Да, согласилась Татьяна.
Мимо прошел патруль местного домкома: две тетушки преклонного возраста старательно шагали рядом с крупным мужчиной через плечо, которого висела санитарная сумка. Когда шаги патруля стихли, она сказала:
– Ты не из тех, кто, узнав, что женщина замужем попрощается и исчезнет навсегда. Но ты должен значить, что все сложнее и одним напором и верностью мои семейные проблемы не решить.
Миша снова поправил кепку:
– Наверное, во время этой войны я вырасту.
– Во всех смыслах? – рассмеялась Татьяна.
– Во всех, – согласился он, – мертвые не берут с собой ничего. Но когда они умирают, то не знают об этом.
– Если ты о том, что он тяжело болен. То это правда. Но я ему обязана спасением. Или считаю, что обязана. Или он это считает. В общем, нас связывает куда больше, чем совместная комната.
– Семья, муж, жилая комната, общие воспоминания, – тихо повторил Миша.
– Да, – ответила она, – иногда я думаю, что этот больной человек это я. Такая же больная и раненая птица. Подбитая жизнью. Я понадобилась ему, когда меня только выпустили из тюрьмы. Не думаю, что кому-то была нужна. Да и себе была не нужна.
Сзади зашаркали шаги патруля. Их обогнали все те же три человека укреплявшие свой страх ежевечерними обходами.
Миша кашлянул:
– Это было давно.
– Нет, – покачала головой Татьяна, – для меня это было недавно. Может как вчера. Вся моя жизнь после ареста Кости. Как сжатая пружина. Я недавно это поняла. Она тогда сжалась. И сейчас идет и идет, а ее нет. Нет этой жизни. Радио есть, стихи есть, мужчины есть. А жизни ее нет.
– Может потому, что нет детей?
– Нет, – Татьяна помолчала, – они не спасли бы. Хотя без них и тяжело.
– Думаешь, завтра будут бомбить? – неумело сменил тему разговора Миша.
– Не задавай идиотских вопросов, – ответила она после долгой паузы, – они теперь будут бомбить нас всегда. До самого конца. Их или нас.
– Значит, – шепотом сказал Миша.
Татьяна прервала его:
– Это значит только то, что не надо относиться ко мне как к комсомолке. И лапать между ног во время разговора о диомате. Тебе понятно?
– Да.
– Вот и да, – ей показалось, что похоть всегда мешает понять человеку что-то выше и получить нечто большее. Такая простая и наивная похоть. Естественное желание продолжить род омерзительно, когда она сопрягается с высшими истинами. Чувство эстетического меркнет, когда концерт в летнем театре заканчивается в ближайших кустах. И дело не в мятой юбке и отпечатках грязи на кофточке. Нет, дело в тоскливом неумении сделать все это красиво. Спокойно и достойно, как должны это делать мужчина и женщина. Так и советская власть, – подумалось ей, – так и она имеет несчастный народ. Мнет, жмет его, заставляет пахать за краюху хлеба и четыре квадратных метра коммунальной комнаты без горячей воды и канализации. Советская власть, насилующая русский народ показалась интересной аллегорией. Вот только народ этот не сильно сопротивлялся, а как покорная деревенская баба сносил и побои, и насилие и неиссякаемую работу.
– Нравиться, наверное, – вслух сказала Татьяна.
– Что, – не расслышал Миша.
– Я про то, что другим это, наверное, нравиться.
– Понятно.
– А ты подумал, что ломается все эта баба? Да?
– Да.
– Но я не про себя. Хотя к тебе это тоже относиться. Нравиться нам, что нас вчерную сношают. Всему народу нравиться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: