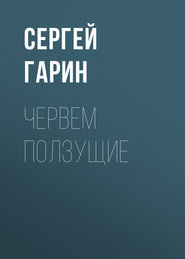По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Борька
Год написания книги
1915
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего, ничего… Погоди, кажется, что-то еще есть!
Она долго копалась в духовке, гремя кастрюльками. Наконец, принесла на стол чугунок с холодной картошкой в мундире и обгрызок вареного мяса…
Борька стал есть, как проголодавшаяся собака, давясь и глотая большими кусками, а Авдотья Семеновна зажгла керосинку и, пока поспевал кипяток, рассказывала о себе и о своем муже, вспоминая прежнюю жизнь, когда они жили не так бедно, как сейчас.
– Вот до чего дошли: в одной комнате живем, с хлеба на квас перебиваемся! – говорила она, стоя то у керосинки, которую поставила на плите, то перед Борькой, лохматая и полуголая… – А все потому, что жизнь с каждым днем все дорожает, а жалованье все то же! Да и болеть муж стал за последнее время, на это тоже масса денег идет!.. Ешь, ешь картошку-то… сейчас и кипяток поспеет, чайку тебе заварю!.. Так вот я и говорю: болеет! – продолжала она, присев на кровати и кисло улыбаясь. – А разве можно при нашем положении болеть?!.
От нее сильно пахло водочным перегаром; все лицо опухло от пьянства и беспутной жизни, и лежала на нем печать нужды и постоянного недовольства жизнью. Но Борьке Авдотья Семеновна казалась сейчас бесконечно хорошей – так он был ей благодарен за то, что она его впустила.
После двух стаканов чая, Борьку стало клонить ко сну. Было и поздно, да и тепло и сытый желудок разморили… С согласия Авдотьи Семеновны юноша снял ботинки и куртку и, как сноп, бросился на сундук…
Проснулся, почувствовав сквозь сон, как кто-то сильно тормошит его. И спросонок, да в темноте, не сразу понял, что рядом с ним лежит Авдотья Семеновна, тянувшаяся к нему губами.
– Да проснись же! Экий ты какой! – шептала она, прижимаясь к юноше.
Борька был целомудрен, и женщина смутно еще жила в сознании его. И внезапное появление Авдотьи Семеновны заронило в душу его необъяснимый ужас и отвращение. Он испуганно стал отбиваться, но, видя, что это не помогает, и Авдотья Семеновна становится все энергичнее, выскользнул, как змея, из ее объятий и соскочил с сундука, трясясь всем телом…
Вскочила и Авдотья Семеновна…
– Дурак! – взвизгнула она злобно и стала зажигать лампочку, – чего ты: ошалел, что ли?!. Идиот!..
Борька не отвечал. Толстая и лохматая женщина, облитая желтым светом, казалась ему противной и мерзкой ведьмой…
– Мальчишка! Сопляк!.. – продолжала она, стоя перед Борькой с перекошенным лицом, – ему, идиоту, честь делают, а он… накось тебе!.. Пошел к чёрту! – вдруг крикнула она, сжимая кулаки и наступая, – чтобы духу твоего здесь не было!..
И пока Борька, трясущимися руками, надевал ботинки и курточку, она продолжала издеваться и оскорблять; затем швырнула в лицо ему фуражку и заперла за юношей дверь, сквернословя и чертыхаясь.
Очутившись вновь, так неожиданно, на площадке, Борька даже заплакал. Но что-нибудь предпринять было нужно, и он вышел на двор, разыскал окно сторожки, вызвал стуком дворника, и когда тот, бурча что-то себе под нос, открыл ворота, – быстро побежал по белевшей уже от снега улице…
III
Серый рассвет вползал в город, и на фоне его все предметы казались сумрачными и безнадежно холодными. Снег перестал падать, но небо было закидано тучами, грязными, обрывчатыми, словно тюками дешевой ваты. На перекрестках одиночками стояли пролетки с вялыми, мокрыми лошадьми, с дремавшими на козлах извозчиками… И темными пятнами, как чернильная клякса на сером сукне, торчали посреди улицы фигуры городовых, в накидках, с поднятыми капюшонами.
Борька шел уже полчаса совершенно без цели… Когда вспоминалась фигура озлобленной Авдотьи Семеновны, лохматой, в одной, спавшей с правого плеча, сорочке, юноша нисколько не жалел об утраченном тепле, – до того противны были поцелуи этой женщины, похожие на прикосновение жабы…
Так, незаметно, дошел до Тверской, пересек Страстную площадь и направился к киоску трамвая, думая там укрыться до полного рассвета.
На площади никого не было, но вот дорогу Борьке пересекла чья-то темная фигура, пошедшая впереди, все время оглядывавшаяся. Приглядевшись, Борька распознал женщину, одетую в короткий зимний сак и меховую шапочку. И вдруг женщина замедлила шаги, поравнялась с Борькой и задорно крикнула:
– Молоденький! Пойдем ко мне!..
Борька знал, что есть женщины, которые гуляют ночью по Москве и зазывают к себе мужчин. Знал, как их называют, но вблизи никогда их не видел.
Женщина продолжала идти рядом, повертывая к Борьке лицо, изредка лишь закрывая его от ветра меховой муфтой. Насколько можно было рассмотреть лицо ее – она была молода и красива.
Борька шел молча, неуверенно шагая, косясь на соседку.
– Куда же ты идешь, миленький? – не отставала спутница. – Батюшки: да на тебе пальта нет?!. – вдруг вскрикнула она и остановила Борьку. – Постой: почему же на тебе пальта-то нет?!.
– Нет! – коротко ответил Борька, пожав плечами.
– Да, ведь, холодно… А?..
– Очень!
– А где же ты живешь?..
– Нигде!..
Сказал это просто, страшно просто, и в этой именно простоте вылился весь ужас им пережитого.
Спутница начала еще пристальней рассматривать Борьку.
– Знаешь что, – потянула она его за руку, – пойдем ко мне!
Инстинктивно чувствуя, что может быть в данном случае нужны деньги, Борька решил быть откровенным.
– У меня нет денег! – сказал он глухо, опустив голову.
– Вот глупенький! Да разве я от тебя денег хочу?! Да будь у тебя деньги, ты первым долгом пальто бы себе купил! Пойдем! – сказала она решительно и взяла Борьку крепко под руку.
Юноша беспрекословно повиновался. Они прошли до первого извозчика и поехали обратно. По дороге, женщина заставила Борьку взять ее муфту, обвязала ему шею своей горжеткой и так сразу расположила к себе, что юноша рассказал ей все подробно, как выгнали его из дому, и что он эти дни перенес.
Извозчик остановился в переулке около большого, кирпичного дома. Подъезд был незаперт. Женщина повела Борьку в третий этаж, где французским ключом открыла парадную дверь и пошла по коридору. Юноша шел за ней. Вошли в комнату; женщина зажгла электричество. Борька увидел широкую, красивую кровать, с шелковым одеялом, пузатый комод между двумя окнами и мягкую мебель в правом углу.
– Ну, вот мы и пришли! – она, улыбаясь, стала снимать шапочку и сак – Садись, миленький, и чувствуй себя, как дома!
Борька стоял посреди комнаты и нерешительно мял в руках фуражку. Женщина подошла к нему вплотную.
– Ты ведь, знаешь… кто я?..
– Он не отвечал, а только застенчиво улыбался, смотря на нее, молодую, курчавую, с ясными голубыми глазами, похожую на куклу.
– А она села рядом, на кресло, заставила сесть и Борьку и продолжала, положив пухлую, красивую руку на колени Борьки:
– Я – проститутка, миленький! Так-то!.. Но только нет у меня ни хозяев, ни друга милого! Никого!.. Вольна я, как ветер в поле!.. Хочу – гуляю, не хочу – вот на этой самой кровати лежу и в потолок смотрю!.. Ну, чего же ты задумался?..
Новый мир открывался Борьке. И жутко было здесь сидеть, и, в то же время, приятно. Мало видел Борька в короткой своей жизни ласки, и редко кто с ним так задушевно говорил… И пережитое ли за эти дни, или грустное и бесцветное детство, но что-то сжало сейчас грудь юноши острой спазмой, и из глаз Борьки ручьем хлынули слезы. Он не старался удерживать их и плакал, смотря на приютившую его доверчивыми, полными слез глазами.
Женщина сначала удивилась, схватила Борьку за руку, а затем сползла вдруг на пол и припала курчавой головой к мокрому колену юноши…
– Бедный… бедный! – всхлипнула она и забилась в судорожных слезах. – Как собаку… в такую ночь!.. Боже мой! В такую ночь!..
Борька перестал плакать и бессознательно гладил ее волосы. И первый раз за эти дни он почувствовал, что ему как-то не по себе, что его то бросает в жар, то – обдает холодом…
Женщина понемногу утихла. Подняла голову и заговорила быстрым шепотом, оставаясь в той же позе:
– Миленький! Ты думаешь: ты один несчастный?! А я?.. Думаешь: сладко мне… Вот тебя так выгнали из дому, а, ведь, я… сама ушла!.. Ушла от хорошей, теплой жизни!.. Я тебе все как-нибудь расскажу!.. А тебя как зовут?..