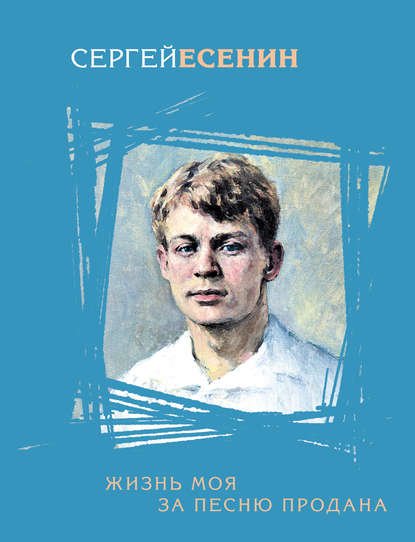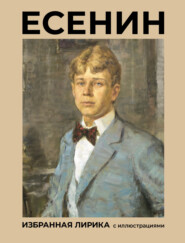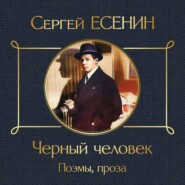По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь моя за песню продана (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первое публичное чтение «Анны Снегиной» состоялось весной 1925 года в Доме Герцена. Василий Наседкин, поэт, муж старшей сестры Есенина Екатерины, вспоминает: «В 1925 году это было его первое выступление в Москве. Для храбрости (трезвым он был очень не храбр и, читая стихи, всегда сильно нервничал) перед приходом в «Перевал» он с кем-то немного выпил. Поместительная комната Союза писателей на третьем этаже была набита битком. Кроме перевальцев, «на Есенина» зашло немало «мапповцев», «кузнецов» и других. Но случилось так, что прекрасная лирическая поэма не имела большого успеха. Спрошенные Есениным рядом с ним сидящие за столом о зачитанной вещи отозвались с холодком. Кто-то предложил «обсудить». Есенин от обсуждения наотрез отказался: «Вам меня учить нечему. Вы сами все учитесь у меня…» Потом читал «Персидские мотивы». Эти стихи произвели огромное впечатление… Все же с собрания Есенин ушел немного расстроенный, маскируя свое недовольство обычным бесшабашным видом.
Реакция зала, судя по всему, была для Есенина неожиданной. Уж от кого-кого, а от перевальцев он ждал иного приема. Ожидал сенсации, праздника, триумфа – обернулось литературным бытом. Успех «Персидских мотивов» не компенсировал обиды, наоборот, усугублял ее.
Ситуация, сложившаяся при первом публичном чтении, оказалась отнюдь не случайной. Тот же В. Наседкин свидетельствует: «Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах. О книге стихов «Персидские мотивы»… в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать. Заслуживающей внимания была одна вырезка со статьей товарища Осинского из «Правды». Но и она была обзорной. О Есенине лишь упоминалось. О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина».
Невнимание со стороны «большой критики» Есенин всегда воспринимал с болезненным недоумением. Один из его тифлисских знакомых вспоминает, что поэт говорил с нескрываемой горечью: «Критики у меня не было и нет. Вот вы что поймите!.. Я уже восемь лет печатаюсь, и до сих пор не прочел о себе ни одной серьезной заметки!.. А мне надоело ходить в коротких штанишках и в вундеркиндах. Надоело! Очевидно, нужно умереть, чтобы про тебя написали что-нибудь путное!»
После провала надежд на всероссийский триумфальный успех «Анны Снегиной» Есенину стало ясно: молчание критики – не обычное небрежение, а свидетельство того, что его поэзия не нужна новой индустриальной России.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Как и многие последние вещи Есенина, и эти стихи написаны и опубликованы на Кавказе. Летом 1925 года поэт предпринял еще одну попытку – убежать, «чтоб еще сделать что-нибудь». И убежал, и сделал, но избавиться от тоски, от мучительного чувства своей ненужности уже не мог.
«Милый друг мой, Коля!
Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом».
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.
Сегодня нам легко хвалить Есенина за то, что он хотел видеть Россию именно Россией, а не какой-то национально безликой страной, и даже противопоставлять тем его современникам, которые, как конструктивисты, были заражены «национальным нигилизмом». Сегодня это видно всем, понятно всем. Но в 1925 году Есенин со своим старомодным «национализмом», со своей «золотой избой» не мог не чувствовать себя «теснимым», лишним – «саженью без чети»…
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
Не один В. Эрлих, которому Есенин, за день до смерти, подарил эти стихи, многие были уверены, что самоубийство – случайность. Пастернак, например, тоже считал: Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая, как знать, может быть, это еще не конец и, неровен час, бабушка надвое гадала. И тут, в смерти не все и не сразу поверили в серьезность той душевной драмы, которая пришла к своему логическому концу в ленинградской гостинице «Англетер». Отзвук этой версии заметен и у Маяковского:
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Чего больше в смерти Есенина Кажется, больше всего обиды…
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.
А кроме всего прочего, Есенин был очень болен. Многие годы его преследовала бессонница. Врачи подозревали туберкулез горла, болезнь, которой Есенин после смерти друга детства, Гриши Панфилова, панически боялся. Начались галлюцинации, обострилась мания преследования. Помножьте все это на бесприютность, на невезение. Словом, образовался такой тугой узел, такая сложная «узловая завязь», что распутать ее казалось невозможным, легче было оборвать.
И все-таки, думается, в этом страшном акте Есенин – не только лицо страдательное, колобок, загнанный, как в лузу, в бездомный номер «Англетера» стечением обстоятельств. И не жертва случайности, поиграл-де, да заигрался. Человек, у которого «ничего в жизни не осталось, кроме стихов», потому что он все «им отдал», должен был, во всяком случае, мог принести им и эту, последнюю жертву. Смертью выиграть победу, как выиграл проигранный Амундсену Южный полюс капитан Скотт.
23 декабря 1925 года из Москвы в Ленинград вечерним поездом уезжал один из известных современных писателей – «с небольшой, но ухватистой силой», попутчик, отвергнутый «брызжущей новью», литератор, о самой крупной вещи которого за целых полгода в прессе не появилось ни одной серьезной заметки. А через несколько дней потрясенная Москва хоронила ГЛУБОКОГО ГРОМАДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЭТА.
Над Домом печати, где был установлен гроб, развевался лозунг
«Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».
Алла Марченко
Мой путь
Жизнь входит в берега,
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.
Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.
Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот…
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.
Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.
Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.
Я помню только то,
Реакция зала, судя по всему, была для Есенина неожиданной. Уж от кого-кого, а от перевальцев он ждал иного приема. Ожидал сенсации, праздника, триумфа – обернулось литературным бытом. Успех «Персидских мотивов» не компенсировал обиды, наоборот, усугублял ее.
Ситуация, сложившаяся при первом публичном чтении, оказалась отнюдь не случайной. Тот же В. Наседкин свидетельствует: «Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах. О книге стихов «Персидские мотивы»… в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать. Заслуживающей внимания была одна вырезка со статьей товарища Осинского из «Правды». Но и она была обзорной. О Есенине лишь упоминалось. О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина».
Невнимание со стороны «большой критики» Есенин всегда воспринимал с болезненным недоумением. Один из его тифлисских знакомых вспоминает, что поэт говорил с нескрываемой горечью: «Критики у меня не было и нет. Вот вы что поймите!.. Я уже восемь лет печатаюсь, и до сих пор не прочел о себе ни одной серьезной заметки!.. А мне надоело ходить в коротких штанишках и в вундеркиндах. Надоело! Очевидно, нужно умереть, чтобы про тебя написали что-нибудь путное!»
После провала надежд на всероссийский триумфальный успех «Анны Снегиной» Есенину стало ясно: молчание критики – не обычное небрежение, а свидетельство того, что его поэзия не нужна новой индустриальной России.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Как и многие последние вещи Есенина, и эти стихи написаны и опубликованы на Кавказе. Летом 1925 года поэт предпринял еще одну попытку – убежать, «чтоб еще сделать что-нибудь». И убежал, и сделал, но избавиться от тоски, от мучительного чувства своей ненужности уже не мог.
«Милый друг мой, Коля!
Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом».
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.
Сегодня нам легко хвалить Есенина за то, что он хотел видеть Россию именно Россией, а не какой-то национально безликой страной, и даже противопоставлять тем его современникам, которые, как конструктивисты, были заражены «национальным нигилизмом». Сегодня это видно всем, понятно всем. Но в 1925 году Есенин со своим старомодным «национализмом», со своей «золотой избой» не мог не чувствовать себя «теснимым», лишним – «саженью без чети»…
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
Не один В. Эрлих, которому Есенин, за день до смерти, подарил эти стихи, многие были уверены, что самоубийство – случайность. Пастернак, например, тоже считал: Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая, как знать, может быть, это еще не конец и, неровен час, бабушка надвое гадала. И тут, в смерти не все и не сразу поверили в серьезность той душевной драмы, которая пришла к своему логическому концу в ленинградской гостинице «Англетер». Отзвук этой версии заметен и у Маяковского:
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Чего больше в смерти Есенина Кажется, больше всего обиды…
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.
А кроме всего прочего, Есенин был очень болен. Многие годы его преследовала бессонница. Врачи подозревали туберкулез горла, болезнь, которой Есенин после смерти друга детства, Гриши Панфилова, панически боялся. Начались галлюцинации, обострилась мания преследования. Помножьте все это на бесприютность, на невезение. Словом, образовался такой тугой узел, такая сложная «узловая завязь», что распутать ее казалось невозможным, легче было оборвать.
И все-таки, думается, в этом страшном акте Есенин – не только лицо страдательное, колобок, загнанный, как в лузу, в бездомный номер «Англетера» стечением обстоятельств. И не жертва случайности, поиграл-де, да заигрался. Человек, у которого «ничего в жизни не осталось, кроме стихов», потому что он все «им отдал», должен был, во всяком случае, мог принести им и эту, последнюю жертву. Смертью выиграть победу, как выиграл проигранный Амундсену Южный полюс капитан Скотт.
23 декабря 1925 года из Москвы в Ленинград вечерним поездом уезжал один из известных современных писателей – «с небольшой, но ухватистой силой», попутчик, отвергнутый «брызжущей новью», литератор, о самой крупной вещи которого за целых полгода в прессе не появилось ни одной серьезной заметки. А через несколько дней потрясенная Москва хоронила ГЛУБОКОГО ГРОМАДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЭТА.
Над Домом печати, где был установлен гроб, развевался лозунг
«Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».
Алла Марченко
Мой путь
Жизнь входит в берега,
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.
Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.
Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот…
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.
Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.
Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.
Я помню только то,