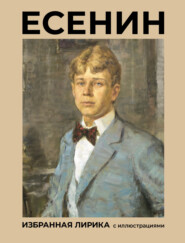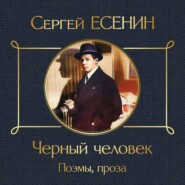По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Яр
Год написания книги
1916
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они осторожно, не снимая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.
К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.
По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.
За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.
Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.
Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали вовнутрь сундучок с посудой и снедью.
Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.
В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.
– А я и работника не наймал, – говорил он, улыбаясь издалека. – На тебя надеялся… Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а ежели Кукариху скинуть – и того меньше…
Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.
– А я уж вилы готовлю.
Филипп по порядку отыскал четвертную стоянку и завернул на край.
У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.
– Трава хорошая, – зашептал Филипп, раздувая костер. – Один медушник и кашка.
– А по лугам один клевер, – заметил старик. – И забольно так по впадинам чесноком череда разит.
Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.
Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.
Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.
Милый в ливенку играет,
Сам на ливенку глядит,
А на ливенке написано:
В солдатушки итить.
Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко.
Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.
Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.
Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.
Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.
Зарило.
– У… роса-то, – зевнул Филипп, – пора будить.
Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.
– Костя… а Кость… – трепал он за ногу. – Кость…
Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.
– Ого-го-го… вставать пора, – протянулось по стоянке.
Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Кареву.
Косы звякнули, и косари разделились на полувыти.
– Наша вторая полувыть, – подошел к Филиппу вчерашний старик. – Меримся, кому от краю.
Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.
– Мой конец, – сказал старик, – мне от краю.
– Ну, а моя околь, – протянул Филипп, – самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.
– Бреди за ним по чужому броду, – указал он Кареву на старика, – меряй да подымай косу.
Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь: на них прилип слет трав и роса.
– А коли побредешь, – пояснил старик, – так держи прям и по цветкам норови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.
Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику – три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее.
По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след.
Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.
Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.
На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.
Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.
– Вж… Вж… – неслось со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.
Пахло травой, по?том и, от слюнявых брусниц, глиной.
– Ох и жара! – оглянулся Филипп на солнце. – До спада надо скосить. С росой-то легче.