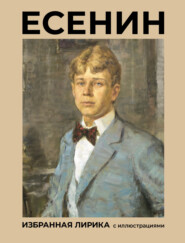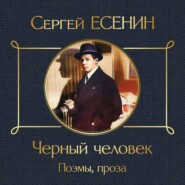По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я московский озорной гуляка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
Блок перечисляет общеизвестные приметы еще совсем новенького XX века. Тут и широко востребованные «средствами массовой информации» мировые новости, тут же, в одной куче, подробности, прибавленные «от себя лично». Они заключены в скобки, но мало чем отличаются от широко известных. На неосведомленный вкус – переизбыток информации; на осведомленный глаз – изысканный литературный прием. Российский его вариант изобрел некогда князь Вяземский Петр Андреевич. Он же и имя ему придумал: «пестрый мусор общежития». Иное у Есенина. В первой же строфе (той, где «зеленый огонь» «шевелится»), читателям предлагается заглянуть в есенинский трактат «Ключи Марии», чтобы вспомнить, что «все мы чада дерева», а убеждение, что «все от древа» – «религия мысли нашего народа». Это во-первых. Во-вторых: в самых скромных собраниях сочинений Есенина (по авторской воле) это, казалось бы, безмятежное стихотворение печатается заподряд, в смысловой связке с трагическими «Кобыльими кораблями». К тому же они еще и повязаны, то есть связны «струением» (любимое есенинское слово) и преображением образа луны. (По Есенину, согласно с изложенной в «Ключах Марии» поэтикой, лунные образы – «от плоти»; солнечные – «от разума».) В соответствии с такой установкой, в стихотворении «Душа грустит о небесах»…» луна, приземлившись на спину стреноженного коня и впившись, словно огромный овод, в его хребет, пьет лошадиную кровь… Раскручивая хвост, коняга пытается его стряхнуть. Но это ему не удается. Овод не комар, пока не насосется кровушки – сам не отвалится:
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
То же самое распределение «духа и знаков» и в маленькой поэме «Кобыльи корабли». Луна, вернее, еще не луна, а новорожденный месяц, словно щенок, «лакает облака», принимая их за небесное молоко («Небесного молока даждь нам днесь»), то есть уже и подросла, уже и олунилась, а ведет себя словно новорожденный месяц:
Не пора ль перестать луне
В небесах облака лакать…
Словом, Есенин настойчиво напоминает: воздушная, «грустящая о небесах» миниатюра возникла на одной волне с самыми «значными» произведениями самого взрывного русского года – 1919-го: «Пантократором», «Кобыльими кораблями» и «Сорокоустом». Три глыбы, вывернутые из самородных глубин «плугом бурь», сразу же связываются способом слагаемости. Вулканоподобие имажинистского устройства преображается в огнедышащее извержение новорожденных вулканов. И все-таки меж ними, для восполнения объема, – золотые лощины и взгорья:
То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
К ним-то автор-творец («се творю все заново») и обращается: «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою». Ну как тут не вспомнить сказанное Горьким о Есенине: не столько человек, сколько орган, созданный самой природой для любви ко всему живому в мире и милосердия? Оно же, милосердие, по Горькому, заслужено человеком. Но то Горький. Есенин, когда в «Кобыльих кораблях» «прорастает»-таки «глазами в глубину», видит хотя и сад… но какой сад? Вот какой: «Черепов златохвойный сад»! А прислушавшись, слышит и вовсе неслыханное:
Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.
Больше того, чтобы и читатель стихов и успел, и сумел не просто заглянуть в глубину, но и прорасти в нее, поэт предлагает ему оглянуться. Сначала, разумеется, на Пушкина, всем нам сызмала предсказавшего: «Товарищ, верь! Взойдет она, / Звезда пленительного счастья. /Россия вспрянет ото сна / И на обломках самовластья / Напишут наши имена…» Правильно предсказал. От самовластья одни обломки. А что теперь? Теперь? «Бог волчице ребенка дал»? «Человек съел дитя волчицы»? Вопросительные (внутри себя) знаки не случайны. Есенин невидимо подключает к собеседованию еще и Блока. Знаменитая его поэма – у всех на памяти. Вот только приближаться к ней боязно: шибанет током. От множества прямо-таки наэлектризованных взрывных осколков…
В поисках «Ключей Марии» к одной из «простеньких» есенинских загадок, мы, кажется, уклонились, вроде как сбились с выбранного маршрута. По ходу дела, конечно, а все-таки вернемся хотя бы в жанр, то есть в юбилейный 1995-й.
Дипломатически узаконенное юбилеем неравновесие разновесных точек зрения на феномен Есенина длилось не долго. Время вдруг снова переломилось. Прилагательное Великий сделалось всего лишь Титульным, т. е. обязательным в процессе аккредитации при «Высшей власти» чемпионов по карабканью вверх. Тогда-то, и не только в интеллигентских слоях, но и в «простом народе» стали обнаруживаться оглядки на предыдущие «переломы исторического времени». Начиная с первого, почти на дедовских глазах надломившегося века. Правда, пробные те переломы ни роковыми, ни открытыми поначалу не воспринимались. И пяти лет после Дальневосточной войны не прошло, а Россия уже и успокоилась, и оклемалась, и даже осеребрилась. Вот только лет через десять опять нежданно-негаданное обнаружилось. И не во глубинах «потайственных», почти сверху лежало. Тогда-то и выяснилось, что и тот неожиданный «перелом времени» был онтологически «судьбоносным». «Отречемся от старого мира, отрясем его прах с наших ног…» Отрекались, кстати, поначалу и весело, и совместно, хором, а вот усомнившись, спрашивали уже по отдельности: с ног-то зачем отрясаем? Да еще и в прах обратив? Сами себя спрашивали, сами себе отвечали: «Мы ж новый мир желаем построить. Свой – для своих. «Кто был ничем, тот станет всем».
Среди порядком озабоченных массовым отречением от старья неожиданно для самого себя оказался и Александр Александрович Блок. Так растревожился, что попробовал доказывать вожакам «незнакомого племени», что выбрасывать за борт прошлое, да еще с верхней палубы прогулочных пароходиков, бесполезно. Немилое недавнее не «утопает», ибо тайно-подспудно продолжается в настоящем, а то и превращается в будущее. Но те, со смехом, открещивались. В сложно-системные доказательства не вникая. Недоказуемо, и все тут. Но когда и строители фарфоровых дворцов, спроектированных Игорем Северяниным для принцессы Мимозы, вскарабкавшись на корабль современности, стали рваться в передовики по сбрасыванию со своего судна устаревшую рухлядь, включая и Пушкина в обнимку с Державиным, Блок яриться не стал. Блок и нашел, и сформулировал, и обнародовал 100 %-но доказательную максиму, на все времена годную. И где? В необязательной – «проходной» – рецензии на бездарную книжку о Лермонтове. Вроде бы между делом, вроде бы апропо, разъяснил непонятливым, в чем же истинная причина бессмертной ВЕЛИКОСТИ:
«Лермонтов и Пушкин – образы предустановленные. Загадка русской жизни и литературы».
Блоку, кстати, первому из угадчиков (так уж сложилось) силою вещей выпала вероятность если и не угадать и в Есенине образ предустановленный, то хотя бы почуять, что в российском поэтическом космосе происходит нечто. То ли сгущение звездной пыли, то ли зарождение новой планеты. Ведь согласно легенде, 9 марта 1915 года Есенин не вошел, а прямо-таки ввалился в русскую литературу через отнюдь не открытый дом Александра Блока. Не скинув ни «сапоги бутылочками», ни старенький (не заячий!) тулупчик. Да и Стихо-Творения вручал бессловесно. Прямо в прихожей. Упакованными во что-то матерчатое. То ли в девичий полушалок, то ли во вдовий бабий платок. Ну чем не пришелец не из мира сего? Но это апокриф. На самом же деле по приезде в столицу (9 марта 1915 года) Есенин, как и полагалось, оставил в почтовом ящике записку, уведомлявшую, что намерен заявиться в четыре часа пополудни и по важному делу. Да и одет был обыкновенно. («Ладный городской костюм из магазина готового платья», то есть именно так, как по торжественным дням одевались в ту пору прилично зарабатывающие молодые рабочие.) Блок встретил московского гостя суховато-вежливо, стихи показались ему многословными, хотя и голосистыми. Вопросы, правда, задавал внимательные, вот только имя непрошенного гостя в Дневник в тот день не вписал. То ли не запомнил, то ли счел ненужным запоминать. А вот с нужным человеком связал. И не ошибся в выборе. Петербургское окружение Сергея Городецкого, поэта и художника-любителя, встретило рязанского парня как «дар небес». Ну чем не пришествие отрока Пантелеймона? Стык панславистских мечтаний с голосами русской деревни представлялся столичным эстетам праздником неонародничества. На неонародничество в Петербурге был спрос. Промышленный бум начала XX века выдвигал Россию в сообщество мировых держав. Этот неожиданный сдвиг, возбуждая национальное самосознание, реанимировал и стародавнюю распрю, распрю западников и славянофилов. Изменялась полегоньку и идеологическая география страны. Славянофильским центром, наперекор традиции, становится «аристократический» Петербург, купеческая же Москва разворачивается фасадом к Европе. Император коллекционирует старинные кокошники. Московский миллионщик Щукин покупает Матисса и Пикассо. В столь специфической (шиворот-навыворот) обстановке есенинские картинки «Про деревенскую Русь» были чуть ли не обречены на приумножаемый слухами интерес, а может, и на колыбельные руки. Ну разве не перекличка то ли с «Осенней волей» Блока, то ли с блистательной его эссеистикой хотя и недавних, но уже легендарных лет?
«Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности… Где-то вдали заливается голос или колокольчик… Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий что делать со своим просторным весельем народ, будто запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом…»
Словом, на взгляд, по верхам порхающий, Есенин неожиданно для себя оказался чуть ли не на балу удачи. Даже обычная для «рязаней» белокурость перекрашивалась здесь в златоглавость, а мечтательная вера провинциала в урожденное право на Великую Песнь чудилась чем-то загадочным. И не на пустом месте чудилось. В яблочко Есенин, конечно же, не попал, но если и «промазал» то все-таки по-Грибоедовски: «Шел в комнату, попал в другую». Изначально неточное Русское Время еще, конечно, не сделалось по-Маяковски «телеграфным», но длинно-былинным уже не было. Да и Блок той поры (1913–1915) не столько автор «Ямбов» и «Кармен», сколько тяжко угрюмого «Грешить бесстыдно, беспробудно, счет потерять ночам и дням». Догадался ли об этом Есенин при первом же очном контакте? Вряд ли. Скорее по наивности предположил, что петроградцы сильнее, чем москвичи, омрачены пока еще непонятной войной. Во всяком случае, на продолжение общения, не раздумывая, понадеялся и, выждав для приличия месяц, письменно «напросился» на новую встречу. И получил формальный, некрасиво равнодушный отказ. Дескать, даже думать о вашем трудно, такие мы разные. С есенинской точки зрения, это была отписка. От долгого думанья про свое он словно заболевал. Не понятое не свое, напротив, интриговало. Письма Клюева, например. Не те, руководящие, – все городецкое сообщество их совместно оспаривало. Озадачивали персональные послания, лично С. А. Есенину адресованные. Тут уж и получатель воспитывающих наставлений ежом растопыривался. И тем не менее: на опыте именно этой первой в жизни регулярной переписки сама собой объяснялась и еще одна непонятность. Пересказанная стихом жизнь почему-то прояснивалась. Рассказывая уже летом, по возвращении из Питера в Константиново, то подросшей сестре, то бывшим школьным друзьям про петербургское свое гостевание, Есенин запутывался в деталях, сбивался с мысли. Но стоило про то же заговорить стихами, выходило инако: ладно-складно и коротко. Всю-то белую ночь, напролет, в маленьком «ателье» Сергея и бранились, и сквернословили. А поутру ежели стихами заговорить? Что получалось? Вот что получалось:
Она не здешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
Блок перечисляет общеизвестные приметы еще совсем новенького XX века. Тут и широко востребованные «средствами массовой информации» мировые новости, тут же, в одной куче, подробности, прибавленные «от себя лично». Они заключены в скобки, но мало чем отличаются от широко известных. На неосведомленный вкус – переизбыток информации; на осведомленный глаз – изысканный литературный прием. Российский его вариант изобрел некогда князь Вяземский Петр Андреевич. Он же и имя ему придумал: «пестрый мусор общежития». Иное у Есенина. В первой же строфе (той, где «зеленый огонь» «шевелится»), читателям предлагается заглянуть в есенинский трактат «Ключи Марии», чтобы вспомнить, что «все мы чада дерева», а убеждение, что «все от древа» – «религия мысли нашего народа». Это во-первых. Во-вторых: в самых скромных собраниях сочинений Есенина (по авторской воле) это, казалось бы, безмятежное стихотворение печатается заподряд, в смысловой связке с трагическими «Кобыльими кораблями». К тому же они еще и повязаны, то есть связны «струением» (любимое есенинское слово) и преображением образа луны. (По Есенину, согласно с изложенной в «Ключах Марии» поэтикой, лунные образы – «от плоти»; солнечные – «от разума».) В соответствии с такой установкой, в стихотворении «Душа грустит о небесах»…» луна, приземлившись на спину стреноженного коня и впившись, словно огромный овод, в его хребет, пьет лошадиную кровь… Раскручивая хвост, коняга пытается его стряхнуть. Но это ему не удается. Овод не комар, пока не насосется кровушки – сам не отвалится:
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
То же самое распределение «духа и знаков» и в маленькой поэме «Кобыльи корабли». Луна, вернее, еще не луна, а новорожденный месяц, словно щенок, «лакает облака», принимая их за небесное молоко («Небесного молока даждь нам днесь»), то есть уже и подросла, уже и олунилась, а ведет себя словно новорожденный месяц:
Не пора ль перестать луне
В небесах облака лакать…
Словом, Есенин настойчиво напоминает: воздушная, «грустящая о небесах» миниатюра возникла на одной волне с самыми «значными» произведениями самого взрывного русского года – 1919-го: «Пантократором», «Кобыльими кораблями» и «Сорокоустом». Три глыбы, вывернутые из самородных глубин «плугом бурь», сразу же связываются способом слагаемости. Вулканоподобие имажинистского устройства преображается в огнедышащее извержение новорожденных вулканов. И все-таки меж ними, для восполнения объема, – золотые лощины и взгорья:
То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
К ним-то автор-творец («се творю все заново») и обращается: «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою». Ну как тут не вспомнить сказанное Горьким о Есенине: не столько человек, сколько орган, созданный самой природой для любви ко всему живому в мире и милосердия? Оно же, милосердие, по Горькому, заслужено человеком. Но то Горький. Есенин, когда в «Кобыльих кораблях» «прорастает»-таки «глазами в глубину», видит хотя и сад… но какой сад? Вот какой: «Черепов златохвойный сад»! А прислушавшись, слышит и вовсе неслыханное:
Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.
Больше того, чтобы и читатель стихов и успел, и сумел не просто заглянуть в глубину, но и прорасти в нее, поэт предлагает ему оглянуться. Сначала, разумеется, на Пушкина, всем нам сызмала предсказавшего: «Товарищ, верь! Взойдет она, / Звезда пленительного счастья. /Россия вспрянет ото сна / И на обломках самовластья / Напишут наши имена…» Правильно предсказал. От самовластья одни обломки. А что теперь? Теперь? «Бог волчице ребенка дал»? «Человек съел дитя волчицы»? Вопросительные (внутри себя) знаки не случайны. Есенин невидимо подключает к собеседованию еще и Блока. Знаменитая его поэма – у всех на памяти. Вот только приближаться к ней боязно: шибанет током. От множества прямо-таки наэлектризованных взрывных осколков…
В поисках «Ключей Марии» к одной из «простеньких» есенинских загадок, мы, кажется, уклонились, вроде как сбились с выбранного маршрута. По ходу дела, конечно, а все-таки вернемся хотя бы в жанр, то есть в юбилейный 1995-й.
Дипломатически узаконенное юбилеем неравновесие разновесных точек зрения на феномен Есенина длилось не долго. Время вдруг снова переломилось. Прилагательное Великий сделалось всего лишь Титульным, т. е. обязательным в процессе аккредитации при «Высшей власти» чемпионов по карабканью вверх. Тогда-то, и не только в интеллигентских слоях, но и в «простом народе» стали обнаруживаться оглядки на предыдущие «переломы исторического времени». Начиная с первого, почти на дедовских глазах надломившегося века. Правда, пробные те переломы ни роковыми, ни открытыми поначалу не воспринимались. И пяти лет после Дальневосточной войны не прошло, а Россия уже и успокоилась, и оклемалась, и даже осеребрилась. Вот только лет через десять опять нежданно-негаданное обнаружилось. И не во глубинах «потайственных», почти сверху лежало. Тогда-то и выяснилось, что и тот неожиданный «перелом времени» был онтологически «судьбоносным». «Отречемся от старого мира, отрясем его прах с наших ног…» Отрекались, кстати, поначалу и весело, и совместно, хором, а вот усомнившись, спрашивали уже по отдельности: с ног-то зачем отрясаем? Да еще и в прах обратив? Сами себя спрашивали, сами себе отвечали: «Мы ж новый мир желаем построить. Свой – для своих. «Кто был ничем, тот станет всем».
Среди порядком озабоченных массовым отречением от старья неожиданно для самого себя оказался и Александр Александрович Блок. Так растревожился, что попробовал доказывать вожакам «незнакомого племени», что выбрасывать за борт прошлое, да еще с верхней палубы прогулочных пароходиков, бесполезно. Немилое недавнее не «утопает», ибо тайно-подспудно продолжается в настоящем, а то и превращается в будущее. Но те, со смехом, открещивались. В сложно-системные доказательства не вникая. Недоказуемо, и все тут. Но когда и строители фарфоровых дворцов, спроектированных Игорем Северяниным для принцессы Мимозы, вскарабкавшись на корабль современности, стали рваться в передовики по сбрасыванию со своего судна устаревшую рухлядь, включая и Пушкина в обнимку с Державиным, Блок яриться не стал. Блок и нашел, и сформулировал, и обнародовал 100 %-но доказательную максиму, на все времена годную. И где? В необязательной – «проходной» – рецензии на бездарную книжку о Лермонтове. Вроде бы между делом, вроде бы апропо, разъяснил непонятливым, в чем же истинная причина бессмертной ВЕЛИКОСТИ:
«Лермонтов и Пушкин – образы предустановленные. Загадка русской жизни и литературы».
Блоку, кстати, первому из угадчиков (так уж сложилось) силою вещей выпала вероятность если и не угадать и в Есенине образ предустановленный, то хотя бы почуять, что в российском поэтическом космосе происходит нечто. То ли сгущение звездной пыли, то ли зарождение новой планеты. Ведь согласно легенде, 9 марта 1915 года Есенин не вошел, а прямо-таки ввалился в русскую литературу через отнюдь не открытый дом Александра Блока. Не скинув ни «сапоги бутылочками», ни старенький (не заячий!) тулупчик. Да и Стихо-Творения вручал бессловесно. Прямо в прихожей. Упакованными во что-то матерчатое. То ли в девичий полушалок, то ли во вдовий бабий платок. Ну чем не пришелец не из мира сего? Но это апокриф. На самом же деле по приезде в столицу (9 марта 1915 года) Есенин, как и полагалось, оставил в почтовом ящике записку, уведомлявшую, что намерен заявиться в четыре часа пополудни и по важному делу. Да и одет был обыкновенно. («Ладный городской костюм из магазина готового платья», то есть именно так, как по торжественным дням одевались в ту пору прилично зарабатывающие молодые рабочие.) Блок встретил московского гостя суховато-вежливо, стихи показались ему многословными, хотя и голосистыми. Вопросы, правда, задавал внимательные, вот только имя непрошенного гостя в Дневник в тот день не вписал. То ли не запомнил, то ли счел ненужным запоминать. А вот с нужным человеком связал. И не ошибся в выборе. Петербургское окружение Сергея Городецкого, поэта и художника-любителя, встретило рязанского парня как «дар небес». Ну чем не пришествие отрока Пантелеймона? Стык панславистских мечтаний с голосами русской деревни представлялся столичным эстетам праздником неонародничества. На неонародничество в Петербурге был спрос. Промышленный бум начала XX века выдвигал Россию в сообщество мировых держав. Этот неожиданный сдвиг, возбуждая национальное самосознание, реанимировал и стародавнюю распрю, распрю западников и славянофилов. Изменялась полегоньку и идеологическая география страны. Славянофильским центром, наперекор традиции, становится «аристократический» Петербург, купеческая же Москва разворачивается фасадом к Европе. Император коллекционирует старинные кокошники. Московский миллионщик Щукин покупает Матисса и Пикассо. В столь специфической (шиворот-навыворот) обстановке есенинские картинки «Про деревенскую Русь» были чуть ли не обречены на приумножаемый слухами интерес, а может, и на колыбельные руки. Ну разве не перекличка то ли с «Осенней волей» Блока, то ли с блистательной его эссеистикой хотя и недавних, но уже легендарных лет?
«Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности… Где-то вдали заливается голос или колокольчик… Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий что делать со своим просторным весельем народ, будто запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом…»
Словом, на взгляд, по верхам порхающий, Есенин неожиданно для себя оказался чуть ли не на балу удачи. Даже обычная для «рязаней» белокурость перекрашивалась здесь в златоглавость, а мечтательная вера провинциала в урожденное право на Великую Песнь чудилась чем-то загадочным. И не на пустом месте чудилось. В яблочко Есенин, конечно же, не попал, но если и «промазал» то все-таки по-Грибоедовски: «Шел в комнату, попал в другую». Изначально неточное Русское Время еще, конечно, не сделалось по-Маяковски «телеграфным», но длинно-былинным уже не было. Да и Блок той поры (1913–1915) не столько автор «Ямбов» и «Кармен», сколько тяжко угрюмого «Грешить бесстыдно, беспробудно, счет потерять ночам и дням». Догадался ли об этом Есенин при первом же очном контакте? Вряд ли. Скорее по наивности предположил, что петроградцы сильнее, чем москвичи, омрачены пока еще непонятной войной. Во всяком случае, на продолжение общения, не раздумывая, понадеялся и, выждав для приличия месяц, письменно «напросился» на новую встречу. И получил формальный, некрасиво равнодушный отказ. Дескать, даже думать о вашем трудно, такие мы разные. С есенинской точки зрения, это была отписка. От долгого думанья про свое он словно заболевал. Не понятое не свое, напротив, интриговало. Письма Клюева, например. Не те, руководящие, – все городецкое сообщество их совместно оспаривало. Озадачивали персональные послания, лично С. А. Есенину адресованные. Тут уж и получатель воспитывающих наставлений ежом растопыривался. И тем не менее: на опыте именно этой первой в жизни регулярной переписки сама собой объяснялась и еще одна непонятность. Пересказанная стихом жизнь почему-то прояснивалась. Рассказывая уже летом, по возвращении из Питера в Константиново, то подросшей сестре, то бывшим школьным друзьям про петербургское свое гостевание, Есенин запутывался в деталях, сбивался с мысли. Но стоило про то же заговорить стихами, выходило инако: ладно-складно и коротко. Всю-то белую ночь, напролет, в маленьком «ателье» Сергея и бранились, и сквернословили. А поутру ежели стихами заговорить? Что получалось? Вот что получалось:
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: