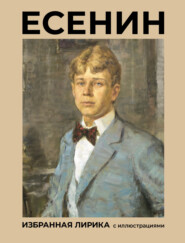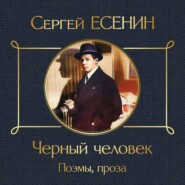По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихотворения. Поэмы. Повести. Рассказы
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.
Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.
Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.
– Пей, – поднес он стакан Кареву. – Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, – почесался Филипп и вышел в теплушку.
– Липа? Лип?.. – загукал его сиповатый голос. – Проснися!
Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.
Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.
Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.
– Убью, – усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.
– Не боюсь, – тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.
Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.
Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.
Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.
Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.
Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.
Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.
– Тетенька ушла, – сказал он ей, как они пришли из церкви. – Теперь мы будем жить с Чуканом.
Филипп сам мыл девочку и стирал белье.
Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.
– Отчего он не тает? – спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.
Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.
Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.
Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.
На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.
– Лучше я повешусь на ветках березы, – говорила она, – чем уйду с яра.
Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.
Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого. Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.
Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:
– Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.
– А я возьму тебя и съем, – шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.
Юшка вертелся и не давал искаться.
– Пусти ты, – отпихивал он ее руки.
– Ложись, ложись, – тянула она его к себе. – Я расскажу тебе сказку.
– Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? – пришлепывая губами, выговаривал Юшка. – Расскажи мне ее… мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.
Самовар метнул на загнетку искрами.
– Готов, – сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.
– Славная штука, – ухмыльнулся Филипп, – рублев двести смоем… Чтой-то я тебя, братец, не знаю, – обернулся он к Кареву: – Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.
– Я пришляк, у просфирни проживаю.
– Пономарь, что ли, какой?
– Охотник.
Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.
Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.
– Зарит… – поднял блюдце Карев. – Вот сейчас на глухарей-то хорошо.
От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.
– Ишь наклюкался, – рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. – Гусь жареный, тоже свататься приехал!
– Ох, – застонал Ваньчок и откинул полу.
– Кто там? – отворил дверь Филипп.
– Свои, – забасил густой голос.
Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.
– Есть дичь-то? – затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.
Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.
Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.
– Пей, – поднес он стакан Кареву. – Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, – почесался Филипп и вышел в теплушку.
– Липа? Лип?.. – загукал его сиповатый голос. – Проснися!
Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.
Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.
Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.
– Убью, – усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.
– Не боюсь, – тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.
Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.
Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.
Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.
Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.
Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.
Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.
– Тетенька ушла, – сказал он ей, как они пришли из церкви. – Теперь мы будем жить с Чуканом.
Филипп сам мыл девочку и стирал белье.
Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.
– Отчего он не тает? – спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.
Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.
Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.
Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.
На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.
– Лучше я повешусь на ветках березы, – говорила она, – чем уйду с яра.
Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.
Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого. Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.
Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:
– Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.
– А я возьму тебя и съем, – шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.
Юшка вертелся и не давал искаться.
– Пусти ты, – отпихивал он ее руки.
– Ложись, ложись, – тянула она его к себе. – Я расскажу тебе сказку.
– Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? – пришлепывая губами, выговаривал Юшка. – Расскажи мне ее… мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.
Самовар метнул на загнетку искрами.
– Готов, – сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.
– Славная штука, – ухмыльнулся Филипп, – рублев двести смоем… Чтой-то я тебя, братец, не знаю, – обернулся он к Кареву: – Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.
– Я пришляк, у просфирни проживаю.
– Пономарь, что ли, какой?
– Охотник.
Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.
Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.
– Зарит… – поднял блюдце Карев. – Вот сейчас на глухарей-то хорошо.
От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.
– Ишь наклюкался, – рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. – Гусь жареный, тоже свататься приехал!
– Ох, – застонал Ваньчок и откинул полу.
– Кто там? – отворил дверь Филипп.
– Свои, – забасил густой голос.
Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.
– Есть дичь-то? – затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.