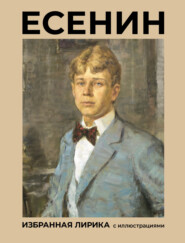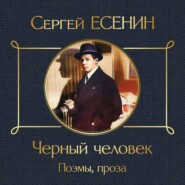По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я, Есенин Сергей…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он немного помолчал.
– А знаете ли, это второе мое драматическое произведение. Первое «Крестьянский пир» должно было появиться в сборнике «Скифы»; начали уже набирать, но я раздумался, потребовал его обратно, как бы для просмотра, и – уничтожил. Андрей Белый до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею.
Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно. «Обратите внимание, – сказал он мне, – что у меня почти совсем нет любовных мотивов. „Маковые побаски“ можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании „Радуницы“. Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве».
Это говорилось в 1921 году. Последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» осталось, конечно, верным.
* * *
– С детства, – говорил Есенин, – болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, напр., знаете вы мою «Радуницу»?
– Да.
– Какое у вас издание?
– У меня есть и первое и второе.
– Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. «Что это такое значит, – спрашивали меня:
Я странник улогий
В кубетке сырой?»
Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов: целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил.
– Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано, – заметил я, – состав стихотворений другой.
– Да я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал, например, изменил стихи о «страннике улогом» и о «кубетке» – стало просто:
Я странник убогий,
С вечерней звездой
Пою я… и т. д.
Выбросил я многие из «Маковых побасок». Эти «Маковые побаски» написаны были мною, когда мне было около четырнадцати лет. Первым моим стихотворением, появившимся в печати, было «Сыплет черемуха снегом». В конце 1914 года оно помещено было Виктором Сергеевичем Миролюбовым в его «Журнале для всех». Я включил его потом в первое издание «Радуницы», а из второго, хотя и по другим соображениям, тоже выбросил.
* * *
Вечером в этот день, когда у меня был данный разговор с Есениным, я пересмотрел дома обе «Радуницы». В первой было тридцать три стихотворения. Из них во второй сохранились только девятнадцать, причем некоторые из них были переработаны. Новых во втором издании появилось девять стихотворений. Обратил я внимание и на первое появившееся в печати произведение поэта. Вот оно:
Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы, луга и дубравы,
Я одурманен весной!
Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.
Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи в лесу!
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.
Обратил я внимание и на то, что и во втором издании остались все же некоторые мало понятные слова, например, «ливенка», «на кукане» и т. д.
Разговор зашел о влияниях и о любимых авторах.
– Знаете ли, какое произведение, – сказал Есенин – произвело на меня необычайное впечатление?! – «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Вот откуда, может быть, начало моего имажинизма. Из поэтов я рано узнал Пушкина и Фета. Со стихами Бальмонта познакомился гораздо позже, и Бальмонт не произвел на меня особенного впечатления. Я решил, что Фет гораздо лучше, и продолжаю неизменно думать так и до сего дня.
Очень полюбил я также Блока, пока не осознал, что его отношение к России меня не может удовлетворить. Попав в Петербург, я прежде всего постарался его разыскать. Мне хотелось слышать его мнение о моих стихах. С течением времени все больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно оценили. Кроме Блока, в Петербурге оказали на меня влияние Николай Клюев и Сергей Городецкий, принявшие во мне большое участие. Живя в Петербурге в 1915–1917 гг., я многое себе уяснил. В общем развитии более всего за эти годы обязан был Иванову-Разумнику. Громадное личное влияние имел на меня также Андрей Белый. Все мы, кроме Городецкого, объединились вокруг сборников левых эсеров «Скифы». Иванов-Разумник поддерживал во мне революционное настроение в годы войны. В 1916 г. я был призван на военную службу.
* * *
Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан. Отец мой был бедный крестьянин. Поэтому меня взял на воспитание мой зажиточный дед. Это был удивительный человек. О нем говорю я в своем стихотворении «Пантократ». Дед имел прекрасную память и знал наизусть великое множество народных песен, но главным образом духовных стихов. Я сочинять стал рано, лет девяти, но долгое время сочинял только духовные стихи. Некоторые школьные товарищи начали меня убеждать попробовать себя в стихах другого рода. Я попробовал и – мне было тогда около 14 лет – написал «Маковые побаски». Около того же времени «Миколу». То и другое вошло потом в «Радуницу».
26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне пред этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и другие его рассказы о себе, относящиеся большею частью к концу 1920 г., приведены мною в другом месте (см. Иван Розанов. Есенин о себе и других. Изд. «Никитинские субботники»).
III
После возвращения Есенина из Америки я редко его видел. Мне не нравился его узкий национализм.
10 мая 1924 г. я был в одном литературном кружке, помещавшемся в частной квартире. Хозяйка сообщила мне, что в конце вечера будет читать свои стихи Есенин. Я давно его не видал, и эта встреча мне улыбалась. Как фундамент положен был серьезный и длинный историко-литературный доклад об одном еврейском писателе. В середине доклада в комнату шумно вваливается несколько человек. Одни из них, не снимая шляп и котелков, присаживаются к столу. Другие остаются стоять у двери. Когда шум улегся, докладчик начал продолжать свое чтение… Среди вновь пришедших скоро начались разговоры и все громче. Председатель останавливает.
– Дело в том, – раздается вдруг голос, – что то, что тут читается, нам совсем не интересно…
Я оборачиваюсь. Всматриваюсь в говорящего. Да никак это Есенин?
Кто-то из другого конца комнаты отвечает ему:
– Вы пришли поздно и потому вам не интересно, а мы слушаем с самого начала и, пожалуйста, не мешайте!
– Ну хорошо! Слушайте! – Как бы снисходительно, великодушно разрешает Есенин и минуты на три смолкает.
Докладчик опять продолжает чтение. Но новый шум и разговоры заставляют его попросить председателя объявить перерыв.
Многие встают с мест. Есенин замечает меня, приближается, здоровается (вернее: здороваюсь я) и садится рядом. Я ожидаю от него каких-нибудь ласковых и приветливых слов в связи с тем, что нам давно не приходилось видеться. Но он бледен, нервно возбужден, нетрезв и явно нарывается на скандал. Он прямо приступает ко мне с бранью по адресу и докладчика и доклада. Подходит хозяйка. Есенин встает, здоровается с нею и из озорства, как будто впервые представляясь ей, подчеркнуто произносит: «А я – русский, Сергей Есенин». Чтение стихов, конечно, не состоялось. Шумная компания скоро уехала.
Следующий раз я увидал Есенина трезвым и поэтом. Это было 6-го июня того же года, в памятный для литературной Москвы пушкинский день. Сто двадцать пять лет со дня рождения Пушкина. Все писатели приглашались к 6 ч. вечера к «Дому Герцена» на Тверском бульваре. Оттуда, выстроившись рядами, со знаменем во главе, торжественно двинулись к памятнику Пушкину, где должно было происходить возложение венка. Кажется, в истории русской литературы, а может быть, и не только русской, это была первая процессия писателей, и довольно многолюдная. «Читатели» стояли по обеим сторонам и созерцали невиданное зрелище.
У памятника великого поэта речей не произносилось. Сказал только коротенькое приветствие П.Н. Сакулин, а затем слово было предоставлено поэтам для произнесения стихов. Первой на ступенях пьедестала, возле только что возложенного венка (вправо от него, если смотреть от Страстного монастыря), появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно раскачиваясь руками и выкрикивая строчки, он прочел свое обращение «К Пушкину». Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому.
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
– А знаете ли, это второе мое драматическое произведение. Первое «Крестьянский пир» должно было появиться в сборнике «Скифы»; начали уже набирать, но я раздумался, потребовал его обратно, как бы для просмотра, и – уничтожил. Андрей Белый до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею.
Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно. «Обратите внимание, – сказал он мне, – что у меня почти совсем нет любовных мотивов. „Маковые побаски“ можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании „Радуницы“. Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве».
Это говорилось в 1921 году. Последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» осталось, конечно, верным.
* * *
– С детства, – говорил Есенин, – болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, напр., знаете вы мою «Радуницу»?
– Да.
– Какое у вас издание?
– У меня есть и первое и второе.
– Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. «Что это такое значит, – спрашивали меня:
Я странник улогий
В кубетке сырой?»
Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов: целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил.
– Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано, – заметил я, – состав стихотворений другой.
– Да я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал, например, изменил стихи о «страннике улогом» и о «кубетке» – стало просто:
Я странник убогий,
С вечерней звездой
Пою я… и т. д.
Выбросил я многие из «Маковых побасок». Эти «Маковые побаски» написаны были мною, когда мне было около четырнадцати лет. Первым моим стихотворением, появившимся в печати, было «Сыплет черемуха снегом». В конце 1914 года оно помещено было Виктором Сергеевичем Миролюбовым в его «Журнале для всех». Я включил его потом в первое издание «Радуницы», а из второго, хотя и по другим соображениям, тоже выбросил.
* * *
Вечером в этот день, когда у меня был данный разговор с Есениным, я пересмотрел дома обе «Радуницы». В первой было тридцать три стихотворения. Из них во второй сохранились только девятнадцать, причем некоторые из них были переработаны. Новых во втором издании появилось девять стихотворений. Обратил я внимание и на первое появившееся в печати произведение поэта. Вот оно:
Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы, луга и дубравы,
Я одурманен весной!
Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.
Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи в лесу!
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.
Обратил я внимание и на то, что и во втором издании остались все же некоторые мало понятные слова, например, «ливенка», «на кукане» и т. д.
Разговор зашел о влияниях и о любимых авторах.
– Знаете ли, какое произведение, – сказал Есенин – произвело на меня необычайное впечатление?! – «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Вот откуда, может быть, начало моего имажинизма. Из поэтов я рано узнал Пушкина и Фета. Со стихами Бальмонта познакомился гораздо позже, и Бальмонт не произвел на меня особенного впечатления. Я решил, что Фет гораздо лучше, и продолжаю неизменно думать так и до сего дня.
Очень полюбил я также Блока, пока не осознал, что его отношение к России меня не может удовлетворить. Попав в Петербург, я прежде всего постарался его разыскать. Мне хотелось слышать его мнение о моих стихах. С течением времени все больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно оценили. Кроме Блока, в Петербурге оказали на меня влияние Николай Клюев и Сергей Городецкий, принявшие во мне большое участие. Живя в Петербурге в 1915–1917 гг., я многое себе уяснил. В общем развитии более всего за эти годы обязан был Иванову-Разумнику. Громадное личное влияние имел на меня также Андрей Белый. Все мы, кроме Городецкого, объединились вокруг сборников левых эсеров «Скифы». Иванов-Разумник поддерживал во мне революционное настроение в годы войны. В 1916 г. я был призван на военную службу.
* * *
Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан. Отец мой был бедный крестьянин. Поэтому меня взял на воспитание мой зажиточный дед. Это был удивительный человек. О нем говорю я в своем стихотворении «Пантократ». Дед имел прекрасную память и знал наизусть великое множество народных песен, но главным образом духовных стихов. Я сочинять стал рано, лет девяти, но долгое время сочинял только духовные стихи. Некоторые школьные товарищи начали меня убеждать попробовать себя в стихах другого рода. Я попробовал и – мне было тогда около 14 лет – написал «Маковые побаски». Около того же времени «Миколу». То и другое вошло потом в «Радуницу».
26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне пред этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и другие его рассказы о себе, относящиеся большею частью к концу 1920 г., приведены мною в другом месте (см. Иван Розанов. Есенин о себе и других. Изд. «Никитинские субботники»).
III
После возвращения Есенина из Америки я редко его видел. Мне не нравился его узкий национализм.
10 мая 1924 г. я был в одном литературном кружке, помещавшемся в частной квартире. Хозяйка сообщила мне, что в конце вечера будет читать свои стихи Есенин. Я давно его не видал, и эта встреча мне улыбалась. Как фундамент положен был серьезный и длинный историко-литературный доклад об одном еврейском писателе. В середине доклада в комнату шумно вваливается несколько человек. Одни из них, не снимая шляп и котелков, присаживаются к столу. Другие остаются стоять у двери. Когда шум улегся, докладчик начал продолжать свое чтение… Среди вновь пришедших скоро начались разговоры и все громче. Председатель останавливает.
– Дело в том, – раздается вдруг голос, – что то, что тут читается, нам совсем не интересно…
Я оборачиваюсь. Всматриваюсь в говорящего. Да никак это Есенин?
Кто-то из другого конца комнаты отвечает ему:
– Вы пришли поздно и потому вам не интересно, а мы слушаем с самого начала и, пожалуйста, не мешайте!
– Ну хорошо! Слушайте! – Как бы снисходительно, великодушно разрешает Есенин и минуты на три смолкает.
Докладчик опять продолжает чтение. Но новый шум и разговоры заставляют его попросить председателя объявить перерыв.
Многие встают с мест. Есенин замечает меня, приближается, здоровается (вернее: здороваюсь я) и садится рядом. Я ожидаю от него каких-нибудь ласковых и приветливых слов в связи с тем, что нам давно не приходилось видеться. Но он бледен, нервно возбужден, нетрезв и явно нарывается на скандал. Он прямо приступает ко мне с бранью по адресу и докладчика и доклада. Подходит хозяйка. Есенин встает, здоровается с нею и из озорства, как будто впервые представляясь ей, подчеркнуто произносит: «А я – русский, Сергей Есенин». Чтение стихов, конечно, не состоялось. Шумная компания скоро уехала.
Следующий раз я увидал Есенина трезвым и поэтом. Это было 6-го июня того же года, в памятный для литературной Москвы пушкинский день. Сто двадцать пять лет со дня рождения Пушкина. Все писатели приглашались к 6 ч. вечера к «Дому Герцена» на Тверском бульваре. Оттуда, выстроившись рядами, со знаменем во главе, торжественно двинулись к памятнику Пушкину, где должно было происходить возложение венка. Кажется, в истории русской литературы, а может быть, и не только русской, это была первая процессия писателей, и довольно многолюдная. «Читатели» стояли по обеим сторонам и созерцали невиданное зрелище.
У памятника великого поэта речей не произносилось. Сказал только коротенькое приветствие П.Н. Сакулин, а затем слово было предоставлено поэтам для произнесения стихов. Первой на ступенях пьедестала, возле только что возложенного венка (вправо от него, если смотреть от Страстного монастыря), появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно раскачиваясь руками и выкрикивая строчки, он прочел свое обращение «К Пушкину». Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому.
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,