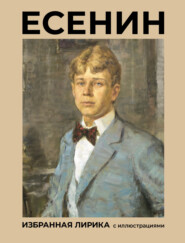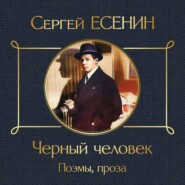По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я, Есенин Сергей…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Говоришь – война будет, значит, не миновать… Кто их знает: целы ли бумаги.
Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.
Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.
Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.
Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник мох, и веяло пролетней вялостью.
Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.
Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.
– На сход! – кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.
Скоро оравами затонакали мужики и, следом за ними, шли, поникнув, пожилые вдовы.
Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.
– Православные, – заговорил он, – Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.
Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.
Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.
Порешили выписать инженеров и достать бумаги.
Карев опасался, как бы бумаги не пропали.
Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.
Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую – крестьянам.
– Уж ты выручи нас, – говорили мужики, – мы тебя за это попомним…
Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.
– Ничего мне не надо, табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.
Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.
– Одурачить-то мы их одурачим, – возвращался он к старому разговору, – вот только б бумаги не подкашляли…
Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.
Ставни скрипели, как зыбка.
Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.
Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.
– Ты что ж это околицу-то прозевала, – весело поздоровался Карев.
Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.
– Забылася, – стыдливо ответила она.
– Эх ты, разепа, – шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.
Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку.
– Гыть-кыря! – пронеслось над самым окном.
– Кто это? – встрепенулся Филипп. – Никак пастухи… Федот, Федот, – замахал он высокому безбородому, как чухонец, пастуху, – ай прогнали?
– Прогнали, – сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.
– Вот, сукин сын, что делает, – злобно вздохнул Филипп, – убить не грех.
– На Афонин перекресток гоним! – крикнул опять пастух. – Измокли все из кобеля борзого… петлю бы ему на шею.
Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.
Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокресть.
– Пойдем в лес сходим, – сказал Филипп. – Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.
Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.
– Ау! – крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.
– У-у-у! – прокатилось гаркло по освеженному лесу.
Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.
– Недаром тебя зовут русалка-то, – захохотал он, – ты словно из воды вышла.
Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера…
Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.
– Проиграет твое, – говорил робко работник. – Там за них какой-то охотник вступился – бедовая, говорят, голова.
Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.
– Знаю я вас, мошенников… михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.
– Я ничего, – виновато косился работник, – я сказать тебе… может, сделаешь что…
Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.
Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.
Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.
Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник мох, и веяло пролетней вялостью.
Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.
Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.
– На сход! – кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.
Скоро оравами затонакали мужики и, следом за ними, шли, поникнув, пожилые вдовы.
Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.
– Православные, – заговорил он, – Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.
Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.
Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.
Порешили выписать инженеров и достать бумаги.
Карев опасался, как бы бумаги не пропали.
Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.
Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую – крестьянам.
– Уж ты выручи нас, – говорили мужики, – мы тебя за это попомним…
Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.
– Ничего мне не надо, табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.
Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.
– Одурачить-то мы их одурачим, – возвращался он к старому разговору, – вот только б бумаги не подкашляли…
Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.
Ставни скрипели, как зыбка.
Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.
Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.
– Ты что ж это околицу-то прозевала, – весело поздоровался Карев.
Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.
– Забылася, – стыдливо ответила она.
– Эх ты, разепа, – шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.
Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку.
– Гыть-кыря! – пронеслось над самым окном.
– Кто это? – встрепенулся Филипп. – Никак пастухи… Федот, Федот, – замахал он высокому безбородому, как чухонец, пастуху, – ай прогнали?
– Прогнали, – сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.
– Вот, сукин сын, что делает, – злобно вздохнул Филипп, – убить не грех.
– На Афонин перекресток гоним! – крикнул опять пастух. – Измокли все из кобеля борзого… петлю бы ему на шею.
Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.
Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокресть.
– Пойдем в лес сходим, – сказал Филипп. – Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.
Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.
– Ау! – крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.
– У-у-у! – прокатилось гаркло по освеженному лесу.
Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.
– Недаром тебя зовут русалка-то, – захохотал он, – ты словно из воды вышла.
Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера…
Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.
– Проиграет твое, – говорил робко работник. – Там за них какой-то охотник вступился – бедовая, говорят, голова.
Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.
– Знаю я вас, мошенников… михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.
– Я ничего, – виновато косился работник, – я сказать тебе… может, сделаешь что…