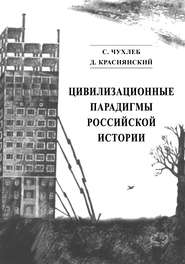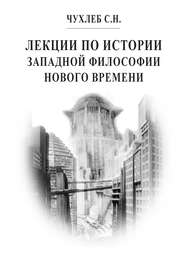По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Комментарии к материалистическому пониманию истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тем временем в обществе совершаются важнейшие процессы, бурно развивается торговля и промышленность, разлагаются древние институты, и Европа стремительно втягивается в эпоху капитализма. Это движение сопровождается великими географическими открытиями и созданием колоний в землях, населенных первобытными племенами.
Столь бурное и масштабное освоение этих земель сталкивает представителей европейской мысли с социальным и культурным «контр-Я». Если до этого момента европейцы имели дело преимущественно с представителями других цивилизаций, то отныне им открывается огромный мир первобытного общества. Возникает настоятельная потребность осмыслить дистанцию между этим обществом и европейской цивилизацией. В XVII в. возникает широко используемое прилагательное «цивилизованный». Состояние «цивилизованности» противопоставляется состоянию «дикости». Причем, с самого начала это противопоставление обладает глубоко оценочным характером. Так вновь в европейской мысли получает широкое распространение представление о линейном характере развития человеческого общества. Хотя оно и омрачается сомнениями некоторых в способности «диких» племен вообще развиваться. Но впрочем, эти сомнения обычно вызывались меркантильными интересами – низведя «дикарей» до уровня «животных», можно было получить моральное право на их безжалостную эксплуатацию.
В XVIII в. идея линейного развития истории окончательно оформляется как господствующая. Более того, она претерпевает ещё одну метаморфозу. Развитие индустриального общества с одной стороны и гражданского общества с другой стороны приводит просветителей XVIII в. к убеждению, что можно говорить не только о движении общества от «дикости» к «цивилизации», но и о развитии самого цивилизованного общества. Поскольку подобное развитие воспринимается глубоко положительно, постольку о нем говорят как о «прогрессе». Впервые эта идея была четко сформулирована в работе французского экономиста Анн Робера Жака Тюрго «Рассуждения о всеобщей истории» 1750 г., получившей широчайшее распространение среди читающей публики. Окончательное своё завершение идея прогресса нашла в работе Мари Жана Антуана Никола Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» 1794 г.
Хотя многие пагубные события Великой французской революции несколько поколебали веру европейцев в прогресс и породили концепцию романтизма, они были с лихвой компенсированы всеобщим стремительным развитием европейского общества XIX в. Так что ко времени К. Маркса и Ф. Энгельса идея прогресса была всеобщей очевиднейшей «истиной». И не удивительно, что основоположники марксизма были её горячими сторонниками. Общественная практика и дух науки XIX в. просто не давали им средств, чтобы возвыситься над этой идеей. Если же учесть моральные убеждения Маркса и Энгельса, то становится понятно, что такое возвышение было в принципе невозможно.
Таким образом, идея прогресса является одной из важнейших методологических предпосылок социальной теории марксизма.
Большинство традиционных марксистов не видит в этом ничего предосудительного. Это демонстрирует их глубокое непонимание как парадигмы марксизма, так и методологических требований современной науки.
Идея прогресса есть глубоко ценностная идея и в этом отношении совершенно несовместима с объективностью и непредвзятостью научного анализа.
В самом деле. Прогресс – это не просто развитие, это устремленность к чему-то высшему и совершенному. И это высшее и совершенное вызывает у сторонников прогресса глубокое положительное принятие и энтузиазм. Грубо говоря, можно сказать: прогресс – это развитие плюс ценностное отношение к этому развитию.
Отождествлять прогресс и развитие нельзя ни в коем случае. «Развитие» – это во многом конвенциональное понятие, описывающее реальные процессы сущего. Говоря о развитии, мы подразумеваем под этим некоторое «восходящее» движение из одного состояния в другое. Конвенциональность здесь состоит в том, что вне всякой оценки мы соглашаемся рассматривать, например, возрастание сложности, повышение устойчивости структуры, освоение новых «пространств», повышение эффективности коммуникации со средой и большую устойчивость по отношению к этой среде, выявление новых свойств и возможностей и тому подобное, как критерии более «высокого» состояния, а понижение этих параметров – как критерии более «низкого» состояния.
Подобная конвенциональность позволяет нам во многом условно говорить о том, что определенная система развивается или регрессирует.
Говоря об «условности» развития и регресса, мы вовсе не собираемся отрицать их реальность, но эта реальность, во многом, есть сконструированная нами реальность. Дело в том, что непрерывно выявляя в научном познании и устраняя из него аксиологический момент, мы можем в лучшем случае выявить и устранить ценности «второго» порядка, то есть моральные, социально-политические, религиозные и прочие ценности. Но при этом совершенно не затронутыми оказываются ценности «первого» порядка, ценности онтологического характера. Под этим мы подразумеваем следующее. Наука есть феномен социальной реальности и деятельности человека. Человек же есть система, обладающая помимо весьма определенных свойств, как-то: жизнь, сложность, социальность и т. д., ещё и сознанием. Соответственно, эти черты, явленные в окружающем его мире, неизбежно вызывают в нем положительную оценку и глубокий интерес как черты экзистенциально родные его бытию. Эту положительную оценку преодолеть в принципе невозможно, поскольку она проистекает из сущности человека. Даже если мы вообразим некий искусственный суперинтеллект, занимающийся познанием, то и в этом случае он не будет свободен от ценностей «первого» порядка.
Таким образом, говоря об «условности» понятия развития, мы подразумеваем под этим, что оно фиксирует в себе реальность, всегда взятую под определенным углом, под углом человеческого взгляда на мир. Иначе говоря, отражение реальности человеком никогда не будет отражением зеркала.
Понятие же прогресса лишено той объективности, которая присуща, пусть и отчасти, понятию «развития». В разное время и в разных обществах и даже в разных классах под прогрессом подразумевали и подразумевают различные вещи. Учитывая это, можно сказать, что ученый, воспринимающий понятие прогресса как очевиднейшее и естественнейшее, уподобляется русскому крестьянину из глубинки, который воспринимает всё отличное от его образа жизни, как «барские чудачества» либо выдумки «нехристей-немцев». Иначе говоря, говоря словами Ф. Бэкона, такой ученый находится во власти «призрака пещеры».
Это неизбежно. Положительное восприятие себя – фундаментальный закон человеческой психики. Даже самые чудовищные преступники воспринимают себя положительно. Длительное негативное самовосприятие рано или поздно приводит человека к разрушению. Прямым следствием этого закона в области идей являются различные формы «центризма», например: этноцентризм или хроноцентризм – повседневный человек с очевидностью знает, что его страна и его время являются стандартом нормального, естественного для человека образа жизни. К сожалению, большинство ученых не могут преодолеть эту повседневную очевидность. Ученый, полагающий, что его культура или его время наконец обнаружили и реализовали, пусть и частично, подлинные ценности и константы человеческого бытия, с позиции которых теперь и необходимо оценивать прошлое, настоящее и другие культуры, ученым не является, поскольку в действительности он выступает в качестве идеолога, рафинирующего и вербализирующего психологические установки своего Я и Я своих «соплеменников» и современников. Научная дискуссия с таким «горе-ученым» невозможна, поскольку его бессознательная мотивация связана не с поиском истины, а с защитой и утверждением своей экзистенциальной и социокультурной идентификацией.
В подобном же положении находятся и те, кто подвергает сомнению доминирующий тип культуры и общества и возвещает пришествие иного, более лучшего типа культуры и общества. Например, марксисты. При детальном исследовании мы обнаруживаем, что они не отбрасывают все элементы и схемы критикуемой ими их социальной среды, но сохраняют одни из них, преобразуя другие. Фактически, мы имеем дело все с тем же центризмом, с той лишь разницей, что здесь за стержень, центр принимается не доминирующая форма, а форма периферийная, диссидентская, возникшая в результате социальной мутации.
Таким образом, идея «прогресса» – это псевдонаучное, идеологическое понятие, призванное обосновать основные ценностные предпочтения наличной социальной формы и защитить их от негативного воздействия социальных форм прошлого и параллельных форм настоящего. Идея прогресса позволяет дискредитировать их как полноценные образцы, как равноправных «оппонентов», квалифицируя эти формы как ненормальные, извращенные, патологические, неистинные, недоразвитые. Эта же идея призвана утвердить и различные аксиологические ожидания представителей определенной социальной формы относительно будущего этой формы.
Можно предвидеть, что это утверждение будет обращением к глухим, поскольку оно похищает у множества социальных теоретиков их замечательное видение самих себя как глубоких и проницательных ученых, служащих своим поиском истины делу «Света и Добра», и обращает их в наивных теоретиков, которые с важным видом друзей Истины вербализируют предпочтения, страхи и надежды своей «стаи». Естественно, лишь единицы смогут принять этот удар, критически пересмотреть плоды своих многолетних усилий и двинуться в более эвристически плодотворном направлении.
Сказанное совершенно не отменяет использование понятия «прогресс» в политической практике. Лишь неразвитое теоретическое сознание воспринимает научную теорию как политическую программу, а политическую программу, как научную теорию. Но, в действительности, это – различные вещи. Теория преследует истину, программа – политический результат. Разумно, когда программа опирается на теорию. Но если это не иллюзорное соответствие, то подобное согласование не всегда выгодно для программы. Конечно, с одной стороны, научно-обоснованная программа становится более адекватной и эффективной. Но, с другой стороны, она неизбежно теряет в своей привлекательности, поскольку не может обещать того, что обещает программа чисто идеологическая. Хорошая теория призвана отразить реальность, а реальность редко (а, может быть, никогда?) благоприятствует всем ожиданиям человека. Программа, базирующаяся на адекватной теории, будет неизбежно выглядеть в глазах политических субъектов как несправедливая или нерешительная, как программа, инициированная злонамеренными силами, не желающими достижения общественного блага.
Понятие «прогресс» может быть использовано в политической программе как термин, выражающий определенные субъектные предпочтения и ожидания. Но теоретик должен помнить, что здесь – лишь условность, порожденная потребностями политической практики.
Опуская детали, можно сказать, что обычно прогресс марксисты определяют через следующие критерии: эмансипация человека и человечества
, преодоление социальной несправедливости, рост богатства общества, всё более полная реализация творческих возможностей человека, ширящееся просвещение, рост морального сознания, возрастание власти над природой и всё большее распространение человечества во Вселенной, научно-технический рост и так далее. Как мы видим, в большинстве своем всё это идеи чисто европейской цивилизации, и могут быть отвергнуты или отвергаются другими цивилизациями, как это мы видим в случае с ООНовской Декларацией прав человека.
Конечно, нам могут возразить, что в этом нет ничего удивительного, поскольку эти «другие цивилизации» стоят на более низкой ступени развития. Иными словами, большинство марксистов полагают, что развитие морали и культуры не могут быть отделены от развития общества. Соответственно, прогресс общества означает прогресс морали и культуры, и более прогрессивные общества являют более прогрессивную, более объективную мораль. Конструируя понятие прогресса, они якобы опираются не на исторический предрассудок, а на объективную, общечеловеческую мораль: «Факты неопровержимо свидетельствуют: человеческая мораль всегда носила исторический характер. В зависимости от изменения самого общества менялись нормы морали, представление о добре и зле, но исторический подход к морали далеко не равнозначен моральному релятивизму. Развитие морали носило кумулятивный характер. В исторически преходящей форме шло накопление того, что имеет непреходящий характер. В этом смысле можно говорить о формировании общечеловеческой морали, которая, однако, еще далека от завершения»
В подобной формулировке проблему соотношения развития общества и морали обсуждать совершенно бессмысленно, поскольку эта формулировка опирается на логический круг в доказательстве, так как предполагает, что цивилизационное развитие неразрывно связано с прогрессом в области моральных и политических ценностей, а последние позволяют сконструировать «очевидные» критерии прогресса общества в целом. В то время как ещё только надо доказать, что существуют некие абсолютные ценности, которые и прогрессируют.
Таким образом, нам вновь приходится отвечать на вопрос, поставленный в 1750 г. Дижонской Академией: «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?». Помнится, за ответ на этот вопрос Ж. – Ж. Руссо был вознагражден весьма ободряющей премией. Хотя премия уже и выплачена, мы всё же попытаемся бескорыстно исследовать этот предмет вновь.
Действительно «факты неопровержимо свидетельствуют: человеческая мораль всегда носила исторический характер». И факты также свидетельствуют о реальности социального развития. Но пока вопрос о прогрессе остается открытым, мы ни в коей мере не можем интерпретировать это развитие как прогресс. Отождествлять прогресс и развитие нельзя ни в коем случае. «Развитие» – это во многом конвенциональное понятие, описывающее реальные процессы сущего. Говоря о развитии, мы подразумеваем под этим некоторое «восходящее» движение из одного состояния в другое. Конвенциональность здесь состоит в том, что вне всякой оценки мы соглашаемся рассматривать, например, возрастание сложности, повышение устойчивости структуры, освоение новых «пространств», повышение эффективности коммуникации со средой и большую устойчивость по отношению к этой среде, выявление новых свойств и возможностей и тому подобное, как критерии более «высокого» состояния, а понижение этих параметров – как критерии более «низкого» состояния. Подобная конвенциональность позволяет нам во многом условно, говорить о том, что определенная система развивается или регрессирует.
Соответственно, понимая развитие таким образом и старательно избегая каких-либо оценочных суждений мы констатируем: некоторые общества развиваются, то есть становятся более сложными, устойчивыми, эффективными, гомеостатичными. Сопровождается ли это развитие улучшением образа жизни и личности человека? Иногда да, иногда – нет. Так, например, Англия XIX века очевидно более развитое общество, нежели средневековая Англия. Но положение народа в средневековой Англии было значительно лучше. Безусловно, в XX веке почти все слои общества Запада процветают. Но бедствуют страны периферии. Что принесет нам будущее неизвестно. Таким образом, пока мы можем констатировать отсутствие жесткой линии зависимости между развитием социального организма и процветанием индивида. В этом отношении прогрессистская идея о том, что всё идет к конечной всеобщей гармонии и всеобщему процветанию остается пока лишь надеждой и верой. Использовать эти надежду и веру в качестве исходной посылки для социологии истории – значит практиковать худший вид метафизики.
Сопровождается ли социальное развитие развитием в области морали? Прежде чем ответить на этот вопрос мы должны выяснить: существует ли общечеловеческая, объективная мораль? Как уже было отмечено выше, факты неопровержимо свидетельствуют, что такая мораль не существует. Именно эта констатация является эмпирическим фундаментом для концепции морального и культурного релятивизма. Эта концепция убедительно демонстрирует, что все культурные и моральные ценности всегда привязаны к конкретному социально-историческому организму, находящемуся в индивидуальной ситуации, в индивидуальном хронотопе. Попытка обнаружить в этих релятивных культурах элемент универсальности возможен лишь при конструировании некой абсолютной точки отсчета. В религиозной системе таковой является Бог. Но наука является внерелигиозной системой.
Попытка создать такую точку отсчета на основе ценностей европейской культуры потерпела банкротство в силу своей необоснованности и произвольности. Следовательно, остается лишь один путь: постулирование некоего общества будущего, которое выступит в качестве универсального завершения человеческой «предыстории» и реализует подлинную природу человека и социальности. В этом случае культура и ценности такого общества оказываются критерием для оценки всех эмпирически фиксируемых исторически ограниченных культур и обществ.
Именно этим путем и идут марксисты.
Но:
1. Наука не может использовать в качестве достаточного основания для хорошо верифицируемого вывода некие события, которые якобы произойдут в будущем. Это является аксиомой науки, отмена которой влечет за собой эпистемологический хаос.
2. Марксисты полагают, что их тезисы об обществе будущего прекрасно доказываются анализом современных и прошлых обществ. Но как мы видим, важнейшей предпосылкой этого анализа оказывается идея прогресса и постулирование некоего универсального общества будущего. Налицо круг в доказательстве. Здесь невольно вспоминаются советские лозунги: учение Маркса всесильно, потому что оно верно. И оно верно, потому что оно всесильно.
3. Кроме того, не стоит забывать и про знаменитую «Иронию истории». Нам не известно, какими будут производительные силы в XXII веке. Соответственно, мы не можем знать, каковым будет общество, детерминированное этими силами. Оно может быть коммунистическим, или фашистским, или, возможно, обществом машин, господствующих над человеком. Здесь вариантов – множество, и многие из них убедительно представлены в жанре научной фантастики. Кто знает, возможно, с позиции морали этого общества будущего наши марксисты предстанут в качестве самых гнусных и зловредных порождений человечества. Вера в то, что универсальное общество будущего полностью оправдает марксистов и проклянет их оппонентов, есть всего лишь вера. И можно лишь удивляться тому, сколь абсолютный мандат на изменение мира марксисты извлекают из этой веры.
Но, впрочем, конструирование универсальной морали может опереться не только на миллионаристские ожидания, но и на отсылку к некоей естественной природе человека. Марксисты весьма активно используют и эту возможность, следуя примеру самого Маркса. Еще до создания материалистического понимания истории Маркс возвестил в своих рукописях 1844 г. о благой природе человека. Более того, обе идеи оказываются взаимосвязанными. Именно универсальное, справедливое общество оказывается средством раскрытия подлинной человеческой природы. «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности – этого самоотчуждения человека – и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращения человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как завершенный гуманизм, = натурализму; он есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он – решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».
Таким образом, Маркс однозначно заявляет о своей позиции как позиции гуманизма. И даже более того, обозначает её как «завершенный гуманизм». По-человечески гуманистическую позицию Маркса можно только приветствовать, но с позиции науки гуманизм должен быть отброшен как глубоко метафизическая, ценностная посылка. Гуманизм не может быть основанием для объективной научной теории. Причем, в наибольшей степени это справедливо в отношении гуманизма самого Маркса.
Что это за гуманизм, и каков круг идей, составляющих эту позицию? Иными словами, каковы источники, по которым Маркс составлял свое представление о так называемой «подлинной природе человека»?
В качестве наиважнейшего источника гуманизма Маркса следует указать гуманистическую философию Людвига Фейербаха. Фейербах полагал, что современный человек находится под мощнейшим гнетом религиозного отчуждения. По его мнению, все приписываемые Богу положительные характеристики не являются предикатами божественного, а составляют суть подлинной природы человека. Они лишь отчуждены от человека и приписаны божественному. Причем, мы обнаруживаем, что эта идея формулируется Фейербахом не как результат серьезных научных изысканий, а как плод чисто спекулятивной философии. Это очень по-немецки, и это очень сильно напоминает Фихте, с той лишь разницей, что Фихте предавался спекуляции на почве онтологии и гносеологии, а Фейербах – антропологии. Более того, религия, в данном случае христианство, была для немецкого профессора первой половины XIX в. Людвига Фейербаха неким культурным универсумом, вне которого не существует ничего особенно важного. И если христианство является тотальной проекцией надежд и идеалов человека на Божественный Абсолют, то философия Фейербаха оказывается тотальной обратной проекцией этих надежд и идеалов на самого человека. Иными словами, Фейербах исходит из христианских идей как самооче-виднейших, он не подвергает их сомнению, он лишь секуляризирует их, переводя в плоскость антропологического материализма.
Таким образом, мы видим, что, как и в случае с диалектикой, фейербаховско-марксовский гуманизм не был подвергнут тщательной проверке научными процедурами, а был лишь заимствован из немецкой спекулятивной философии и предшествующей культуры.
Другим источником гуманизма Маркса является утопическая традиция европейского социализма XVI–XIX вв. Но и она не базируется на каких-либо серьезных научных изысканиях, а лишь развивает ту или иную версию секуляризированного христианства. Это становится особенно очевидным, если вспомнить что основоположники этой традиции Мор и Кампанелла всецело находились в рамках христианства. Кампанелла был монахом, а Томас Мор даже выступил как мученик католической веры.
Таким образом, мы видим, что большинство источников гуманизма Маркса восходит к антропологии христианства. Более того, вся культура XIX в. пронизана христианскими мотивами. Это время религиозного возрождения, расцвета филантропических обществ, попыток реализации моральных идеалов в области политики и экономики, время торжества пуританизма и строгой морали. Конечно, можно смело утверждать, как это и делают марксисты, что Маркс и Энгельс в силу своей гениальности достигли интеллектуальной и духовной автономии по отношению к окружающему их обществу. Но почему тогда их идеи и ценности столь явно коррелируют с идеями и ценностями этого общества?
Еще один важнейший источник гуманизма Маркса – руссоистская традиция. Здесь мы, казалось бы, обнаруживаем хоть какую-то попытку, следовать фактам реальности – Руссо и его поклонники слыли знатоками естественного человека явленного им в лице дикаря и туземца. Но, к сожалению, они никогда не сталкивались лично ни с одним туземцем, а лишь опирались на поверхностные описания путешественников. Причем, поскольку их целью являлось морализирование и составление социально-политических прожектов, а не детальное изучение первобытных обществ, постольку из этих описаний туземной жизни они брали лишь то, что согласовывалось с их моралистической позицией. Многочисленные факты жестокости, насилия, доминирования и войн в первобытном обществе они просто игнорировали.
Мы ни в коей мере не хотим утверждать, что вопрос о подлинной природе человека есть мнимый вопрос, и что никакой природы человека не существует. Вне всякого сомнения, мы можем обнаружить целый набор биологических и социальных констант, характеризующих родовую сущность человека. Но, к сожалению или к счастью, картина, которая вырисовывается по данным современных наук, чрезвычайно далека от той, которой ублажают себя многочисленные метафизики, моралисты, гуманисты и прочие духовидцы. Наиболее эффективные методы выявления родовой сущности человека – обращение к истории и к данным биологической и психологической науки. В этом отношении, в качестве крайне любопытного исследования такой человеческой константы как собственническое начало, можно указать трактат Р. Пайпса «Собственность и свобода».
Если же мы обратимся к данным этологии, то и здесь тотчас обнаружится множество фактов, разрушающих идиллическую картину. Вот некоторые из них:
1. «А вот от каннибализма разумного человека никуда не денешься, человеческие кости в мусорных кучах людей каменного века находили часто и повсеместно. До поры до времени на это еще можно было закрыть глаза, утверждать, что они попали туда случайно, или их занесли птицы или звери, или что это такой обряд погребения. Но недавние раскопки в пещерах на юго-востоке Франции принесли из мусорных ям шеститысячелетней давности множество костей и животных, и человека. Все кости хранят на себе следы каменных орудий, которыми их разрубали, срезая мясо. Оказалось, что человек и зверь разделывались по одной схеме, одинаково разрубались на куски. Кости человека хранят следы соскабливания мяса, а крупные кости раздроблены, чтобы добраться до мозга.
– Это свидетельство общепринятого регулярного каннибализма у людей каменного века, – делает вывод П. Вилла, руководитель раскопок. Итак, людоедство – позднее, эволюционно молодое приобретение, видовой признак разумного человека… Если людоедство – свойство нашего с вами вида, то понятно, что только жестокое подавление этого инстинкта сдерживает его реализацию».
Когда марксисты говорят о торжестве в обществе будущего подлинной человеческой природы и её освобождении от давления чуждой ей силы, то не имеют ли они в виду, в том числе, и повсеместный расцвет каннибализма?
2. Как известно, половые признаки у самок в животном мире гипертрофируются лишь в период размножения, у женщины же, человеческой самки, эти признаки по достижении половой зрелости гипертрофированны постоянно. «Женщина же способна к половому акту не только в течение всего месячного цикла, но и во время беременности, и во время кормления ребенка грудью. В соответствии с такой физиологической способностью женщине всегда не безразличен интерес мужчин, она демонстрирует себя непрерывно. Увеличенные при овуляции молочные железы были у приматов одним из сигналов готовности самки к размножению. После овуляции они, как у всех млекопитающих, редуцируются до почти незаметных размеров. У женщин эта очень удобная обратимость разрушилась, и железы пребывают всегда в увеличенном состоянии, сигнализируя постоянную готовность. Вот какие поразительные перестройки физиологии поведения женского организма произошли на пути превращения обезьян в человека!»
Очевидно, что здесь мы имеем дело с результатом биологического, полового и социального отбора. Скорее всего, эти изменения были необходимы для поддержания постоянного интереса к женщине со стороны мужчин с тем, чтобы обеспечить себе и своим детям пищу и безопасность. Этот вывод вынуждает нас усомниться в «идеальности» социального устройства первобытных обществ, и непреложности действия якобы существовавшего в этих обществах закона коммунистического распределения. Если бы такое распределение существовало, то поддержание постоянного интереса мужчины к женщине просто не требовалось бы. Сам факт принадлежности её и её детей к общине обеспечивал бы необходимую защиту и питание.
Кроме того, эта характеристика, безусловно, относится к родовой константе человеческой сущности, но сколь далека она от гуманистической картины благой природы человека.
3. Гуманизм исходит из предпосылки, что по своей природе человек добр. Соответственно, ликвидация социальных причин порождающих агрессию с необходимостью должно привести к тотальной реализации этой благой природы человека. Но данные науки показывают, что механизм агрессии унаследован нами от животных, и он является постоянно самозаряжающейся и самовоспроизводящей системой. «Раньше психологи думали, что агрессия вызывается внешними причинами, а если их убрать, то она проявляться не будет. Этологи показали, что это не так. При отсутствии раздражителей агрессивность, потребность совершить агрессивный акт всё время возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессивного поведения понижается, и всё более мелкие поводы оказываются достаточными, чтобы агрессивность вырвалась наружу. В конце концов, она вырывается без всякого повода».