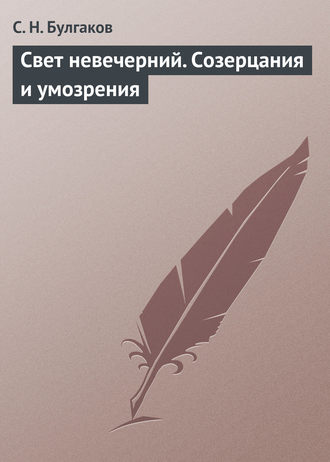
Свет невечерний. Созерцания и умозрения
546
В творении «О божественных именах» св. Дионисий Ареопагит говорит, что, «если позволительно сказать, само не-сущее стремится к благу, стоящему выше всего существующего, старается и само как-нибудь быть в благе» (και αυτό το μη öv έφίεται και φιλονικεϊ πως εν τοίγαθώ και αυτό είναι) (De d. п., IV, 3 Migne, III, 64714). Также и к красоте стремится не только все сущее, но «даже и то решается вымолвить слово, что и не-сущее причастно добру и красоте, ибо и оно становится добром и красотой, когда прославляется в Боге» (Τολμήζει δε και τοΰτο είπεΐν ό λόγος, δτι καί το μη δν μετέχει του κάλου και αγαθού, τότε γαρ και αυτό καλόν και αγαθόν, οταν εν θεώ… ύμνήται (De d. п., IV, 7, Mg. III, 704»). «Все существующее происходит из добра и красоты, все не существующее сверхсущественно пребывает в добре и красоте» (Πάντα τα οντά ёк του κάλου καϊ αγαθού και πάντα τα ουκ οντά ύπερουσίως εν καλώ και οίγαθω) (De d. п., IV, 10, Mg. III, 708»). Комментируя эти суждения, св. Максим Исповедник прямо говорит: «Бог сам есть виновник и ничто, ибо все, как последствие, вытекает из Него, согласно причинам как бытия, так и небытия, ибо само ничто есть ограничение, ибо оно имеет бытие благодаря тому, что оно есть ничто из существующего» («αυτός οϋν και μηδενός αίτιος πάντων αύτοδ υστερούν όντων, κατά της του είναι αΐτίαν καί γαρ αυτό το μηδέν στέρησίς εστίν έχει γαρ το είναι δια το μηδέν είναι των δντων» (S. Maximi scholia in lib. de div. nom., Migne, IV, 260–261). Далее св. Максим сопоставляет тварное бытие и небытие с Божественным НЕ-что отрицательного богословия: «и не сущий существует чрез бытие и небытие, будучи всем как творец, и будучи ничто, как трансцендентный, вернее же сущий трансцендентно и сверхбытийно» (και μη ων εστί δια του είναι καϊ ύπερεΐναι, πάντα ων, ως ποιητής, και μηδέν ων, ως ύπερβεβηκώς μάλλον δε και Οπεραναβεβηκώς και ύπερουσίως ων.).
547
В диалоге «Парменид», в этой «божественной игре» знающего свою мощь гения, диалектически вскрывается неразрывность бытия и небытия, бытие не только бытия, но и небытия, равно как и небытие не только небытия, но и бытия. «Есть одно не существующее (το εν οι3κ öv), потому если не существующего не станет, если оно потеряет что-либо из своего бытия в пользу небытия, оно вдруг станет существующим (δν). Следовательно, чтобы не быть, оно должно связываться в небытии бытием небытия (δεσμόν εχειν του μη εϊναι το είναι, μη ον), подобно тому как существующее, чтобы вполне быть, должно связываться в бытии небытием небытия (το öv το μη δν εχειν μη εϊναι), таким-то образом, существующее в наибольшей степени будет, не существующее же не будет, когда существующее будет причастно сущности быть существующим, но не будет причастно сущности быть не существующим (μετέχοντα το μεν δν ουσίας του είναι δν, μη οΰσίασ δε του εϊναι μη ον), если уж вполне быть имеет, и когда не существующее не будет причастно сущности не быть не существующим (το δε μη öv ουσίας μεν του μη εϊναι μη δν), но будет причастно сущности быть не существующим (ουσίας δε του εϊναι μη δν), если уж и не существующее имеет вполне не быть. Поэтому, раз существующее причастно небытию, а не существующее – бытию, то и единому необходимо, если оно и не есть, быть причастным бытию в отношении небытия (είς το μη εϊναι)» (Parmenid., 162 a-b). (Ср. Платон. Соч. Т. 2. С. 468) Исследованию о взаимоотношении бытия и небытия и их связанности посвящается немало внимания и в «Софисте»: не существующее, «приобщаясь к существующему, тоже становится существующим» (ότι μετέχει του δντος, εϊναι τε και οντά) (Sophist., 256 е. Ср. Платон. Соч. т.2 С. 381.). Этот анализ ставится в связь с учением об относительности бытия, в силу которой всякое бытие есть в одном отношении бытие, в другом – небытие, что раскрывается при анализе движения и изменения. «Мы не разделяем мнения, будто отрицание указует противоположность, но лишь то, что частицами ου или μη, поставленными перед следующими за ними словами (ονομάτων), или, вернее, вещами, к которым относятся слова, произносимые после отрицания, указуется некая инаковость» (257 Ь-с). О всех родах бытия, и вместе, и порознь, можно сказать, что «во многих отношениях они существуют, а во многих не существуют» (πολλαχτ) μεν εστίν, πολλαχή δ'οΰκ εστίν) (259 b)».
548
Для Гегеля «das reine Seyn und das reine Nichts ist dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Seyn, noch das Nichts, sondern dass das Seyn in Nichts, und das Nichts in Seyn – nicht übergeht, sondern übergegangen /st»(Hegel's Wissenschaft des Logik, I, 73). «Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же. Истина – это не бытие и не ничто, она состоит в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто, и ничто не переходит, а перешло в бытие» (Гегель. Наука логики. М., 1970. Т. 1.С. 140).
549
Ср. перевод С. С. Аверинцева: «Незаконное умозаключение» (Платон. Соч. М.,1971. Т. 1. Ч. 1. С. 493).
550
… οΰτε φθεύξασθαι δυνατόν ορθώς οΰτ' ειπείν οΰτε διανοηθήναι το μη ον αυτό καθ' αυτό, αλλ' εστίν οίδιανοητόν τε καϊ άρρητον και αφθεγκτον και αλογον (Sophist., 238 с). Ср. Платон. Соч. М.,1971. Т. С. 353.
551
Все становится, находится в становлении (нем.).
552
Знаменитый афоризм Гераклита известен в передаче Платона (Теэтет, 183 а). См.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1. С. 210–211.
553
«Нет ничего такого, что не было бы промежуточным состоянием между бытием и ничто»…. «Становление есть исчезание бытия в ничто и ничто – в бытие, и исчезание бытия в ничто вообще; но в то же время оно основывается на различии последних» (Гегель. Наука логики. М., 1970. Т. 1. С. 165, 167).
554
Hegel. Wissenschaft der Logik, I, 101, 103 (курс. мой). Но Гегель распространяет бытие, а следовательно, и небытие на Бога и, по-видимому, вспоминая Беме, говорит: «Es wäre nicht schwer, diese Einheit von Seyn und Nichts in jedem Beispiele, in jedem Wirklichen oder Gedanken aufzuzeigen. Es muss dasselbe, was oben von der Unmittelbarkeit oder Vermittlung von Seyn und Nichts gesagt wergen, daxx es nirgend im Himmel (sie!) und auf Erden Etwas gebe, was nicht Beides Seyn und Nichts in sich enthielte». Далее Гегель прямо применяет это и к Богу: «So in Gott selbst enthält die Qualität Thätigkeit, Schöpfung, Macht u. s. w. wesentlich die Bestimmung des Negativen, – sie sind ein Hervorbringen eines Anderen» (ib., 76). «Было бы нетрудно показать это единство бытия и ничто на любом примере, во всякой действительной вещи или мысли. О бытии и ничто следует сказать то же, что было сказано выше о непосредственности и опосредованности (заключающем в себе некое соотношение друг с другом и, значит, отрицание), а именно, что нет ничего ни на небе, ни на земле, что не содержало бы в себе и ничто».
… «В самом Боге качество, деятельность, творение, могущество и т. п. содержат как нечто сущностное определение отрицательного, – они создают некое иное» (там же, с. 143).
В том же грехе – распространения категории бытия на Бога – следует признать повинным и Я. Беме, у которого не следует, конечно, ожидать при ном философской отчетливости. Однако учение о возникновении в Nichts – Etwas», а равно и все учение о «природе в Боге» с ее духовно-физической диалектикой могут быть поняты только в этом смысле.
555
Знаменитое рассуждение Платона о материи тесно связано с учением о творении мира. «Тимей» есть единственный диалог Платона, где мир рассматирвается как творение благого, «не ведающего зависти» Творца. Платон различает здесь (28 d): «Всегда сущее и не имеющее происхождения» (мир идей), «всегда бывающее, но никогда не сущее» (мир явлений) и, наконец, «трудный и темный» вид, назначение которого быть «субстратом (ΰποδοχήν) всякого происхождения (γενέσεως), как бы кормилицей (τιθήνην)». «О сущности, принимающей всякие тела, следует сказать, что она всегда остается тождественной (ταύτη ν), потому что она ни в каком случае не выступает из своей способности (δυνάμεως). Она всегда в себя все принимает, никогда, никаким образом никакой не усвояет формы, подобной в нее входящему; ибо она по природе есть вместилище (έκμαγεΐον), приводимое в движение и оформляемое от входящего, и благодаря ему представляется в разные времена по-разному» (50 Ь-с). «Принимающее можно уподобить матери, то, от чего (принимается), – отцу, природу, занимающую промежуточное место между ними, – порождению» (50 d). «Эту мать и субстрат (υποδοχή ν) всего, что явилось видимого и всячески чувственно постигаемого, мы не назовем ни землею, ни воздухом, ни огнем, ни водою, ни тем, что произошло из них или из чего произошли они сами; но не ошибемся, сказавши, что она есть некий вид безвидный, безобразный, всеприемлющий, как-то неисследимо причастный мыслимости и неуловимый» (51 а). Наконец, материя определяется еще как род пространства (το της χώρας), не приемлющий разрушения, дающий место всему, что имеет рождение, само же, недоступное чувствам, уловляется некиим поддельным суждением, трудно вероятное» (52 а-b). Ср.: Платон. Соч. Т. 3. Ч. I. С. 469, 491, 492, 493. Источник первой цитаты (28 d) указан неточно; следует читать: 27 d-28 a. В прямом отношении к учению «Тимея» о материи стоит и учение о беспредельном (άπειρον) и предельном (πέρας) «Филеба». См.: Филеб, 16 с-18 с (Платон. Соч. Т. 3. Ч. 1. С. 17–20).. Известно, как платоновское учение о меональной материи было воспринято Аристотелем в его учении о первоматерии (πρώτην ΰλη): последняя лишена всякой определенности, понятия и формы (άμορφος, (ίειδές, άγνωστος, αόριστος, αρρύθμιστος) (см. Метафизика, кн. IV, З). Раздел «Метафизики», в котором говорится о первоматерии, указан Булгаковым неверно. Правильно: Мет. VII, 3 (См.: Аристотель. Соч. М., 1975. Т. 1. С. 189–190). «Беспредельное» и «предел» Платона Аристотель истолковывает как «материю» и «форму» (см.: Чанышев А. Ц. Аристотель. М., 1981. С. 37. По вопросу о бытии и небытии в учении Платона заслуживает серьезнейшего внимания исследование Nicolai Hartmann. Plato's Logik des Seyns. Giessen, 1909. Несмотря на когенианские задания этой книги, она содержит тонкие исследования относительно самых трудных проблем платонизма и в этом отношении даже превосходит капитальную работу Natorp. Plato's Ideenlehre. Leipzig, 1903. И На-торп, и Гартман останавливаются на наименее изученных сторонах платонизма, на том, что можно назвать в нем «трансцендентализмом», и в этом неоспоримая заслуга Марбургской школы.
556
Из истории одного обращения.
557
Видовой признак (лат.).
558
Св. Афанасий Александрийский говорит об отношении между Творцом и творением: «Все, что ни сотворено, нимало не подобно по сущности своей Творцу, но вне Его, по благодати и изволению Его сотворено Словом… Какое сходство между тем, что из ничего, и между Творцом, Из ничего приводящим это в бытие? Или какое возможно подобие у Сущего с не-сущим, имеющим уже тот недостаток, что некогда не имело бытия и помещено в числе вещей сотворенных?» (Творения св. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского, ч. II, изд. 2‑е. На ариан слово первое, стр.202–204. Migne, t. 26, col. 53). «Естество сотворенных вещей, как происшедшее из ничего, само в себе взятое, есть что-то текучее, немощное, смертное. Бог же всяческих по естеству благ и выше всякой доброты… Посему-то он не завидует никому в бытии, но хочет, чтобы все наслаждались бытием… Итак, усматривая, что всякое сотворенное естество, сколько зависит от заключающихся в нем причин, есть нечто текучее и разрушающееся, на тот конец, чтобы вселенная не подверглась разрушению и не разрешилась опять в небытие, все сотворив вечным Словом Своим и осуществив тварь, не попустил ей увлекаться и обуреваться собственным своим естеством, отчего угрожала бы ей опасность снова прийти в небытие, но как благий управляет вселенною и поддерживает ее в бытии Словом же Своим… чтобы тварь… могла твердо стоять в бытии… и не подверглась бы тому, чему могла бы подвергнуться (т. е. небытию)» (Творения, ч. I, стр.181–182. Слово на язычников, 41. Migne, t. 25, col. 82–84).
559
«Природе субстанции присуще существование» (Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957. Т. 1. С. 364).
560
Дж. Бруно в своем трактате «De la causa, principe e uno» в пятом диалоге дает характеристику Мировой души или Вселенной как Единого, неподвижного, абсолютного, стоящего выше различий и противоречий (в частностях он явно опирается здесь на учение об абсолютном Николая Кузанского), но затем задается вопросом: «Почему изменяются вещи? почему материя постоянно облекается в новые формы? Я отвечаю, что всякое изменение стремится не к новому бытию, но к новому виду бытия. И такова разница между самой вселенной и вещами в вселенной. Ибо она объемлет всякое бытие и все виды бытия; из них же каждая имеет целое бытие, но не все виды бытия, и не может иметь в действительности все определения и акциденции… В бесконечном, неподвижном, т. е. субстанции, сущности, находится множество, число; как модус и многообразие сущности, она не становится более чем единой, но только многообразной, многовидной сущностью. Все, что образует различие и число, есть только акциденция, только образ, только комбинация. Каждое порождение, какого бы рода оно ни было, есть изменение, тогда как субстанция всегда остается тою же, потому что она есть только одна, божественная, бессмертная сущность… Это существо едино и постоянно и остается всегда; это единое – вечно; всякое движение, всякий образ, все другое есть суета, есть как бы ничто, да, именно ничто есть все вне этого единства». Отношение между единым и многим, вселенной и ее феноменами определяется так, что последние «суть как бы различные способы проявления одной и той же субстанции, колеблющееся, подвижное, преходящее явление недвижной, пребывающей и вечной сущности, в которой есть все формы, образы и члены, но в неразличенном и как бы завитом состоянии, как в семени рука не отличается еще от кисти, хвост – от головы, жилы – от костей. Но что порождается отделением и различением – это не есть новая и иная субстанция; но она приводит лишь в действительность и исполнение известные свойства, различия, акциденции и ступени в каждой субстанции… Отсюда все, что порождает различие родов, видов, что создает разницы и свойства, все, что существует в возникновении, гибели, изменении и перемене, – есть не сущность, не бытие, но состояние и определение сущности и бытия, а это последнее есть единый бесконечный, неподвижный субстрат, материя, жизнь, душа, истинное и доброе. Так как сущность неделима и проста… стало быть, ни в каком случае земля не может рассматриваться как часть сущности, солнце – как часть субстанции, так как она неделима; не позволительно говорить о части в субстанции, так же, как нельзя говорить, что часть души – в руке, другая в голове, но вполне возможно, что душа в той части, которая является головой, что она есть субстанция части или находится в той части, которая есть рука. Ибо часть, кусок, член, целое, столько, больше, меньше, как это, как то, чем это, чем то, согласно, различно и другие отношения не выражают абсолютного и поэтому не могут относиться к субстанции, к единому, к сущности, но лишь чрез посредство субстанции быть при едином и сущности как модусы, отношения и формы… Потому неплохо звучит мнение Гераклита, утверждавшего, что все вещи суть единое, которое в силу переменчивости имеет все вещи в себе; а так как все формы находятся в нем, то к нему соответственно этому относятся и все определения, а настолько справедливы и противоречащие друг другу положения. Итак, то, что составляет множественность в вещах, не есть сущность и самая вещь, но лишь явление, которое представляется чувствам, и только на поверхности вещей» (цит. по нем. пер. Лассона, стр.100–105). Ср. перевод М. А. Дынника: Бруно Дж. О причине, начале и едином. М., 1934. С. 192–199 (курс. Булгакова).. Пантеизм роковым образом приводит Бруно к признанию мира лишь феноменом Абсолютного, т. е. акосмизму. Апории, возникающие при определении соотношения между единым абсолютным универсом и относительным бытием, вскрылись бы с еще большей ясностью, если бы Бруно перешел к выяснению природы человеческой личности и индивидуального духа, который во имя последовательности тоже пришлось бы признать акциденцией, модусом или феноменом единой субстанции (к каковому аперсонализму и приводит обыкновенно логика пантеизма). Проблема реальности относительного при абсолютизировании бытия как единого здесь становится безысходною и неразрешимою.
561
Вопрос этот составлял предмет спора между итальянскими мыслителями Розмини и Джоберти, причем первый определяет Бога именно как абсолютное бытие, второй же различает сущее и существующее, причем, по формуле Джоберти, сущее творит существующее (ср. В. Эрн. Розмини и его теория знания. М., 1914. «Путь». Стр.172–173).
562
Теофания (греч.) – богоявление, явление Бога в «тварном субстрате»; теогония (греч.) – происхождение богов; название поэмы Гесиода. Ср. у Л. П. Карсавина: «Весь мир – всеединая личность в том смысле, что он – теофания, т. е. Триипостасное Божество, чрез Ипостась Логоса, причаствуемое тварным субстратам» (Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т.1. С. 100).
563
Как говорит Николай Кузанский: «Nam videtur quod ipsa creatura, quae nee est Deus, nee nihil, sit quasi post Deum, et ante nihil, intra Deum et nihil, ut ait unus sapientium: Deus est oppositio nihil, meditatione entis; nee tarnen polest esse ab esse et non esse composita» (De docta ignorantia, Lib. II, cap. II, стр.71, цит. по новому итал. изд. Paolo Rotta, Bari, 1913). «Не будучи ни Богом, ни ничем, творение стоит как бы после Бога и прежде ничто, между Богом и ничто, как один из мудрых сказал: «Бог – противоположность ничто через опосредование сущего». Но ведь не может быть состава из бытия-от (ab-esse) и небытия!» (Николай Кузанский. Соч. М., 1979. Т. 1. С. 100. «Один из мудрых» – Гермес Трисмегист).
564
Всякое творение есть как бы конечная бесконечность или сотворенный Бог (там же. С. 102).
565
De docta ignorantia, Lib. II, cap. II, стр.73. Здесь же читаем: «Si consideras rem ut est in Deo, tune est Deus et unitas, non restat nisi licere quod pluralitas rerum exoriatur eo quod Deus est in nihilo. Nam tolle Deum a creatura et remanet nihil» (ib., 78). Рассмотришь вещь, как она пребывает в Боге, – она есть Бог и единство. Остается разве сказать, что множество вещей возникает благодаря пребыванию Бога в ничто: отними Бога от творения – и останется ничто (там же. С. 105; курс. Булгакова).
566
Кол. 2:9.
567
Это и делает понятной, насколько можно здесь говорить о понятности, всю чудовищную для разума, прямо смеющуюся над рассудочным мышлением парадоксию церковного песнопения: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в рай же с разбойником и на престоле сущий со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный» (Пасхальные часы).
568
Так Булгаков переводит известное выражение Гегеля – «List der Vernunft», которое в современных изданиях переводится как «хитрость разума». В «Философии истории» Гегель писал: «Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред… Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов» (Гегель. Соч. М.; Л., 1935. Т. 8. С. 32). О «хитрости разума» Гегель писал также в «Энциклопедии философских наук» (М., 1974. Т. 1. С. 397–398).
569
В чьей власти находятся все (<именно> все, кроме существующего само по себе) (лат.).
570
Philos. der Offenb., I. 311.
571
Чистейший акт (лат.).
572
Здесь: небытия (лат.).
573
Природу и функцию космических, демиургических сил (нем.).
574
Ed. Hartmann. Schelling's philosophisches System. Leipzig. 1897, стр.135–136, не без основания указывает, напр., что дедукции трех ипостасей у Шеллинга все-таки не получается, ибо три положения или фазиса в развитии, Божества не суть ипостаси. Модалистический характер рассматриваемого учения Шеллинга отмечает и Пфлейдерер, который по поводу него замечает: «Es ist das edenfalls eher montanistische oder sabellianische als kirchliche Dreieinigkeit» (1. с. 351). Во всяком случае, это скорее монтанистская или савеллиановская, а не церковная троичность (нем.). Монтанисты – последователи еретического учения Монтана (2‑я пол. II в.). В догматике учение Монтана («новое пророчество») ничем не отличалось от церковного. «Вся новизна монтанизма заключалась в морально-аскетических, ригористических требованиях и призыве к последнему покаянию» (Поснов М. Э. История христианской церкви. Брюссель, 1964. С. 148). Савеллиане – последователи еретика Савеллия (III в.), основателя учения о Лицах Св. Троицы, согласно которому Бог, находясь в состоянии покоя или молчания, есть единое существо. Три ипостаси, по Савеллию, – это три различные формы внешнего проявления в мире единого Божества.
575
У св. Максима Исповедника встречаем такую формулу: ««Αίών γαρ εστίν о χρόνος, όταν στη της κινήσεως και χρόνος εστίν ό αιών, όταν μετρητοί κινήσει φερόμενος, ως είναι τον μεν αίωνα, ϊνα ως εν δρω περιλαβών ε'ίπω, χρόνον έστερημένον κινήσεως, τον δε χρόνον αίώνα κινήσει μετρούμενον» (St. Maximi. Confessoris Quaest. ad Thalass. Migne t. 90, 1164). «Вечность есть время, когда останавливается в движении, а время есть вечность, когда умеряется как выражающееся в движении, так что можно определить вечность как время, лишенное движения, а время как вечность, измеряемую движением».
576
1. Плотин, хотя в своей эманативной системе не знает понятия тварности, тем не менее также считает время свойством низшего, тварного бытия, от него свободна область бытия божественного:
«Τοις δε πρώτοις καϊ μακαρίοις ουδέ εφεσίς εστί του μέλλοντος, ήδη γαρ είσι το όλον, και όπερ αύτοίς οίον οφείλεται ζην, εχουσι παν, ώστε ουδέν ζητοΰσι διότι το μέλλον αι5τοΐς ουδέν εστίν οΰδ αρά εκείνο εν ф το μέλλον. Ή οΰν του δντος παντελής οι5σία και δλη, ουκ ή εν τοις μέρεσι μόνον αλλά και ή εν τω μηδ αν έτι έλλείψειν, καί τω μηδέν αν μη ον αυτή προσγενέσθαι. Ου γαρ μόνα τα οντά πάντα δει παρεΐναι τω παντί καί ολω άλλα καί μηδέν του ποτέ μη δντος. Αυτή ή διάθεσις αυτόν καί φύσις εϊη αν αίών αίών γαρ από του οίεί δντος» (Enn. Ill, I. VII, с. III).
«Для первых и блаженных (начал) не существует стремления к будущему, потому что они уже суть целое и имеют все, что может быть нужно для жизни; посему они ничего не ищут, а поэтому и будущее есть для них ничто: не в чем состоять будущему. Итак, совершенна и целостна сущность существующего, она не может (распадаться) на части, да и не может иметь в чем-либо восполнения, и ничто из не-сущего не может к нему присоединиться. Ибо не только все сущее должно принадлежать ко всему и целостному, но и (не должно быть причастно) ничто из не-сущего в каком бы то ни было смысле. Все содержание его и природа как бы есть вечность, ибо вечность – αίών от всегда – άει сущего». См. всю VII книгу третьей Эннеады «О времени и вечности».
577
«Об этом свидетельствует и блаж. Августин, который говорит: «Хотя мир духовный (ангелов) превыше времени, потому что, будучи сотворен прежде всего, предваряет и сотворение самого времени; несмотря, однако ж, на то, превыше его господствует вечность самого Творца, от Которого и он чрез сотворение получил свое начало если не по времени, которого не было еще, то по условию бытия своего. Итак, творение этого мира – от Тебя, Боже наш, но и они совсем не то, что Ты, и существо их совершенно отлично от существа Твоего. Ибо хотя мы и не усматриваем никакого времени ни раньше их, ни в них самих, потому что они всегда наслаждаются лицезрением Твоим и никогда не уклоняются от Тебя, так что они не подвергаются никакому изменению, однако им присуща изменчивость (inest ipsa mutabilitas), вследствие которой они могли бы и омрачаться в познании Тебя и охладевать в любви к Тебе, если бы они не освещались светом Твоим» («Исповедь», кн. XII, гл. XV); цит. по изд. Киевской Дух. Академии «Творения блаж. Августина», ч. I, Киев, 1907). Ср. Августин. Исповедь. М., 1991. С. 320–321; перевод M. E. Сергеенко.




