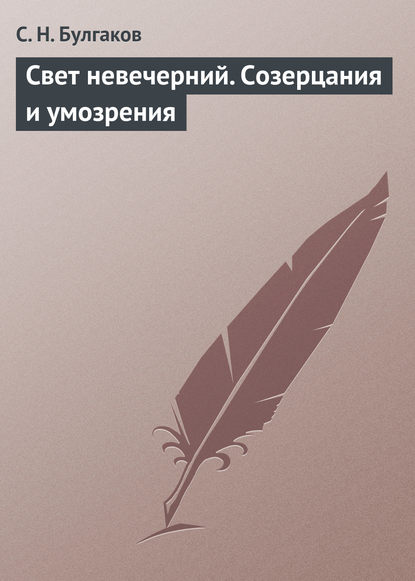По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет невечерний. Созерцания и умозрения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О, мой светлый, мой белый мальчик! Когда несли мы тебя на крутую гору, и затем по знойной и пыльной дороге, вдруг свернули в тенистый парк, словно вошли в райский сад; за неожиданным поворотом сразу глянула на нас своими цветными стеклами ждавшая тебя, как ты прекрасная, церковь. Я не знал ее раньше, и, как чудесное видение, предстала она, утонувшая в саду под сенью старого замка. Мать твоя упала с криком: «Небо раскрылось!» Она думала, что умирает и видит небо… И небо было раскрыто, в нем совершался наш апокалипсис. Я чувствовал, видел почти восхождение твое. Обступили тебя олеандры, розовые и белые, как райские цветы, только того и ждавшие, чтобы склониться над тобой, стать на страже у твоего гроба… Так вот что! Все становилось понятно, вся мука и зной растворились, исчезли в небесной голубизне этой церкви. Мы думали, что только там, внизу, в зное происходят события, и не знали, что есть эта высь, а оказывается – здесь ждали… И глубоко внизу, вдали остались зной, муки, стенания, смерть, – на самом же деле не это было, потому что есть то, и теперь раскрыто…
Шла литургия. Не знаю, где она совершалась, на земле или небе[52 - Ср. с рассказом «девяти мужей», посланных князем Владимиром в Византию накануне крещения Руси: «И пришли мы в землю Греческую, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой…» (Изборник. М., 1969. С. 69).]… «Ангельскими невидимо дориносимачинми», привычные, уже примелькавшиеся святые слова… но кто это в алтаре направо… разве не сослужитель небесный? А эти страшные демонские лики, с такой неведомой мне, превосходящей мое воображение злобою на меня смотрящие и… тоже из алтаря… Но не боюсь я вас, ибо к небу он восходит, мой белый мальчик, и вы бессильны пред его защитою, пред его светом…
Слушаю «апостол» о воскресении и всеобщем внезапном изменении[53 - Мф. 24:23–32.]… и впервые понимаю, что это так и будет и как это будет.
Нужно ли верить, что литургия совершается в сослужении ангелов, когда я это… видел. Не так же ли видел ангела священник Захария около кадильного алтаря, или сослужащий с преподобным Сергием видел ангела, литургисающего с ним (как повествует его житие)?[54 - См.: Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 67–68. Глава «О видении ангела, служаща с блаженным Сергием».] Но и здесь не дерзновенно ли, возможно ли делать такие сопоставления? Должно! Ибо не себя ведь, не темноту свою греховную сравниваем мы, но виденное по Божественному усмотрению…
Так вот к чему звал меня этот звон с высоты, который так настойчиво слышался мне то лето. Ты пришел к нам в Рождественскую ночь, под звон колоколов, славивших родившегося Христа[55 - Сын Булгакова Ивашек родился 25 декабря (ст. ст.) 1905 г.]. Духовное твое рождение совершилось в день празднования собора Крестителя, «величайшего между рожденными женою», Господня Предтечи, к его лику принадлежишь ты, вестник небес. И мнится и верится, станешь ты у смертного изголовья с печалью молчаливого укора, иль с радостью вечного свиданья, светозарным ангелом смерти.
* * *
Если бы люди веры стали рассказывать о себе, что они видели и узнавали с последней достоверностью, то образовалась бы гора, под которой был бы погребен и скрыт от глаз холм скептического рационализма. Скептицизм не может быть до конца убежден, ибо сомнение есть его стихия, он может быть только уничтожен, уничтожить же его властен Бог Своим явлением, и не нам определять пути Его или объяснять, почему и когда Он открывается. Но знаем достоверно, что может Он это сделать и делает…
Кто не допускает особого религиозного удостоверения и отрицает особый орган религиозного ведения, тот должен в изумлении остановиться пред всемирно-историческим фактом религии как каким-то повальным, массовым гипнозом и помешательством[56 - Интересно наблюдать, в какие безысходные трудности попадают те из историков «культуры», которые лишены внутреннего понимания религии, но и не имеют достаточно прямолинейности, чтобы совершенно отмести, как хлам и предрассудки или «надстройку» на каком-нибудь «базисе», религиозные верование и культ.]. Кто не хочет принять здесь единственно простой и естественной (но почему-либо для него метафизически недопустимой) гипотезы религиозного реализма, тот должен противопоставить ей теорию массовых галлюцинаций и иллюзий или же… «выдумки жрецов»! Ecrasez Finfame – эта цель, кажется, оправдывает все средства, однако кроме глупых, это же средство – глупое.
Итак, в религиозном переживании дано – и в этом есть самое его существо – непосредственное касание мирам иным, ощущение высшей, божественной реальности, дано чувство Бога, притом не вообще, in abstracto, но именно для данного человека; человек в себе и чрез себя обретает новый мир, пред которым трепещет от страха, радости, любви, стыда, покаяния. Религия не есть только музыка души, она звучит для меня, но и вне меня, надо мною, она не субъективна, но объективна, вернее, субъективно-объективна. Ей присуща наибольшая серьезность реализма. В этом ее реализме состоит главное отличие религии от беспредметной, субъективной, эстетизирующей религиозности, которою не прочь развлечься, как пикантным соусом настроений, современная эстетизирующая переутонченность. Моя религия не есть мое создание, иначе она вовсе не есть религия; она убеждает силою непосредственной своей достоверности, притом иною, высшею убедительностью, чем факты внешней действительности, напр., ощущение этого стола, этой стены, этого шума. Поэтому нельзя устранить из религии реальности Бога, как из искусства нельзя устранить объективной красоты (которая столь же отличается от красивости, как религия от религиозности). Бог есть – вне меня, но и для меня, – превыше моей субъективности, однако сообщаясь ей. Это положение есть не только аналитическое суждение, выведенное на основании рассмотрения понятия религии, но вместе с тем и религиозное синтетическое суждение a priori[57 - Синтетические суждения a priori – в системе Канта такие суждения, которые увеличивают данное познание и при этом проистекают не из опыта, а из свойств человеческого мышления.]. ЕСИ[58 - ЕСИ – буквальный перевод на церковнославянский греческой надписи на дельфийском храме: El (букв.: «ты есть»). Специальную статью на эту тему («Ты еси») написал В. И. Иванов (см.: Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 263–268). Такое же название носит вторая часть «мелопеи» В. И. Иванова «Человек» (там же. С. 206–221). В своей статье В. И. Иванов писал: «То, что есть религия, воистину родилось из «Ты», которое человек сказал в себе тому, кого ощутил внутри себя сердцем…» (там же. С. 265). Впоследствии он еще раз высказал эту же мысль: «В том, что обычно зовут диалектикой исторического процесса, я вижу подобный спору Иова диалог между Человеком и Тем, Кто вместе с образом Своим и подобием даровал ему и Свое отчее Имя A3 ЕСМЬ, дабы земной носитель этого Имени, блудный сын, мог в годину возврата сказать Отцу: Воистину ТЫ ЕСИ, и только потому есмь аз» (там же. С. 743).] – это в религии стоит прежде всякого анализа, а вместе и как предмет для анализа. Пред лицом этого ЕСИ, этого синтетического религиозного суждения a priori, конечно, безмолвствуют так наз. «доказательства бытия Божия». Они могут иметь известное значение (в чем бы оно ни состояло) в философии, в спекулятивном богословии, вообще вне собственной области религии, в этой же последней царит радостное непосредственное ЕСИ. Доказательства бытия Божия вообще уже самым появлением своим свидетельствуют о наступлении кризиса в религиозном сознании, когда по тем либо иным причинам иссякают или затягиваются песком источники религиозного вдохновения, непосредственно сознающего себя и откровением, но та вера, которая призывается сказать горе: «двинься в море»[59 - «Иисус же сказал им в ответ: …если будете иметь веру и не усомнитесь… то… если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет» (Мф. 21:21).], не имеет, кажется, ровно никакого отношения к доказательствам. Конечно, также и по чисто спекулятивным основаниям следует отвергнуть идею доказательства бытия Божия[60 - Имеются в виду следующие системы доказательств бытия Божия: 1) космологическая (Аристотель); 2) телеологическая (Платон); 3) онтологическая (Ансельм Кентерберийский); 4) историческая или психологическая (Декарт); 5) нравственная (И. Кант). Подробнее см.: Гегель. Лекции о доказательстве бытия Бога // Гегель. Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 337–495.], ибо здесь, очевидно, есть внутреннее противоречие в самой постановке задачи: соображениями относительными, основанными на законе причинности и анализе причинных рядов, утверждается бытие абсолютного, возвышающегося над относительным и свободного от причинности. Очевидно, на поле кантовского опыта мы не встретим Бога, ибо «для науки Бог есть совершенно ненужная гипотеза» (Лаплас), а так наз. доказательства бытия Божия сводятся лишь к более или менее удачному постулированию Бога или же к раскрытию с разных сторон философского понятия о Боге. Единственным же путем реального, жизненного познания Бога остается религиозный опыт. ЕСИ, синтетическое религиозное суждение a priori, есть единственная опора религии, без которой она не существует, подобно тому как искусство не существует без красоты или мораль без различия добра и зла. И тем самым религия становится независимой от этики, эстетики, теоретического познания, философии и науки, ибо имеет свою собственную опору, свой собственный орган восприятия.
Но этим полагается, слышу я возражение, в основу религии «психологизм», субъективная настроенность, каприз воображения, которому придается трансцендентальное значение. Под видом психологизма или логического фетишизма, гипостазирующего идеи и настроения, в наши дни нередко вовсе выпроваживается за дверь религия, ей предъявляется формальный отвод, она рассматривается как до конца растворяющаяся в религиозность. И, однако, для этого отвода нет никакого достаточного основания. Религия есть психологизм в том только смысле, что она представляет совокупность фактов психологической жизни, осуществляющихся в конкретной индивидуальной психике. Но в этом смысле в психологизме могут считаться повинны решительно все деятельности духа: разве познание не есть также факт душевной жизни, разве мораль не имеет своей психологии (более придирчивые критики и рассматривают мораль лишь как психологический факт)? «Разъяснить» же красоту в смысле психологизма нет ничего легче. И однако, если мы всюду применяем генетическое и трансцендентальное рассмотрение и от факта отличаем его смысл и значение, то совершенно то же самое должно иметь место и в религии. И здесь мы отличаем субъективный религиозный процесс от его трансцендентальной характеристики и утверждаем не только психологическую своеобразность религии (что значило бы ломиться в открытые двери, ибо этого пока никто и не отрицает), но и самостоятельную «способность религиозного суждения». В религии человеческому духу становится доступно то, чего он не постигает ни в науке, ни в этике, ни в эстетике (хотя каждая из них в отдельности и может указывать путь к религии, да и действительно это по-своему делает).
Итак, на предварительный и общий вопрос «как возможна религия?» отвечаем: религия есть непосредственное опознание Божества и живой связи с Ним, она возможна благодаря религиозной одаренности человека, существованию религиозного органа, воспринимающего Божество и Его воздействие. Без такого органа было бы, конечно, невозможно то пышное и многоцветное развитие религии и религий, какое мы наблюдаем в истории человечества, а также и все ее своеобразие[61 - Нам приятно отметить, что к опытному истолкованию религии приходит в результате всего своего колоссального изучения религий Макс Мюллер (в разных своих сочинениях, см., напр., Nat?rliche Religion. Leipzig, 1890. Лекции II–V). Его формула такова: nihil est in fide, quod non ante fuerit in sensu. Нет ничего в вере, чего бы не было раньше в ощущении (лат.) – парафраз известной формулы сенсуалистов: «Нет ничего в сознании… etc.». (под последним Мюллер разумеет опытный характер религии, хотя, конечно, этот опыт и отличается от чувственного).]. Всякая подлинная, живая религия знает свою объективность и опирается на нее, – она имеет дело с Божеством, произносит Ему ЕСИ; психологизмом является лишь «религия настроения», т. е. религиозность, бессильная подняться до религии и светящая чужим, отраженным светом. БОГ – вот основное содержание и основная «категория» религии.
Во избежание недоразумений прибавим, что понятие «божество, бог» берется нами пока в самом широком и неопределенном смысле, объемлющем различные религии, как формальная категория, применимая ко всевозможному содержанию. Существенным признаком, установляющим природу религии, является объективный характер этого поклонения, связанный с чувством трансцендентности божества. Такому требованию, думается нам, удовлетворяют все исторические религии, ибо такова природа религии вообще. В этом смысле понятие безбожной религии содержит contradictio in adjecto[62 - «Противоречие в определении» (лат.) – логическая ошибка; напр.: «круглый квадрат».], внутренне противоречиво, ибо существо религии именно и состоит в опытном опознании того, что Бог есть, т. е. что над миром имманентным, данным, эмпирическим существует мир иной, трансцендентный, божественный, который становится в религии доступным и ощутимым: «религия в пределах только разума»[63 - Название трактата И. Канта (1793).], или имманентная религия субъективного идеализма, вовсе не есть религия, а лишь одна из многочисленных ее подделок и суррогатов.
Однако я слышу обычное в таких случаях возражение: возможна и существует атеистическая религия[64 - Термин Э. Геккеля, употребленный им в его популярной книге «Мировые загадки».], утверждающая своей основой не Бога, но небытие, ничто, и религия эта имеет мировое значение, считает сотни миллионов последователей: это – буддизм. Трудно уверенно судить о буддизме, столь далеком и чуждом христианскому миру, и во всяком случае нужно отличать религиозную практику от богословской спекуляции. Известно, что народный, экзотерический[65 - Эксотерическое (экзотерическое) учение – явное, открытое для всех (в отличие от эзотерического – тайного, для посвященных).] буддизм, которому, собственно, и обязана эта религия обширностью своего распространения, отнюдь не ограничивается одной «нетовщиной», но содержит в себе элементы конкретного политеизма, даже фетишизма. Сверх того, – и это самое главное, – буддийское ничто, небытие, нирвана, всеединство безразличия (tat twam asi – это есть ты[66 - Формула выражения единства субъекта и объекта в индийской философии (Чхандогья-Упанишада, VI, 12). См.: Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1972. С. 117–118. Название «дистиха» В. И. Иванова:В страждущем страждешь ты сам: вместе сораспяться живому.В страждущем страждешь ты сам: мужествуй, милуй, живи.(Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 642).«Tat twam asi», по объяснению Иванова, значит: «Это (именно, каждый отдельный индивидуум) – ты (сам)» (там же. С. 861).]), отнюдь не представляет собой только отрицательного понятия, но вполне подходит под наше общее определение Божества. Ибо и это ничто не есть круглый нуль, но является величиной в высшей степени положительною: именно здесь разумеется то, что существует под покрывалом Майи[67 - В древнеиндийской философии Майа означает иллюзорность бытия; под «покрывалом Майи» скрывается истинная сущность вселенной.], которое только застилает наш взор миром явлений; это положительное ничто и составляет подлинную, хотя и трансцендентную для нас действительность, по отношению к которой и установляется типически религиозное отношение. В замкнутом субъективизме, имманентизме и психологизме неповинна поэтому даже и эта религия, как бы ни было скудно ее положительное учение о Боге[68 - На это справедливо указывает Гартман, у которого вообще мы находим чрезвычайно отчетливую постановку проблемы религии в ее общей форме: он устанавливает, что «всякий объект религиозной функции есть бог; бог есть не научное, но религиозное понятие; наука может заниматься им, лишь поскольку она есть наука о религии. Мы можем определить поэтому религиозную функцию как отношение человека к богу. Это определение как будто теряет свою силу тогда, когда атеизм отрицает существование бога и вместе с тем, как буддизм, остается чрезвычайно интенсивной религией; но нетрудно распознать, что эта видимость проистекает лишь из предвзятого реалистического взгляда на существо божие, которое не подходит к буддийскому абсолютному иллюзионизму. И в буддизме ничто есть 1) абсолютное основание мира, именно положительная причина полагающей мир иллюзии, 2) абсолютное существо (хотя и ничто), которое лежит в основе феноменального мира, 3) абсолютная цель мира, к которой стремится мировой процесс и в котором он находит абсолютное искупление и 4) носитель и источник религиозно-нравственного миропорядка, который представляет единственно истинное и постоянное в иллюзии и лишь который делает иллюзорный мировой процесс действительным процессом спасения. Ничто в каждом из этих четырех отношений есть объект религиозной функции или предмет религиозного отношения. Таким образом, буддизм есть атеизм не в том смысле, чтобы он отрицал бога, т. е. предмет религиозного отношения, но только в том, что он ничто, и privativum, делает богом. Если бы он совершил первое, он перестал бы быть религией: но так как он делает последнее, он остается религией и лишь ставит нам проблему, как возможно обожествлять ничто» (E. Hartmann. Die Religion des Geistes, 3-te Aufl., 4–5). Поэтому и буддизм не нарушает правила, что «keine Religion ohne Gottesvorstellung» (6). – Нет религии без представления о Боге (нем.).].
Можно еще указать, что существуют разные виды религиозных суррогатов, как, напр., религия прогресса или человечества. Однако и здесь, поскольку мы имеем дело с отношением религиозным, оно связано именно с устремлением за эмпирическую данность к некоему трансцендентному ноумену[69 - Ноумен – умопостигаемая сущность, в отличие от «феномена» – объекта чувственного содержания. В философии И. Канта – «ноумен» – синоним «вещи в себе».], – Grand Etre О. Конта[70 - Высшее существо (фр.) – бог «позитивной религии» О. Конта, которым объявляется общество или совокупное человечество и которое должно почитаться каждым отдельным человеком.]. Можно считать такое обожествление собирательного понятия логическим фетишизмом и видеть в нем низшую ступень религиозного сознания, но нельзя отвергать религиозных черт, ему присущих. Известную аналогию дает здесь грубый фетишизм[71 - Поклонение материальным предметам – фетишам, которые наделяются сверхъестественными свойствами. Подробнее см.: Ш. де Бросс. О фетишизме М 1973.] (крайности сходятся!), при котором в деревянном чурбане тоже чтится не дерево, но трансцендентное ему существо, и чурбан фактически является как бы некоей его иконой.
2. Трансцендентное и имманентное
Пара соотносительных понятий «трансцендентное – имманентное» играет существеннейшую роль в определении религии. Понятия эти чрезвычайно многозначны; можно всю историю философской мысли изложить как историю этих понятий, или, частнее, как историю проблемы трансцендентного. Кроме того, они соотносительны: если один полюс соответствует трансцендентности, на другом помещается имманентность, но и наоборот. Очевидно, необходимо всегда наперед условливаться об их значении. Имманентным для нас является то, что содержится в пределах данного замкнутого круга сознания; то, что находится за этим кругом, трансцендентно или не существует в его пределах. Однако трансцендентное не есть и ничто, или круглый нуль, потому что иначе и имманентное не сознавало бы себя имманентным, самозамкнутым, ограниченным, без такой границы. Трансцендентное есть, по меньшей мере, некоторая пограничная область для имманентного, его предел. В известном смысле можно считать (гносеологически) трансцендентным сознанию всякую транссубъективную действительность: внешний мир, чужое «я», гору Эльбрус, Каспийское море, всякую неосуществленную возможность нового опыта. Каким бы философским утонченностям ни подвергалось это определение, практически, в непосредственном чувстве жизни, дана некоторая мера имманентности, актуальной и потенциальной. Получая новые впечатления от жизни, будет ли то Ледовитый океан или остров Цейлон, эскимосы или зулусы, бразильские бабочки или вороны, Большая Медведица или Солнце, – во всем этом человек ощущает себя в имманентном мире, едином во всем многообразии. Для него это свой мир, и притом единственный мир для имманентного самосознания, как окачествованная связность бытия. Существует особое космическое чувство, обычно глухое и тупо сознаваемое, однако поднимающее свой голос при всяком его раздражении. Есть ли этот «мир» единственный, а его имманентность абсолютно замкнутая, или же существуют иные «миры», трансцендентностью своей облекающие нашу имманентность и – о, ужас! – в нее врывающиеся?
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами…
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой[72 - Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Сны» (1830) (Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1920. Т. 1. С. 56).].
Есть ли иные миры, есть ли вообще трансцендентное? На это нельзя ответить одним умозрением (как обычно принято думать) или же опытом имманентным, на это можно ответить лишь новым опытом, расширением и преобразованием опыта, предполагая, конечно, что наше космическое естество узнает особым, совершенно неопределимым и ни к чему не сводимым чувством область иного мира, для него «сверхъестественную». Здесь начинается область «мистики», а равно и путь «оккультизма», или «науки, как достигнуть познания высших миров» (Штейнер). Весь оккультизм есть расширение имманентного в сторону доселе трансцендентного, причем человек, преобразуя самого себя, и сам становится существом иного мира, именно того, который он познает. Впрочем, поскольку «духовное знание» есть действительно знание, т. е. методически совершающееся развертывание проблем, утончение наблюдений, обогащение, усовершенствование, упорядочение опыта, постольку оно еще относится к области знания, имманентной этому миру. «Высшие миры», которых достигать учит «духовное знание», строго говоря, есть наш же собственный мир, воспринимаемый лишь более широко и глубоко; и как бы далеко ни пошли мы в таком познании, как бы высоко ни поднялись по лестнице «посвящений», все же оно остается в пределах нашего мира, ему имманентно[73 - Эта мысль находит ясное выражение в книге Эмиля Метнера. Размышления о Гете. I. M., 1914, стр.329–330, 347–401 – Эмилий Карлович Метнер (1872–1936) – основатель и руководитель московского книгоиздательства «Мусагет», которое в 1910–1913 гг. выпускало также журнал «Логос» – главный орган русских неокантианцев. Группа писателей и философов, сотрудничавших в «Мусагете», находилась в постоянной полемике с книгоиздательством «Путь», вокруг которого сплотились в основном философы «неославянофильского» направления (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой и др.). «Основной вопрос «Пути», – писал впоследствии Ф. А. Степун, – был – «како веруеши», основной вопрос «Мусагета» – «владеешь ли своим мастерством?» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990. Т. 1.С. 282). Перед самым началом войны 1914 г. между обоими направлениями наметилось некоторое сближение, которое, по-видимому, и стало бы «магистральной линией» развития русской философии, если бы развитие это не было прервано разразившейся в 1917 г. катастрофой. Ссылка С. Н. Булгакова на книгу Э. К. Метнера в этом смысле очень симптоматична. В начале войны Метнер оказался в Германии, был интернирован и затем поселился в Швейцарии. В 1915 г. он написал С. Н. Булгакову письмо. Ответное письмо Булгакова от 19 апреля 1915 г. сохранилось. «Очень был рад Вашему письму, – писал Булгаков, – как дружескому рукопожатию в такую годину, когда события разделяют даже и близких по симпатиям людей. Заочно, отчасти по слухам, отчасти по интуиции, я представлял себе и Ваше настроение, и Ваше понимание текущих событий. Многого в них я не могу ни принять, ни разделить, но в то же время ощущал всю неразрывность Вашей связи с Россией, а следовательно, с моей верой и любовью…» (ОР РГБ. Ф. 167. К. 13. Ед. хр. 21. Л. 1–2).]. То, что постигается здесь, трансцендентно лишь гносеологически, т. е. в силу ограниченности нашей, а не по сущности (как тригонометрия является нам трансцендентной, пока мы ей не научились или, вернее, пока она в нашем сознании еще не пробуждена: имманентный характер математического познания в этом смысле с такой силой был указан еще Платоном в его «Федоне»). На пути оккультного познания, как и всякого познания вообще, при постоянном и бесконечном углублении в область божественного, в мире нельзя, однако, встретить Бога, в этом познании есть бесконечность – в религиозном смысле дурная, т. е. уводящая от Бога, ибо к Нему не приближающая. И в этом заключается глубокое отличие оккультного и религиозного путей, которое может при известных условиях стать и противоположностью, и уже во всяком случае нельзя их смешивать, подменивать, выдавая один за другой, как это часто делается теперь.
Таким образом, хотя имманентное: «мир» или «я», макрокосм и микрокосм, внутри себя также имеет ступени относительной трансцендентности, заданности, но еще не данности, – тем не менее оно противоположно трансцендентному, как таковому. Трансцендентное ??? ????'?[74 - По преимуществу (греч.).], как религиозная категория[75 - Философы могут предъявить протест, зачем мы употребляем многозначные и притом чисто философские термины «трансцендентное» и «имманентное» в применении к религиозным переживаниям. – Такой «протест» действительно не замедлил явиться в статье Л. И. Шестова «Вячеслав Великолепный. К характеристике русского упадничества» (1916) (Шестов Л. Власть ключей. Берлин, 1923. С. 228–229). Они будут правы в своем упреке, если только и сами не будут забывать, что в этих понятиях и для них самих не содержится никакого определенного смысла, – он вкладывается только данной философемой; другими словами, проблема трансцендентного (и соотносительного с ним имманентного) представляет собой последнюю и наиболее обобщающую проблему философии и, следовательно, уже включает в себя всю систему. Поэтому определенного терминологического значения с употребляемыми нами выражениями не связано, и мы вольны пользоваться ими и в своем особом смысле, при условии, конечно, твердо держаться раз принятого значения. Религия, в отличие от философии, не кончается трансцендентным, но им начинается, и лишь в дальнейшем ее развитии постепенно раскрывается его смысл и значение. Трансцендентное в самом общем смысле, т. е. превышающее всякую меру человеческого опыта, сознания и бытия, вообще «этого мира», дано в первичном религиозном переживании, поскольку в нем содержится чувство Бога, – это есть основная музыка религии. Можно, конечно, для обозначения этого чувства сочинить новый термин, но, нам кажется, в этом нет никакой нужды, ибо в своем предварительном и формальном определении трансцендентное религии пока еще не отличается от трансцендентного философии: это больше логический жест, чем понятие (каковым, впрочем, и неизбежно будет всякое логическое понятие трансцендентного, т. е. того, что находится выше понятий).], не принадлежит имманентному, – «миру» и «я», хотя его касается. К нему нет пути методического восхождения (ибо путь религиозного подвига не имеет в виду познания, не руководится познавательным интересом), оно вне собственной досягаемости для человека, к нему можно стремиться и рваться, но нельзя планомерно, методически приходить. Путь религиозный в этом смысле необходимо есть путь чуда и благодати.
Бог есть Трансцендентное. Он премирен или сверхмирен. Он есть единственное и подлинное He-я; поскольку же я (фихтевское)[76 - То есть «я» субъективного идеализма; «Я», порождающее из себя весь мир. Подробнее о Фихте см.: Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 16–18.] включает в себя все, весь мир, Он есть и He-мир, причем, однако, это He-я отнюдь не полагается нашим собственным я, как у Фихте, и не есть в этом смысле некое под-я, но есть абсолютное и подлинное He-я, т. е. сверх-я, выше-я. Эту основную полярность религиозного сознания, напряженную противоположность трансцендентного и имманентного, можно выражать в разных терминах: «Бог и мир», «Бог и природа», «Бог и человек», «Бог и я» и под<обное>. Между миром и Богом лежит абсолютное, непреодолимое для мира расстояние, которое, если и преодолевается, то незакономерно, прерывно, свободно, чудесно, благодатно. Всякая имманентность Трансцендентного, прикосновение Божества, есть акт, поистине чудесный и свободный, акт милости и любви, но не закономерности и необходимости.
Бог, как Трансцендентное, бесконечно, абсолютно далек и чужд миру, к Нему нет и не может быть никаких закономерных, методических путей, но именно поэтому Он в снисхождении Своем становится бесконечно близок нам, есть самое близкое, самое интимное, самое внутреннее, самое имманентное в нас, находится ближе к нам, чем мы сами[77 - Эту мысль с особенной яркостью в мистической литературе из восточных церковных писателей выражает Николай Кавасила (XIV век), из западных Фома Кемпийский (О подражании Христу). Оба говорят это особенно по поводу соединения со Христом в таинстве Евхаристии. – Евхаристия (причащение) – христианское таинство, заключающееся в том, что верующие едят хлеб и пьют вино, которые превратились («пресуществились») в истинное тело и кровь Иисуса Христа; тем самым верующие соединяются с Христом и становятся сопричастными «жизни вечной». «Еда, – писал Булгаков, – есть натуральное причащение – приобщение плоти мира» (Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 71). К принявшим таинство Евхаристии Христос стоит даже ближе, чем они сами к себе, так как Он делается для них другим, более совершенным – их собственным «Я» (Епископ Алексий. византийские церковные мистики 14?го века. Казань, 1906, стр.61).]: Бог вне нас и Бог в нас, абсолютно трансцендентное становится абсолютно имманентным. Поэтому-то нет и не может быть никакого «духовного знания», опирающегося на метод, для познания Бога (а не одного лишь божественного). Ибо перед абсолютным расстоянием, пред бесконечностью, изничтожается всякая конечная величина и всякий путь: Бог может послать Ангела Своего Валаамовой ослице, опалить огнем и светом Своего явления окаянного грешника, может настигнуть на пути в Дамаск Своего гонителя[78 - Имеются в виду эпизоды Библии: ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка Валаама (Числ. 22, 23–24); обращение Савла (ал. Павла) на пути в Дамаск (Деян. 9:1–6).] и тем не менее остаться недоступным самым напряженным методическим усилиям. Ибо Бог есть Чудо и Свобода, а всякое знание есть метод, необходимость.
Говоря так, мы отрицаем лишь обязательность, закономерность видения Бога для Его ищущих. Но искание Бога, приуготовление себя, раскрытие в себе божественного совершается человеческим усилием, которого ожидает от нас Бог, – «Царствие Божие силою нудится»[79 - Точнее: «Царство Божие нудится»; в совр. переводе «Царство Небесное силою берется» (Мф. 11:12).]. Об этом свидетельствует вся аскетика. Возможно, что для известной эпохи жизни человечества или для известного духовного уклада и философия, и «духовное знание» оказываются таким путем приуготовления. Однако только опознанное в религиозном опыте Трансцендентное, сущее выше мира, открывает глаза на трансцендентное в мире, другими словами, лишь непосредственное чувство Бога дает видеть божественное в мире, познавать мир как откровение Божие, научает в имманентном постигать трансцендентное, воспринимать мир как Бога, становящегося и открывающегося. Логика религиозного сознания требует, чтобы Бог был найден как безусловный не-мир, а мир как безусловный не-Бог, чтобы затем узреть мир в Боге и Бога в мире. (Разумеется, речь идет не о хронологическом, но трансцендентально-логическом соотношении.) Один и тот же мир предстает пред нами то как механизм, чудовищный в своей дурной бесконечности, глухо молчащий о своем смысле, то как откровение тайн Божества, или источник богопознания. И миропознание – будет ли это естествознание (в широчайшем, всеобъемлющем смысле слова) или «духовное знание» при свете веры в Бога получает совсем новое значение. Решающим моментом остается встреча с Богом в человеческом духе, соприкосновение трансцендентного с имманентным, акт веры. Бог есть, вот что раздается в человеческом сердце, бедном, маленьком, детском человеческом сердце; Бог есть – поет небо, земля, мировые бездны; Бог есть, откликаются бездны человеческого сознания и творчества. Слава Ему!
Если основная данность религиозного вообще есть трансцендентное, то основной формой религиозного достижения ??? ?????? является молитва. Молитва до сих пор остается недостаточно понята и оценена в ее религиозно – «гносеологическом» значении, как основа религиозного опыта. Что представляет собою молитва по своему «трансцендентальному» составу? прежде всего, устремление всех духовных сил человека, всей человеческой личности к Трансцендентному: всякая молитва (конечно, искренняя и горячая, а не внешняя только) осуществляет веление: transcende te ipsum[80 - Превзойди себя самого (лат.) – тезис философии Августина (Об истинной религии XXXIX, 72)]. Человек делает в ней усилие выйти за себя, подняться выше себя: в молитве Трансцендентное становится предметом человеческого устремления как таковое, именно как Бог, а не мир, не человек, как нечто абсолютно потустороннее. И в то же время, когда молитва «услышана», когда она горяча и вдохновенна, когда достигается ее устремление – коснуться Трансцендентного, дохнуть им, она содержит в себе и достаточное, даже единственно возможное удостоверение в существовании Трансцендентного и в Его снисхождении к людям: она получает Трансцендентное как имманентное, причем оно становится соприсущим имени Божию, в котором призывается Трансцендентное. Имя Божие – есть как бы пресечение двух миров, трансцендентное в имманентном, а потому «имяславие»[81 - Течение в православии, которое возникло в среде афонских монахов в 1912–1913 гг. Поводом послужила книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа» (3?е изд., Киев, 1912), в которой, в частности, утверждалось: «В имени Божием присутствует Сам Бог – всем своим существом и всеми своими бесконечными свойствами» (с. 16). Официальная церковь осудила «имясловие». «Кажется, впервые за все время существования русской церкви, – писал впоследствии Булгаков, – в недрах ее самой, а не Византии возник серьезный догматический вопрос, требующий серьезного догматического обсуждения, – о почитании имени Божия. Сначала вопрос этот хотели хулиганизировать, по методу митрополита Антония, газетной презрительной руганью, а затем схватились за более реальное средство церковного единения – увещания с военной экспедицией и пожарной кишкой. И сейчас тошно вспоминать об этом безобразии» (Булгаков С. Н. У стен Херсониса // Символ. 1991. № 25. С. 210). Подробнее см: Флоренский Л. А. Имясловие как философская предпосылка // Сочинения. Т. 2: У водоразделов мысли. М., 1990. С. 281–321; см. также комментарий игумена Андроника (Трубачовэ) (там же. С. 424–433). Булгаков по поводу имясловия написал статью «Афонское дело» (Русская мысль. 1913. № 9), а позднее (в 1920 г.) монографию «Философия имени» (Париж, 1953).], помимо общего своего богословского смысла, является в некотором роде трансцендентальным условием молитвы, конституирующим возможность религиозного опыта. Ибо Бог опытно познается через молитву, сердце которой есть призывание Трансцендентного, именование Его, а Он как бы подтверждает это наименование, признает имя это Своим, не просто отзываясь на него, но и реально присутствуя в нем. Религиозный гений необходимо есть и великий молитвенник, и, в сущности, искусству молитвы только и учит вся христианская аскетика, имеющая высшей целью непрестанную («самодвижную») молитву, «молитву Иисусову» или «умное делание»[82 - Учением о молитве полны произведения церковной аскетики, в частности творения св. Макария Великого, Симеона Нового Богослова, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Тихона Задонского, церковных писателей: еп. Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и многих других. См. также сборники: «Добротолюбие» в 5-ти томах, «Святоотеческие наставления о молитве и трезвении», составленные еп. Феофаном и др.; аналогичные сборники, конечно, существуют и в католической церкви. Церковная литература о молитве, можно сказать, прямо неисчерпаема. Сюда же должно отнести и литургические богатства Востока и Запада. Даже для поверхностного «психологического» исследования религии все это дает драгоценнейший материал, однако, почти нетронутый. Феноменологический анализ молитвы (для которого также можно найти изобильный материал в религиозной литературе) отсутствует совершенно. Отчасти это объясняется и тем, что среди людей, живущих религиозно, мало найдется вкуса и интереса к такому анализу; у людей же нерелигиозных нет для него достаточного понимания да и тоже мало интереса.], т. е. непрестанное устремление к трансцендентному Божеству имманентным сознанием. Господь молился, часто и подолгу, то радостно-торжественно («славлю Тебя, Отче неба и земли[83 - Неточная цитата из Евангелия от Матфея, 11:25 (то же – Лк. 10:21).]), то напряженно-мучительно (Гефсиманская молитва[84 - Или «моление о чаше»: «Да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:26; Мк. 14:36; Лк. 22:42).]), и молитве Господней[85 - «Отче наш…» Мф. 6:9-13.] научил Своих учеников (как и Иоанн научил своих). Громовый факт молитвы – как в христианской, так и во всех религиях – должен же быть, наконец, понят и оценен и в философском своем значении. В способности к молитве человек имеет как бы специальный орган религиозного восприятия. Она соответствует чувству прекрасного или способности эстетического суждения в эстетике и нравственной воле в этике. Она не может быть, впрочем, приурочиваема к какой-либо отдельной стороне психики, ибо связана с самой основой человеческой личности в ее нераздробляемом целом.
Где нет молитвы, там нет религии[86 - Недаром самодельские, даже «атеистические» религии стремятся иметь хотя какой-нибудь культ, а следовательно, и молитвенную практику. В частности, напр., О. Контом руководил совершенно правильный религиозный инстинкт, когда он установил культ для своего божества «Grand Etre»; мне пришлось в Лондоне присутствовать на богослужении «Humanitarian Church», – кажется, она же иногда называется и «atheistic church». – Гуманитарная церковь, атеистическая церковь (англ.)., где читались молитвы человечеству, были установлены, судя по Prayer-book. – Молитвослов (англ.)., и обряды крещения, брака и тому подобные.]. Не надо притом смешивать с молитвой ее теософических суррогатов: «концентрации, медитации, интуиции», которые все-таки имеют дело не с Богом, но с миром, погружают человека не в Трансцендентное, но в имманентное, божественным хотят подменить Бога, – обман или самообман. К тому же, в «оккультном» пути целью восхождения всегда является ближайшая в порядке «эволюции» иерархическая ступень. Молитвенное же дерзновение – и в этом чудо и благодать молитвы – идет прямо к престолу Всевышнего, минуя все «иерархии». При обращении же за помощью к святым последние отнюдь не являются в качестве таких промежуточных иерархий, заполняющих пропасть между человеком и Богом (ибо эта бездна незаполнима никаким «эволюционным» процессом и никаким иерархическим восхождением), но лишь как близкие нам и, вместе с нами, предстоящие престолу Господа силы. Коснеющее в грехах и темноте создание Божие дерзновенно говорит в молитве прямо с Господом, и Господь соизволяет на это дерзновение. И все «иерархии», насколько они имеют значение в молитве, светят лишь отраженным светом Солнца солнц. Такова молитва.
Итак, тому, кто хочет непредубежденным и воистину критическим оком исследовать религию в ее «трансцендентальной» характеристике, необходимо спросить себя: что же такое молитва? И, если только он не поддастся лукавому соблазну ratio ignava et obscura[87 - Малодушный и сомнительный довод (лат.).], не объявит все это психологизмом или психопатизмом и не отмахнется от этого пренебрежительным жестом, то он спросит себя: «как возможна молитва?» Об этом, однако же, не пожелал lege artis[88 - По закону искусства (лат.).] вопросить критицист Кант, без разговоров объявивший молитву «Abg?tterei», «Afterdienst», и под. За ним последовал и Фихте, увидавший в молитве лишь унижение человеческого достоинства. В сравнении с таким отсутствием религиозного вкуса нельзя не отметить относительной проницательности у Гегеля, который в «Философии религии» дает высокую оценку значению «культа», а в его составе, конечно, и молитвы[89 - См.: Гегель. Философия религии. М., 1975. Т. 1. С. 371–409.] (хотя общая его точка зрения радикального имманентизма, конечно, не благоприятствовала пониманию центрального значения молитвы в религии).
Самобытность религии основана на том, что религия обладает своим способом опознания Божества, или органом трансцендентного, своим удостоверением или (если распространить на область религиозной жизни понятие опыта, как сделал это Джемс) своим особым опытом. «Сердце имеет свои законы, которых не знает ум», – сказал Паскаль[90 - Цитата из «Мыслей» Б. Паскаля (Фр. 423): Pascal B. Oeuvres completes. P., 1963. P. 532.], имея в виду эту особую природу религиозной очевидности и достоверности. Обычно это религиозное опознание называется верой, которая и получает поэтому столь центральное значение в гносеологии религии: анализ природы веры есть своего рода «критика религиозного разума».
Чтобы оценить значение веры, нужно прежде всего принять, что вера хотя и не подчиняется категориям логического, дискурсивного познания, однако тем самым еще не низводится на степень субъективного верования, вкуса или прихоти, ибо такое истолкование противоречит самому существу веры: это была бы неверующая вера. Между тем вера по-своему столь же объективна, как и познание. «Есть ли Бог?» «Бог живет в моей душе». «Нет, есть ли Бог!» «Он есть в моей душе». Привожу этот диалог (в действительности имевший место в 1903 году и Штутгарте между мною и П. Б. Струве[91 - Разговор Булгакова с П. Б. Струве мог иметь место в июле 1903 г., так как 20–28 июля (2–4 августа) этого года они вместе участвовали на встрече земцев и «лиц свободных профессий» с целью образования тайной либеральной организации («Союза освобождения» – ядра будущей кадетской партии). Во встрече, состоявшейся в Швейцарии, кроме Булгакова и Струве, участвовали: П. Долгоруков, С. А. Котляревский, H. H. Львов, Д. И. Шаховской, В. И. Вернадский, Ф. И. Родичев, П. И. Новгородцев, И. М. Гревс, В. В. Водовозов, Б. А. Кистяковский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. И. Прокопович, Е. Д. Кускова и др. (см.: Петрункевич И. И. Из записок общественного деятеля. Прага, 1934; Шаховской Д. И. «Союз освобождения» // Зарница. 1909. № 2). На этой встрече Булгаков сделал доклад по аграрному вопросу (Шацилло К. Ф. О предыстории «Союза освобождения»//Археографический ежегодник за 1977 год. М., 1981. С. 333).]) как характерный для постановки вопроса о вере. Вера, на которой утверждается религия, не может ограничиваться субъективным настроением, «Богом в душе», она утверждает, что Бог есть, как трансцендентное, есть вне меня и лишь потому есть во мне[92 - Понятие «есть» в применении к Богу употребляется здесь только в предварительном и условном значении, в противопоставлении субъективизму. В дальнейшем мы увидим, что категория бытия к Божеству сама по себе не приложима.]. В вере не человек создает Бога, как говорит неверие (Фейербах), но Бог открывается человеку, а потому и человек находит в себе Бога или себя в Боге. Вера с объективной стороны есть откровение, в своем содержании столь же мало зависящее от субъективного настроения, как и знание, и, подобно последнему, лишь искажается субъективизмом[93 - «Вера всегда есть следствие откровения, опознанного за откровение; она есть созерцание факта невидимого в факте видимом; вера не то что верование или убеждение логическое, основанное на выводах, а гораздо более. Она не есть акт одной познавательной способности, отрешенной от других, но акт всех сил разума, охваченного и плененного до последней его глубины живою истиной откровенного факта. Вера не только мыслится или чувствуется, но, так сказать, и мыслится и чувствуется вместе; словом, она не одно познание, но познание и жизнь» (А. С. Хомяков. Сочинения. II, стр. 62).].
Но не есть ли, слышится голос скептицизма, эта объективность веры – иллюзия, галлюцинация, психологизм? Но в таком случае не есть ли, поставим мы перекрестный вопрос, такая же иллюзия вот это море, которое я вижу, и этот его шум, который я слышу, эта синева неба, которую я созерцаю? Конечно, возможно допустить, что я могу заблуждаться в своем чувственном опыте, возможно, что это не море и не его шум, а мне только показалось, и что никакой синевы неба в действительности нет, а я ошибся. Но в этом я могу убедиться, только опираясь на чувственное или эстетическое восприятие, его исправляя и углубляя, логическими же доводами никто не может обессилить непосредственной силы и убедительности моего впечатления. Таким же образом доводами рассудка нельзя разрушить и непосредственной очевидности веры как самостоятельного источника религиозного восприятия, ее возможно потушить, обессилить, но не разубедить. Это отразилось и на словоупотреблении, по крайней мере, русского языка, зовущего религию верой. Нельзя изгнать веры из веры. Разум принимает за истину только то, что может быть доказано, обнаружено как необходимое звено в причинной связи. Логическая необходимость – такова основа знания. Вера есть путь знания без доказательств, вне логического достижения, вне закона причинности и его убедительности. Вера есть hiatus[94 - Пробел, зияние (лит.).] в логике, безумное сальто-мортале: «будь безумным, чтобы быть мудрым» (1 Кор. 3:18), говорит она человеку. Вера свободна от ига рассудочности (не хочу сказать: разума, ибо она является выражением высшей разумности), рассудок презирает, в лучшем случае игнорирует и не понимает веры. Такое положение было бы нестерпимо и совершенно раскалывало и обессиливала бы наше сознание, если бы вера и рассудок имели одну и ту же задачу, один и тот же предмет. Но в действительности этого нет: то, во что можно верить, нельзя знать, оно выходит за пределы знания, а в то, что можно знать, нельзя и не должно верить. Кто верит в таблицу умножения или Пифагорову теорему? ее знают. И кто знает Бога, включая Его в число предметов научного знания? В Него верят и познают верой. Вера же, по определению апостола Павла, есть «уверенность в невидимом как видимом, ожидаемом и уповаемом как настоящем». То, чего нет и не может быть дано для рассудочного знания, то может знать вера, оно ей доступно. Отсюда следует практическая максима: все, что может стать предметом познания, должно быть познаваемо. Вера поэтому не враждует с знанием, напротив, сплошь и рядом сливается с ним, переходит в него: хотя она есть «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11:1), но уповаемое становится, наконец, действительностью, невидимое видимым. Вера в этом смысле есть антиципация[95 - Антиципация (от лат. anticipo-предвосхищаю) – в самом общем смысле слова означает способность предвосхищения (чаще всего какого-либо события).] знания: credo ut intelligam[96 - Верю, чтобы понимать (лат.) – изречение, предписываемое Ансельму Кентерберийскому (1033–1109).], хотя сейчас и не опирающаяся на достаточное основание: credo quia absurdum[97 - Верю, ибо это нелепо (лат.) – слова, предписываемые Тертуллиану.]. Вера перескакивает через закон достаточного основания, логической самоотчетности: основания ее недостаточны, или вовсе отсутствуют, или же явно превышаются выводами. И, однако, это отнюдь не значит, чтобы вера была совершенно индифферентна к этой необоснованности своей: она одушевляется надеждой стать знанием, найти для себя достаточные основания[98 - Так, пришествие на землю Спасителя мира было предметом веры для ветхозаветного человечества, но вот как о нем говорит новозаветный служитель Слова: «о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам), о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам» (1 поел. св. Иоанна. 1:1–3).].
Антиципация возможного опыта и превышение оснований вовсе не означает пренебрежения ими. В вере есть свобода, но вовсе нет произвола, вера имеет свою «закономерность». И, прежде всего, вера никогда не возникает без некоторого, хотя для обоснования ее содержания и недостаточного, но для ее зарождения достаточного знания в предметах веры. Вера в Бога рождается из присущего человеку чувства Бога, знания Бога, и, подобно тому как электрическую машину нельзя зарядить одной лекцией об электричестве, но необходим хотя бы самый слабый заряд, так и вера рождается не от формул катехизиса, но от встречи с Богом в религиозном опыте, на жизненном пути. И вера верит и надеется именно на расширение и углубление этого опыта, что и составляет предмет веры как невидимое и уповаемое. Но человек сам должен совершать это усилие, осуществлять это устремление, поэтому вера есть жизненная задача, подвиг, ибо она может становиться холоднее или огненнее, беднее или богаче. А потому и предмет веры, – ее догматическое содержание, – всегда превышает наличный религиозный опыт. Является величайшим заблуждением думать (вместе с духоборами, квакерами[99 - Духоборы – христианская секта в России, выделившаяся в XVIII в. из хлыстов; духоборы считают Иисуса Христа простым человеком, православному культу противопоставляют веру по внутреннему убеждению. Квакеры – разновидность протестантизма, основанная английским ремесленником Джорджем Фоксом (1624–1691); квакеры отрицают религиозные обряды, таинства, не признают церковной иерархии и духовенства.] и им подобными представителями сродных им антидогматических и анархических течений в религии), что только реальное содержание наличного религиозного опыта или личного откровения составляет предмет веры, всякое же предание, письменное или устное, литургическое или обрядовое, как таковое, уже противоречит живой вере. Рассуждающие таким образом, под предлогом мистики, совершенно устраняют веру ради религиозно-эмпирической очевидности; при этом своеобразном мистическом позитивизме (который, впрочем, чаще всего оказывается, кроме того, и иллюзионизмом) совершенно устраняется подвиг веры и ее усилия, а поэтому отрицается и самая вера, а вместе с нею и неразрывно связанные с ней надежда и любовь, место которых занимает откровенное самомнение.
На этом основании можно и должно научаться вере, и правая вера, правые догматы, «православие», есть и задача для религиозной жизни, а не одна только эмпирическая ее данность. Разумеется, если эти догматы останутся на степени отвлеченных положений, не имеющих убедительности для ума, но и не получающих жизненной силы веры, тогда они становятся просто сухою соломой, которая легко сгорает. Но они получают жизненное значение, поскольку становятся предметом деятельной и живой веры, надежды и любви, регулятивом религиозной жизни. Поэтому содержание веры всегда превышает личный религиозный опыт, вера есть дерзание и надежда. (Ниже, в связи с учением о догмате, нам еще придется коснуться вопроса о значении предания для веры.)
Как и повсюду, подмены возможны и здесь. Легко вера подменяется неверующим догматизмом, т. е. нерациональным рационализмом, порождаемым леностью ума, косностью и трусостью мысли. Борьба с знанием под предлогом веры проистекает именно из такого отношения к последней. Вера не ограничивает разума, который и сам должен знать свои границы, чтобы не останавливаться там, где он еще может идти на своих ногах.
Хотя собственная область веры есть свышепознаваемое, трансцендентное Божество, но она распространяется и на то, что принципиально не недоступно для знания, однако таково лишь для данного момента: таковы не наступившие еще, но имеющие наступить события, вообще будущее, или же прошедшие, но вне человеческого ведения лежащие события – прошлое. Наконец, вере может быть доступно даже настоящее, поскольку дело идет о неизвестных рассудку его законах[100 - Во II главе Послания к Евреям вере дано истолкование и в том и в другом смысле: «верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (ст. 3); дальнейшее содержание главы говорит о вере как основе не мотивированных разумом и оправдываемых только верою поступков (см. всю эту главу).].
Однако все отдельные верования, относящиеся и к области имманентного, здешнего мира, проистекают из центрального содержания веры, являются его отдельными приложениями и разветвлениями; а главным, в сущности единственным предметом веры, остается одно: ЕСИ. «Веровати же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает» (Евр. 11:6)[101 - В рус. переводе: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст».]. И то, что составляет собственный предмет веры, по самой своей природе не может стать знанием. Вера есть функция человеческой свободы, она не принуждает, как принуждают нас законы природы. Внешняя принудительность истин веры не отвечала бы основным требованиям религиозного сознания, и достоинству чтущего нашу свободу Божества не соответствовало бы насиловать нашу личность, хотя бы даже логическим принуждением или насилием знания. Знание принадлежит «миру сему», оно ему имманентно, религия же основывается на поляризации сознания, напряженном чувстве противоположности трансцендентного И имманентного, богосознания и миросознания. Религия знаменует собой не только связь, но и удаленность человека от Бога. Она и сама в этом смысле есть, до известной степени, выражение греховного отпадения мира от Бога, ущербленного богосознания.
Вера есть функция не какой-либо отдельной стороны духа, но всей человеческой личности в ее цельности, в нераздельной целокупности всех сил духа. В этом смысле религия есть в высшей степени личное дело, а потому она есть непрестанное творчество. Она не может сообщаться внешне, почти механически, как знание, ею можно лишь заражаться – таинственным и неисследимым влиянием одной личности на другую; в этом тайна значения религиозных личностей, – пророков, святых, самого Богочеловека в земной Его жизни. Бог не навязывается и не насилует. Он «стучит в дверь» человеческого сердца, не откроется ли она, но и во всем Своем всемогуществе Он не может открыть ее силой, ибо это значило бы уничтожить свободу, т. е. самого человека. Лишь в царстве будущего века, когда «Бог будет всяческая во всех»[102 - «Да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28).], станет более имманентен миру, нежели в этом веке, а потому и самая возможность религии, в значении ее как ущербленного богосознания, упразднится, лишь тогда человеческой свободе уже не дано будет знать или не знать Бога, верить или не верить в Него. Вера станет очевидностью, подобной необходимости природной, на долю свободы останется лишь хотеть Бога или не хотеть, любить Его или враждовать к Нему. Отсюда следует, что вера дается только ищущим ее. Кто вполне удовлетворен этим миром и духовно не алчет, тот совершенно не понимает веры, органически ее чужд. В этой отчужденности от веры заключается одна из поразительных особенностей нашей эпохи, благодаря которой одни, умы более грубые, видят в вере род душевного заболевания, а другие – «психологизм», субъективизм, настроение, но одинаково те и другие не хотят считаться с гносеологическим значением веры как особого источника ведения и в религиозном опыте видят только материал для «религиозной психологии» или психиатрии. Такое состояние современного человечества, конечно, имеет свои духовные причины, но благодаря ему теперь трудно быть понятым и даже просто выслушанным в вопросе о вере.
Однако если вера может родиться только у ищущих ее (и притом тоже не всегда: для современного духа именно характерна утрата способности находить веру, но не искать ее, ибо исканиями полна наша эпоха), то не значит ли это и впрямь, что вера есть психологизм и субъективизм? Однако разве же этим дается основание для подобного скептицизма? Ведь даже научная, а уж тем более философская истина не открывается людям, чуждым умственной жизни, равным образом и художественное творчество недоступно людям, лишенным эстетического восприятия. Вера не только рождается в свободе исканий, но и, так сказать, питается этой свободой. Поэтому она динамична, ибо не дает раз навсегда определенного знания, как знание мирское, но имеет различную интенсивность, от простой вероятности до полной очевидности, от головной почти идеи до превозмогающей действительности. По часто повторяющемуся в аскетике сравнению, Бог подобен огню, а душа – металлу, который может оставаться холодным, чуждым огня, но, раскаляясь, может становиться как бы одно с ним. Вера имеет свои степени и возрасты, свои приливы и отливы. Это знает по собственному опыту каждый, живущий религиозной жизнью, и это же свидетельствуется в религиозной письменности[103 - В Послании к Евреям начальником и совершителем веры называется сам Христос. Ему в высочайшей степени принадлежит подвиг веры: «Вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола Божия» (Евр. 12:2). Конечно, остается недоступной человеческому уму тайной боговоплощения, каким образом воплотившийся Бог мог так закрыть Божество человечеством, чтобы оказаться способным и совершить подвиг веры в Бога, и испытать человеческое чувство богооставленности, но это показывает именно на глубочайшую человечность веры, ее исключительное значение и неустранимость подвига веры для человека.]. В религиозной жизни нет застоя и неподвижности, как нет и неотъемлемых достижений и мертвых точек, здесь все и всегда в движении, вверх или вниз, вперед или назад, а потому мертвому успокоенному догматизму здесь не может быть места.
Итак, вера имеет две стороны: субъективное устремление, искание Бога, религиозная жажда, вопрос человека, и объективное откровение, ощущение Божественного мира, ответ Бога. В вере Бог нисходит к человеку, установляется лестница между небом и землей[104 - Имеется в виду «лестница Иакова», которую Иаков увидел во сне: «…лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему» (Быт. 28:12–13). В 1929 г. в Париже С. Н. Булгаков издал книгу «Лествица Иаковля. Об ангелах», в заключении которой писал: «Между небом и землею восходят и нисходят непрестанно святые ангелы. Они соединяются с нами в наших молитвах. Ангельские воинства непрестанно славят Творца миров. Ангелы, предстоящие престолу Божию, живут общей жизнью с нами, соединенные узами любви» (с. 229).], совершается двусторонний, богочеловеческий акт. И это объективное содержание веры имеет для верующего полную достоверность, есть его религиозное знание, полученное, однако, путем откровения. Вера предполагает, в качестве своего объекта, а вместе и источника, тайну. Это не та область таинственного, до которой падки суеверные люди, сплошь и рядом чуждые веры; это не область тайн или секретов, которые оберегаются от непосвященного («Geheimwissenschaft»[105 - Букв.: тайное знание, тайноведение (нем.). Название книги Р. Штейнера (рус. пер.: Очерк тайноведения. М., 1916).] или «сокровенное знание», для которого, собственно говоря, принципиально нет никакой тайны); это – тайна, безусловно недоступная человеку, ему трансцендентная, а потому необходимо предполагающая откровение. «Бог во свете живет неприступном, его же никтоже видел есть из человек, ниже видети может» (1 Тим. 6:16). «Бога никтоже виде нигдеже, Единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда» (Ио. 1:18). Он «показал Отца», «явив Имя Его человекам» (Ио. 17:6).
Тайна и есть трансцендентное, она может приоткрываться лишь в меру вхождения трансцендентного в имманентное, актом самообнаружения, откровения трансцендентного[106 - В этом смысле дается определение веры у св. Максима Исповедника (Diversa capita ad theologiam et oeconomiam spectantia, centena II, 12–13, Migne, patr. curs. compl., ser. gr. XC, 1225): «Вера есть недоказуемое знание (onapo ??????? ??????); если же знание недоказуемо, вера превышает, стало быть, природу; помощью ее неведомым образом, но явно мы вступаем в единение с Богом, превосходящее разумение (??????). Когда ум входит в непосредственное единение с Богом, сила мышления (??? ????? ??? ??? ????????) совершенно бездействует. Но насколько он из него выходит и делает предметом размышления что-либо из вещей божественных (??? ???? ????), рассекается это единение, которое превыше разумения, и в коем, находясь в соединении с Богом, по сопричастности Божеству, он и сам становится Богом и слагает с себя естественный закон своей собственной природы».]. Откровение входит как необходимый гносеологический элемент веры. Знание, как бы оно ни было глубоко и широко, в последнем счете есть самопознание. Человек, когда познает мир, в сущности, познает самого себя, ибо он сам есть весь этот мир, как микрокосм. И в этом познании нет принципиальной разницы между его самым элементарным актом и последними достижениями. Знание строго монистично, – в его пределах, которые суть в то же время и пределы имманентного, гносеологически нет места вере, она не имеет здесь себе онтологического основания. Насколько трансцендентное есть «трансцендентальный объект религии», настолько же вера есть неустранимая и непревосходимая ее основа. Трансцендентное опознается, как таковое, только верою. Трансцендентное всегда лежит за пределами познания, вне его, поверх его. Ошибочно поэтому думать, что вера соответствует лишь детскому состоянию религиозного сознания, а в более зрелом возрасте заменяется и вытесняется знанием – философией и наукой (хотя и «духовной»), вообще гнозисом. Отношение между верой и гнозисом вообще принадлежит к тончайшим вопросам религиозной гносеологии. Вера не отрицает гнозиса, напротив, она порождает его и оплодотворяет: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею (т. е. волею), и всем разумением твоим (т. е. гнозисом)» (Мф. 22:37), и, конечно, дух, загоревшийся верою, принесет ее огонь и свет во все области своего творчества. Однако мотив, природа, ориентировка веры и гнозиса вполне различны. Вера есть акт свободы, безумия, любви и отваги[107 - По определению Николая Кузанского, «credere est cum ascensione cogitate», «posse credere est maxima animae virtus. – С веры начинается всякое понимание, обладание верой есть высшая добродетель души (лат.). См.: Николай Кузанский. Соч.: В 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 173..], это есть загадывание конца жизненной нити в небо, в уверенности, что он повиснет там без всякого укрепления. Вера имеет дело с недоступным: «Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес»[108 - Цитата из стихотворения Фр. Шиллера «Желание» в переводе В. А. Жуковского. В поэме «Великий инквизитор» эти слова цитирует Иван Карамазов. См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. М., 1982. Т. 11. С. 291.]. Вера есть подвиг сердца, верующей любви. «Залоги» и гарантии ей не нужны, они противоречили бы ее существу, ибо она хочет Бога, любит только Бога, отвергается мира, т. е. всего данного, ради неданного, трансцендентного. Она есть высшая и последняя жертва человека Богу – собой, своим разумом, волей, сердцем, всем своим существом, всем миром, всею очевидностью, и есть подвиг совершенно бескорыстный, все отдающий и ничего не требующий. Это любовь человека к Богу исключительно и ради самого Бога, это спасение от самого себя, от данности своей, от имманентности своей, это – ненависть к себе, которая есть любовь к Богу. Это – немой, умоляющий, ищущий жест, это – одно устремление: sursum corda, sursum, sursum, sursum, excelsior!..[109 - Sursum corda (лат.) – Горе имеем сердца, т. е. возвысимся духом (Плач Иеремии. 3:41). Excelsior (англ.) – вперед и выше; название баллады Г. Лонгфелло, в которой этот призыв повторяется как рефрен. Ср. со словами Заратустры: «Горе имейте сердца ваши, братья мои, выше, выше» (Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М., 1900. Т. 1. С. 323).] Здесь приносится жертва собою и миром (что означает тут одно и то же) ради сверхмирного и премирного, – ради Отца, который на небесах. Это не метод познания с его верной, рассчитанной поступью, это безумие для мира сего, и его хочет Бог. И этот незримо совершающийся в душе жертвенный акт, непрерывная жертва веры, которая говорит неподвижной каменной горе: ввергнись в море, и говорит не для эксперимента, а лишь потому, что не существует для нее эта каменность и неподвижность мира, – такая вера есть первичный, ничем не заменимый акт, и лишь он придает религии ореол трагической, жертвенной, вольной отдачи себя Богу. И герои веры велики именно этой жертвой, безмерностью своей отдачи. И их-то поминает св. апостол Павел в своем гимне вере (Евр. Гл.11). Их почитает святыми Церковь. И лишь за этой жертвенной смертью следует воскресенье, так, как за ночью день: радость и победа веры, новое обретение своей погубленной души. Вне этого момента не рождаются к религии: вероятно, вполне возможно быть философом, богословом, мистиком, гностиком, оккультистом, но при этом… не верить в Бога, не пережив этой свободной отдачи себя.
В истории философии понятию веры придается иногда расширенное гносеологическое значение, этим именем называется всякая интуиция, установляющая транссубъективное бытие, – внешнего ли мира или чужого «я». Значение веры в этом смысле выдвинуто было в полемике с Кантом уже Якоби, который считал областью веры не только бытие божественного мира, но и эмпирического, и таким образом профанировал или, так сказать, секуляризировал понятие веры[110 - «Durch den Glauben wissen wir, dass wir einen K?rper haben (!) und dass ausser uns andere K?rper und andere denkende Wesen vorhanden sind. Eine wahrhafte, wunderbare Offenbarung (!!)» (Jacobi's Werke IV, I, 211). – Через веру мы знаем, что мы имеем тело и что вне нас имеется другое тело и другое мыслящее существо. Поистине, чудесное откровение (нем.).]. Такая постановка вопроса вытекала из кантовского учения об опыте, понятого как субъективизм или иллюзионизм. Для того чтобы схемы понятий наполнялись жизненным содержанием и в сети разума уловлялась действительная, а не воображаемая рыба, надо, чтобы познание имело орган такого удостоверения действительности, чувство реальности, которая не разлагается на отдельные признаки вещи, но их связывает собой в бытии. Это эмпирическое чувство реальности, опирающееся на интуицию, иногда называется верой или же «мистическим эмпиризмом»[111 - У Лосского в «Обосновании интуитивизма». – См.: Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 100–101. (впрочем, термин этот принадлежит Шеллингу: Philosophie der Offenbarung, I, 115–119, 130, 143).]. Так, напр., Вл. Соловьев в своей первой теории познания, развитой в «Критике отвлеченных начал»[112 - См.: Соловьев В. С. Соч. М., 1988. С. 581 750.], говорит о вере как установляющей бытие предмета и скрепляющей собой эмпирические показания и их логическую связь: согласно этому учению, акт веры присутствует в каждом познавательном акте[113 - Эта теория подвергнута разбору проф. А. И. Введенским в его сборнике «Философские этюды» в очерке под заглавием: «Мистическая теория познания Соловьева».]. Сходную точку зрения развивает в своих ранних гносеологических работах кн. С. Н. Трубецкой (особенно в «Основаниях идеализма»). Благодаря этому терминологическому смешению может показаться, что в обоих случаях – имеется ли в виду интуиция эмпирической действительности или же религиозная вера – речь идет об одном и том же. Между тем, строго говоря, между религиозной верой и «мистическим эмпиризмом» столь же мало общего, как и вообще между верой и познанием, в составе коего интуиция есть, действительно, совершенно неустранимый элемент. Справедливо, что всякая реальность, будет ли то чужое «я» или внешний мир, установляется не рассудочно, но интуитивно, причем интуиция действительности имеет корни в чувстве действенности, т. е. не гносеологические, но праксеологические[114 - Ср. мою «Философию хозяйства», главу о «природе науки».]. Для рассудка («чистого разума») такое удостоверение, может быть, и является «мистическим» и установляется «верою», но это показывает только всю условность и недостаточность отвлеченно-рассудочного понимания познания, ибо корень познания жизненно-прагматический, и понятие эмпирии должно уже наперед включать в себя признак действенности, ощупывающей вещи и отличающей идеальности от реальностей (кантовские «талеры» в воображении или в кошельке)[115 - Имеется в виду рассуждение И. Канта в «Критике чистого разума» (Кант И. Соч · · В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 522). На это рассуждение (Ссылается Гегель в «Науке логики» (М., 1970. Т. 1. С. 145).]. Этим праксеологическим моментом и установляется экзистенциальное суждение. Можно, конечно, эту интуицию называть и верой, и «мистическим эмпиризмом», но при этом все-таки не надо забывать основного различия, существующего между этой интуицией и религиозной верой: такая интуиция вполне остается в пределах эмпирически данной действительности, области «мира сего». Она подлежит всей принудительности этой действительности, железной ее необходимости; от моей воли, от моей личности нисколько не зависит «верить» или «не верить» в существование этого стола: довольно мне его пощупать или об него стукнуться, чтобы стол предстал предо мной во всей непререкаемой действительности. Равным образом вовсе не находится в моей власти верить или же отрицать существование лица, написавшего это несимпатичное для меня сочинение. И это откровение внешнего мира (по столь неудачному и фальшивому выражению Якоби) одинаково принудительно для всякого нормально организованного сознания. Напротив, религиозная вера удостоверяет нас в существовании иной, трансцендентной, действительности и нашей связи с нею. Следовательно, объект ее качественно иной. Он опознается не принудительностью внешних чувств, не насильственно, но свободным, творческим устремлением духа, исканием Бога, напряженной актуальностью души в этом направлении. Другими словами, элемент свободы и личности, т. е. творчества, неустраним из религиозной веры: я выступаю здесь не как отвлеченный, средний, безличный, «нормально» устроенный представитель рода, но как конкретное, неповторяемое, индивидуальное лицо. Вера требует любви, волевого сосредоточения, усилия всей личности. Моя вера не есть пассивное восприятие, но активное выхождение из себя, совлечение с себя тяжести этого мира. Если мы посмотрим, как описывают свою душевную борьбу люди, шедшие путем веры, напр., блаж. Августин (Исповедь), Томас Карлейль (S. Resartus), Паскаль (Мысли), Л. Толстой (Исповедь), Достоевский (Pro и contra в «Братьях Карамазовых») и др., если каждый из нас заглянет в свою собственную душу, рвущуюся к Богу среди мрака сомнений, душевной немощи и отяжеления, мы поймем, какой актуальности требует вера, притом не только в первые моменты своего зарождения, но и в каждый миг своего существования. Всегда готов ослабеть и погаснуть ее трепетный огонь, и только на вершинах, у подвижников веры, сияет он ровным, невечереющим светом. Вот почему, вообще говоря, так трудно определить момент уверования или утраты веры, ибо и действительности уверование всегда и непрерывно вновь совершается, есть единый растянутый во времени акт, и всегда неверие, как темная трясина, подстерегает каждое неверное движение, каждое колебание на пути веры[116 - Отсюда следует, между прочим, в какой иллюзии находятся некоторые протестантские секты (баптисты, методисты), внушающие последователям своим умеренность в их совершившейся уже спасенности; и насколько мудрее и здесь оказывается православие, которое остерегает от этой уверенности как гибельной иллюзии («прелести»), указывая на необходимость постоянной борьбы с миром, «списания», но не «спасенности».]. Сказанное дает основание и для суждения о пределах религиозного гнозиса, или вообще о гностическом направлении в религии, которое всегда существовало, в настоящее же время проявляется с наибольшею силой, с одной стороны, в метафизическом рационализме, а с другой – в так называемом теософическом движении, точнее, в современном оккультизме. Метафизический гностицизм получил самое крайнее выражение в философии Гегеля. Гегелевский панлогизм есть вместе с тем и самый радикальный имманентизм, какой только знает история мысли, ибо в нем человеческое мышление, пройдя очистительный «феноменологический» путь, становится уже не человеческим, а божественным, даже самим божеством. Если логика, по известному выражению «Wissenschaft der Logik», есть «die Wahrheit wie sie ohne H?llen, an und f?r sich selbst ist» и в этом смысле «die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist»[117 - Wissenschaft der Logik. Erster Theil, 2-te Aufl. Berlin, 1841, стр.33. – «Логика… есть истина, какова она без покровов, в себе и для себя самой… изображение бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа» (Гегель. Наука логики. М., 1970. Т. 1. С. 103).], если диалектика есть достаточно надежный мост, ведущий человека к свышечеловеческому бытию, к абсолютному духу, то очевидно, что мир и есть этот же самый дух, находящийся на соответственных ступенях своего диалектического саморазвития. Поэтому религия с своими несовершенными формами «представления» и веры есть также лишь ступень развития его самосознания, которая должна быть превзойдена, притом именно в философии. Отсюда известное воззрение Гегеля, выраженное им уже в «Феноменологии духа», что философия выше религии, ибо для нее в совершенной и адекватной форме логического мышления ведомы тайны Бога и мира, точнее, она и есть самосознание Бога. Здесь, правда, еще не утверждается, что человек и есть бог (как провозгласил ученик Гегеля Фейербах)[118 - Имеется в виду афоризм Л. Фейербаха: «Человек человеку бог» (Фейербах Л. Избр. филос. произв. М., 1955. Т. 2. С. 308). Критику этого положения см. в статье С. Н. Булгакова «Религия человекобожия у Л. Фейербаха» (Два града. М., 1911. Т. 1).], напротив, человек должен преодолеть свою эмпирическую человечность, совлечь себя, став оком мирового разума, абсолютного духа, слившись с его самомышлением. Но в то же время процесс этого феноменологического очищения и панлогического восхождения отличается непрерывностью и связностью на всех ступенях, он может быть проходим во всех направлениях, подобно тому как из любой точки круга мы можем пройти всю окружность и возвратиться к исходной точке или же из центра провести радиус ко всем точкам окружности. Здесь нет полярности трансцендентного и имманентного, нет места сверхлогическому откровению, сверхзнанию или незнанию меры, ее «docta ignorantia»[119 - Ученое незнание (лат.).] (по выражению Николая Кузанского), здесь нет тайны ни на небе, ни на земле, ибо человек держит в руках своих начало смыкающейся цепи абсолютного, точнее, он сам есть ее звено. Панлогизм Гегеля может быть понят только в том смысле, что для него познание – миро-и самопознание, есть вместе с тем и богопознание. Религия, связь человека с божеством, имеет для него значение не связи двух миров, но выражает лишь определенную стадию развития духа[120 - Сродным интеллектуализмом был заражен уже Фихте, и притом не только в ранний период («спора об атеизме»), но и в поздний, эпохи «Anweisung zum seligen Leben» 1806 года. Именно в этом сочинении мы встречаем совершенно гегелевскую мысль о том, что религия представляет подготовительную ступень к философии, увенчивающей духовное развитие человека: «f?r sie (Wissenschaft) wird genetisch, was f?r die Religion nur ein absolutes Factum ist. Die Religion ohne Wissenschaft ist irgendwo ein blosser, demuhngeachtet jedoch unersch?tterlicher Glaube: die Wissenschaft hebt allen Glauben auf und verwandelt ihn in Schauen» (V, 472). – То, что она (наука) добывает путем доказательств, для религии является просто абсолютным фактом. Религия без науки в чем-то ущербна, но тем не менее остается непоколебимой верой: наука возвышает любую веру и превращает ее в очевидность (нем.).].
В родстве с гегельянским имманентизмом в рассматриваемом отношении несомненно находится и религиозная философия оккультизма. Основная мысль оккультизма, именно, что область возможного и доступного человеку опыта и количественно и качественно может быть углублена и расширена путем соответствующей психической тренировки, «развития высших способностей», сама по себе еще не приводит непременно к имманентизму. Оккультизм есть лишь особая область знания, качественно отличающегося от веры[121 - Для примера вот одно из многих суждений этого рода: «Тайное знание» подчиняется тем же законам, как и всякое человеческое знание. Оно представляет собой тайну для среднего человека в таком же смысле, в каком письмо – тайна для не научившегося писать. И так же, как каждый может научиться писать, избрав для этого правильный путь, так же может каждый сделаться тайным учеником и даже учителем, если изберет для этого соответственный путь» (Штейнер. Путь к посвящению, стр.45. Курс. мой. Ср. его же. Die Geheimwissenschaft, passim). Еще отчетливее имманентный характер оккультного знания выражен в следующих словах Штейнера: «Тайновед исследует духовные законы в том же точно роде, как физик или химик исследует законы материальные. Он делает это в том роде и с тою строгостью, как это подобает в духовной области. Но от этих великих духовных законов зависит развитие человечества. Подобно тому как кислород, водород и сера ни в каком будущем не вступят в соединение вопреки законам природы, так и в духовной жизни не произойдет, конечно, ничего противного законам духовным. И кто знает эти последние, тот может, таким образом, прозревать в закономерность будущего. Для того, кто уяснит себе эту действительную точку зрения оккультизма, отпадает также и возражение, будто чрез то, что положение вещей в известном смысле предопределимо, становится невозможной какая-либо свобода человека. Определено заранее может быть лишь то, что подлежит какому-либо закону. Но вовсе не определяется законом, от воли человека может зависеть установление условий, при которых может действовать этот закон. Так будет и с грядущими мировыми событиями и судьбами человека. Как тайноиспытатель, видишь их заранее, хотя они и должны быть сначала вызваны человеческим произволом. Оккультный исследователь предвидит именно также и то, что еще будет совершено человеческой свободой… Одно только существенное различие надо себе уяснить в предопределении путем физической науки или путем духовного познания. Физическая наука покоится в рациональном понимании, и потому пророчество ее бывает также рассудочным, опирающимся на суждения, заключения, соображения и т. д. Пророчество же духовного познания исходит, напротив, из действительного высшего зрения или восприятия. Тайноиспытатель должен даже строжайшим образом избегать всяких представлений, основывающихся на одном только размышлении, соображении, усмотрении и т. д.» (Штейнер. Из летописи мира. М., 1914. «Духовное знание». Стр.138–139).], всякое же знание есть самопознание, т. е. имманентно. Человек рассматривается здесь как представляющий собой совокупность нескольких оболочек или «тел» и принадлежащий в этом качестве к нескольким мирам или «планам». Однако в связи с этим проскальзывает и иная мысль, именно: что, переходя из одного низшего мира в высший, человек достигает в конце концов мира божественного. Для теософического гностицизма, для «(ieisteswissenschaft»[122 - Науки о духе (нем.) – термин В. Дильтея и неокантианцев.], принципиально познаваемо все, Бог и мир, так же как и для гегельянства. Места для веры и откровения здесь не остается, н если и можно говорить об откровениях высших сфер в смысле «посвящения», то и это посвящение, расширяя область опыта, качественно ее не переступает, ибо и иерархии эти принадлежат тоже еще к «миру», к области имманентного. Следует различать между расширением нашего опыта, открывающим нам новые миры (безразлично, будет ли это мир, изучаемый телескопом или же астральным ясновидением), и его прорывом, которым является соприкосновение с началом, трансцендентным миру, т. е. с Богом. Вступление в новые плоскости мира, конечно, разбивает прежнюю ограниченность, оно разрушительно для грубого материализма (хотя на его место, быть может, ставит материализм же, лишь более утонченный), но оккультизм может оставаться атеистичен, поскольку, расширяя мир, он еще более замыкает его в себе. Вообще путь оккультного и даже мистического постижении мира отнюдь не есть необходимо путь религиозный, хотя и может соединяться с ним. Теософия притязает (в более откровенных своих признаниях) быть заменой религии, гностическим ее суррогатом, и в таком случае она превращается в вульгарную псевдонаучную мифологию. Она эксплуатирует мистическое любопытство, люциферическую пытливость холодного, нелюбящего ума. Общение с существами иных миров, если оно действительно возможно и совершается, само по себе может не только не приближать к Богу, но, напротив, даже угашать и душе религиозную веру. Принцип иерархизма, который настойчиво выдвигается при этом, имел бы основание лишь в том случае, если бы и Бог входил в ту же иерархию, образуя ее вершину, так что она представляла бы собою реальную и естественную лестницу восхождения к Богу. Но такое учение есть пантеистический имманентизм и религиозный эволюционизм, который составляет первородный грех оккультизма. Мир (или миры) для него представляет собой реальную эволюцию самого божества; божество включено здесь в механизм мира и доступно раскрытию и постижению методическим, закономерным путем, хотя для него требуются иные методы, нежели для изучения, напр., мира микроскопического. При таком положении вещей оккультизм со своими иерархиями миров неуклонно ведет к политеизму, причем оккультический Олимп имеет ряд ступеней и градаций, поэтому ому соответствует поликосмизм и полиантропизм: меняются миры, меняется и человек. Теперешний человек соответствует настоящей стадии в развитии земли; предыдущие ступени его существования духовно и физически отличаются от теперешней, и еще более надо это же сказать про последующие мировые эпохи: человек есть только звено, его не было и он должен быть преодолен; эволюция ведет не к сверхчеловеку, но от человека и за человека. Эта эволюция не имеет конца и предела; абсолютное для этого радикального эволюционизма существует лишь в качестве возможности беспредельного движения, т. е. «дурной бесконечности»[123 - «Дурная, или отрицательная, бесконечность, – по Гегелю, – есть не что иное, как отрицание конечного, которое, однако, снова возникает и, следовательно, не снимается; или, иными словами, эта бесконечность выражает только долженствование снятия конечного» (Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 232). «Относительно этой формы бесконечности прогресса верно прежде всего то, что мы раньше заметили относительно качественно бесконечного прогресса, а именно, что он не есть выражение истинной бесконечности, а есть та дурная бесконечность, которая не выходит за пределы долженствования и, таким образом, на деле остается в конечном» (там же. С. 252).], между тем как религия имеет дело с положительной бесконечностью, с трансцендентным и абсолютным Богом, подающим нам вечную жизнь, упокояющим и спасающим от распаленного колеса «дурной бесконечности», этой бешеной, ненасытной «эволюции».
Последовательный гностицизм, несмотря на все свое пристрастие к таинственному, есть радикальный имманентизм, в этом совпадающий с гегельянством. Здесь стирается характерное различие между верою и знанием: соблазн оккультизма заключается именно в полном преодолении веры знанием (eritis sicut dei seientes bonum et malum[124 - Будете, как боги, знать добро и зло (лат.). – Быт. 3:4–5.], – отсюда культ Люцифера, более или менее общий для всех оттенков оккультизма). «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ио. 20:29) – эти слова Господа Фоме не могут достигнуть слуха гностиков; для них это не блаженство, а в лучшем случае детское состояние, низший духовный ранг, «вера угольщика». Но вера не различается по своей природе у угольщика и философа. Герои веры, религиозные подвижники и святые, обладали различными познавательными способностями, иногда же и со всем не были одарены в этом отношении, и, однако, это не мешало их чистому сердцу зреть Бога, ибо путь веры, религиозного ведения, лежит поверх пути знания[125 - Вот какими чертами описывается религиозное ведение у одного из светильников веры. «Человек имеет в единой душе и ум, и слово, и единое чувство, хотя оно по пяти естественным потребностям тела делится на пять чувств. В отношении к телесному оно нераздельно разделяется посредством пяти частных чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, и, будучи изменяемо, неизменно проявляет действенность свою… В отношении же к духовному нет необходимости, чтобы это общее чувство разделялось на пять чувств, как бы на пять окон… но, пребывая всецело единым чувством, оно имеет с собой и в себе пять чувств (или, точнее сказать, более), поколику все они едино суть… Итак, когда единый всяческих Бог является через откровение единой разумной душе, тогда открывается ей всякое благо и в одно и то же время созерцается (ощущается) всеми вместе чувствами ее. Сие единое и всякое вместе благо и видимо бывает ею, и слышимо, и услаждает вкус и т. д…. Итак, кто познается Богом, тот знает, что и Бог видит его. Но кто не видит Бога, тот не знает, что Бог видит его, так как сам не видит Его, хотя хорошо видит все прочее. Итак, которые удостоились увидеть зараз всеми вместе чувствами, как одним из многих чувств, сие всеблагое, которое и единое есть и многое, поелику есть всеблагое, те, говорю, поелику познали и каждодневно познают разными чувствами единого чувства разные вместе блага, как единое, не сознают во всем сказанном никакого различия, но созерцание называют ведением, и ведение созерцанием, слух зрением, и зрение слухом» (Слова преп. Симеона Нового Богослова. I, 475).], хотя бы и оккультного, «мудрости века сего»[126 - «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3:19).]. Вере свойственна детскость, не как отсутствие зрелости, но как некое положительное качество: детям принадлежит Царство Божие. «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лк. 18:17).
3. Вера и чувство
В своих «Речах о религии к образованным людям, ее презирающим» Шлейермахер ради того, чтобы убедить этих «образованных людей», в конце концов утопил мужественную природу религии в женственном сентиментализме. Как известно, главная мысль Шлейермахера состоит в том, что собственная область религии есть чувство, которое по природе своей религиозно. Правда, риторическое и расплывчатое изложение Шлейермахера, особенно при дальнейшем развитии его мысли, допускает различные истолкования, приближающие его учение то к спинозизму (Франк)[127 - Имеется в виду предисловие С. Л. Франка к переведенным им «Речам о религии к образованным людям, ее презирающим» Ф. Шлейермахера (М., 1911).], то к христианской ортодоксии, от которой лично он вообще не отступал и особенно приблизился к ней в позднейших своих сочинениях. В некоторых местах рядом с чувством у него появляется и интуиция (Anschauung), которая, впрочем, как замечает Пфлейдерер[128 - О. Pfleiderer. Geschichte der Religionsphilosophie, 3-te Aufl. Berlin, 1893, стр. 309. Ср. вообще всю главу о Шлейермахере.], исчезает без последствий. Но нас интересуют здесь не оттенки учения Шлейермахера в его подробностях, но центральная его идея Gef?hlstheologie[129 - Теология чувства (нем.).].
Напомним основные черты учения Шлейермахера. Религиозная жизнь, по IIIлейермахеру, является третьей стороной жизни, существующей рядом с двумя другими, познанием и действованием, и выражает собой область чувства, ибо «такова самобытная область, которую я хочу отвести религии, и притом всецело ей одной… ваше чувство… вот ваша религиозность… это не ваши познания или предметы вашего познания, а также не ваши дела и поступки или различные области вашего действования, а только ваши чувства… Таковы исключительно элементы религии, но вместе с тем все они и принадлежат сюда; нет чувства, которое не было бы религиозным (курс. мой), или же оно свидетельствует о болезненном и поврежденном состоянии жизни, которое должно тогда обнаружиться и в других областях. Отсюда само собою следует, что, напротив, понятия и принципы, все без исключения, сами по себе чужды религии. Ибо если они должны иметь значение, то они принадлежат к познанию, а что принадлежит к последнему, то уже лежит в иной, не религиозной области жизни» («Речи о религии», перев. С. Л. Франка, стр.47). «Религия не имеет никакого отншения даже и к этому знанию (т. е. такому, в котором «естествознание восходит от законов природы к высочайшему и вселенскому Управителю» и II котором «вы не познаете природы, не постигая вместе с тем и Бога»), ее сущность постигается вне участия последнего. Ибо мера знания не есть мера благочестия» (35). «Для религии, правда, существенно размышление… но оно не направлено… на сущность высшей причины самой по себе или в ее отношении к тому, что одновременно есть и причина и следствие; напротив, религиозное размышление есть лишь (!) непосредственное сознание, что все конечное существует лишь в бесконечном и через него, все временное в вечном и через него. Искать и находить это вечное и бесконечное во всем, что живет и движется, во всяком росте и изменении, во всяком действии, страдании, и иметь и знать и непосредственном чувстве саму жизнь лишь как такое бытие в бесконечном и вечном – вот что есть религия… И потому она, конечно, есть жизнь и бесконечной природе целого, во всеедином, в Боге, жизнь, обладающая Богом но всем и всем в Боге. Но она не есть знание и познавание ни мира, ни Бога; такое знание она лишь признает, не отождествляя себя с ним» (36). Итак, чувство есть собственная область религии. «Так утверждает оно (благочестие) свою собственную область и свой самобытный характер лишь тем, что оно всецело выходит за пределы и науки, и практики, и лишь когда оно стоит рядом с последними, общая сфера духа всецело заполнена, и человеческая природа с этой стороны завершена» (38). «Истинная наука есть законченное созерцание; истинная практика есть самопроизвольное развитие и искусство; истинная религия есть чувство и вкус к бесконечному» (39. – Курс. мой). В этом смысле Шлейермахер неоднократно сравнивает религию с музыкой, искусством без слов, из одних чистых настроений (53, 62–63). «Человек не должен ничего делать из религии, it должен все делать и осуществлять с религией; непрерывно, подобно священной и музыке, религиозные чувства должны сопровождать его деятельную жизнь, и нигде и никогда он не должен терять их». Религия разделяет с музыкой ее алогичность, к ней неприменимы понятия истинного и ложного. «Непосредственно в религии все истинно; ибо как иначе могло бы в ней что-либо возникнуть? Непосредственно лишь то, что еще не прошло сквозь понятие, а выросло только в чувстве» (56). Даже идеи Бога и бессмертия, которые Шлейермахер считает «элементами религии», не являются главным содержанием религии. Ибо к религии может принадлежать из того и другого только то, что есть чувство и непосредственное сознание, но Бог и бессмертие, как они встречаются в таких учениях, суть понятия (101). «Итак, – продолжает Шлейермахер, – может ли кто-либо сказать, что я изобразил вам религию без Бога, когда я именно и изучал непосредственное и первичное бытие Бога в нас в силу нашего чувства? Разве Бог не есть единственное и высшее единство? Разве не в нем одном исчезает все частное? Мы не притязаем иметь Бога в чувстве иначе, чем через впечатления, возбужденные в нас миром, и только в этой форме я мог говорить о Нем… тот, кто это отрицает, с точки зрения своего чувства и переживания будет безбожником» (102, ср. далее 103). Поэтому у Шлейермахера появляется уклон к адогматизму, составляющему естественный вывод из общего его не только антиинтеллектуализма, но и антилогизма в религии. «Что мы ощущаем и воспринимаем в религиозных переживаниях, есть не природа вещей, а ее действие на вас. Что вы знаете или мните о природе вещей, лежит далеко в стороне от области религии: воспринимать в нашу жизнь и вдохновляться в этих воздействиях (вселенной) и в том, что они пробуждают в нас, всем единичным не обособленно, а в связи с целым, всем ограниченным не в его противоположности иному, а как символом бесконечного – вот что есть религия; а что хочет выйти за эти пределы и, напр., глубже проникнуть в природу и субстанцию вещей, есть уже не религия, а некоторым образом стремится быть наукой… Бесспорно, вся сущность религии состоит в том, чтобы ощущать все, определяющее наше чувство в его высшем единстве, «как нечто единое и тождественное, а все единичное и особое как обусловленное им, т. е. (!!) чтобы ощущать наше бытие и жизнь в Боге и через Бога» (50–51). Во всех этих определениях бросается в глаза, что религия чувства, основанная на ощущении бесконечного, космического единства, отнюдь не содержит в себе идеи Бога, которая тем не менее постоянно подразумевается Шлейермахером и вводится посредством «т. е.», как в приведенной тираде, причем делается спинозовское уравнение: deus sive natura[130 - Бог или природа (лат.) – выражение из «Этики» Б. Спинозы.]. Но то, что естественно для рационалиста Спинозы, совершенно непозволительно для антиинтеллектуалиста Шлейермахера, который делает здесь философски неоправданное позаимствование из своего пасторского мировоззрения, каковыми, кстати сказать, вообще кишат «Речи о религии». Это маскируется благодаря бесспорной личной религиозности и религиозному темпераменту Шлейермахера, который сам, несомненно, религиознее своей философии, представляющей собой (подобно якобиевскому учению о вере) просто pis aller[131 - Вынужденная замена того, что является недоступным; неизбежное зло (фр.).], попытку спасти древнее благочестие от натиска рационализма и критицизма. Шлейермахеровский агностицизм уподобляется при этом защитной окраске, усвояемой некоторыми животными (мимикрия), его апологетика руководится благочестивым желанием увлечь религией «образованных людей, ее презирающих» возможно легким способом. Отсюда и все противоречия, сглаживаемые, а не обостряемые в этих речах. Отсюда и такое исповедание веры, которое, собственно говоря, есть чистый атеизм, эмоционально окрашенный религиозностью, – под этим исповеданием легко могут подписаться и Геккель, и Оствальд, и «союз монистов»[132 - «Союз монистов» был основан в 1906 г. Э. Геккелем; «Союз» ставил своей целью борьбу с религией и пропаганду материализма. В 1912 г. «Союз монистов» возглавил В. Оствальд.]. «Обычное представление о Боге как отдельном существе вне мира и позади (?) мира не исчерпывает всеобщего предмета религии и есть редко чистая и всегда недостаточная форма выражения религиозного сознания… Истинную же сущность религии образует не это и не какое-либо иное понятие, а лишь непосредственное сознание Божества, как мы находим Божество одинаково и в нас самих и в мире. Среди конечного сливаться с бесконечным и быть вечным в каждое мгновение – в этом бессмертие религии» (110–111).
Нельзя не признать, что учение Шлейермахера носит явные черты двойственности, которая позволяет его истолковывать и как философа субъективизма в религии (как и мы понимаем его здесь вслед за Гегелем)[133 - Бывает, что «я» находит в субъективности и индивидуальности собственного миросозерцания свое наивысшее тщеславие – свою религию», – писал о Ф. Шлейермахере Гегель в «Лекциях по истории философии» (Гегель. Соч. М.; Л., 1935. Т. 11.С. 482).], и как философа веры. Двойственные влияния Канта и Якоби отразились на молодом проповеднике, несогласованные и непримиренные. С одной стороны, он разделял свойственный эпохе испуг пред Кантом, закупорившим человека в мире явлений и провозгласившим на новых началах религиозный агностицизм или скептицизм. С другой стороны, он вместе с многими другими (как впоследствии и Фихте) спасался от Канта в противоположную крайность, в философию веры Якоби, в которой истинные черты религиозной веры стирались чрезмерно широким ее применением во всех познавательных актах. Поэтому философия чувства принимает черты то «Критики практического разума», в ее постулатах, то учения Якоби. Для нас интересна здесь та сторона учения Шлейермахера, в которой он наиболее оригинален, а таковой является его религиозная гносеология чувства И над всеми его «Речами о религии» веет скептически-пантеистическим исповеданием Фауста: полуверой, полуневерием – под предлогом непознаваемости.
Wer darf ihn nennen
Und wer bekennen:
Ich glaub'ihn?
Wer empfinden
Und sich unterwinden
Zu sagen: glaub'ich ihn nicht?
Der Allumfasser, der Allererhalter
Fasst und erhalt er nicht dich, mich, sich selbst?..