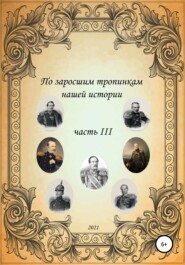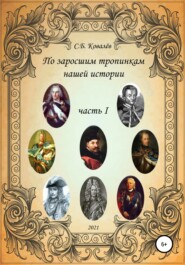По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А служба Андрея Григорьевича, естественно, продолжится. Вместе с Суворовым он вырвется из швейцарской ловушки в Австрию, после отъезда Александра Васильевича в марте 1800 года в Санкт-Петербург примет командование над его армией, в июне будет назначен военным губернатором города Камене?ц-Подольске (примерно в 430 километрах к юго-западу от Киева), с 1803 года будет управлять Минской, Волынской и Подольской губерниями, в октябре того же года станет военным губернатором Херсона и через два года подаст прошение об отставке по состоянию здоровья. Умрёт Розенберг в своём имении недалеко от Каменец-Подольского в возрасте 74 лет[388 - См. Википедию, статью «Розенберг, Андрей Григорьевич».].
Муотенская долина – красивейшее место. Мы въехали в неё со стороны Швица. От этого города (Schwyz), кстати говоря, пошло название всей страны (по-немецки – Schweiz). И это неспроста: именно здесь 1 августа 1291 года представителями трёх альпийских кантонов – Швица, уже упоминавшегося Ури и Унтервальдена – был подписан Союзный договор[389 - См. Википедию, статью «История Швейцарского союза».], на базе которого постепенно и образовалась Швейцария. С тех пор здесь хранится его вариант на латинском языке, а швейцарский флаг является почти точной копией флага кантона Швиц.
Городок Муотаталь живописно раскинулся в самом конце долины по обоим берегам реки Муоты. Но чем ближе мы приближались к нему, тем явственнее становилось, что суворовские солдаты, их офицеры и генералы едва ли восхищались её прелестями. Горы справа и слева подбирались всё ближе и ближе, а впереди вообще, казалось, был тупик. Живут в нём где-то 3,5 тысячи человек, есть две гостиницы, в одной из которых – «Отель Гастхаус Пост» («Hotel Gasthaus Post») – мы и остановились. Он располагался по адресу Хауптштрассе (Hauptstrasse), дом 29, слева по ходу движения, и оказался, так сказать, семейным предприятием. Хозяйка Клаудиа сносно говорила по-английски и, узнав, что мы идём по пути нашего прославленного полководца, тут же повела нас на второй этаж. Поднявшись туда, мы застыли от удивления: перед нами был самый настоящий музей Суворова! Уже в начале лестницы, на стене справа мы увидели его портрет, отпечатанный в типографии министерства обороны СССР (!), с перечислением его жизненного пути – естественно, на русском языке! Тут же висели казацкие пики. Наверху в особом зале находились карты суворовского похода, старинные гравюры, изображающие нашего фельдмаршала (совсем не похож!), а также его солдат, в том числе греющимися у костра из тех же пик, старинные предметы обихода. Ошеломлённые и никак не в состоянии привыкнуть к такому прямо-таки трепетному отношению к его памяти, мы спросили, откуда всё это? «Наши родители собирали, мы продолжили, кое-что покупали, кое-что нам дал в аренду музей в Швице», – с гордостью сказала Клаудиа. (Потом выяснилось, что пики на стене как раз из музея.) Потом был ужин, разговоры (гостиница оказалась практически пустой), и её бесценные подсказки-наводки, без которых некоторых мест мы бы ни в жизнь не обнаружили.
Наутро мы пошли по суворовским местам. Первое – место, где находился его штаб. Это дом недалеко от школы, между окнами первого этажа табличка с надписью на немецком: «В память о пребывании генералиссимуса Суворова в Муотатале осенью 1799 года». Вообще-то стоявшее здесь в те времена «настоящее» здание не сохранилось, вместо него в конце XIX века было построено новое[390 - Г.П. Драгунов «Чёртов мост: По следам Суворова в Швейцарии», М., издательский дом «Городец», 2008, стр. 163.], но, как видите, память живёт. Потом мы поехали к монастырю. Он стоит на правом берегу реки, несколько на отшибе, возвышаясь над городком. Перед въездом к нему – «кирпич», но мы всё равно поехали. На фасаде главного здания, между окнами второго и третьего этажей, на белой стене надпись по-немецки: «Генералиссимус Суворов. 28–30 сентября 1799 года». Мы знали, что в монастыре сохранилась комната, где спал наш военачальник – узкое помещение, две кровати, его портрет в полный рост, русское знамя. Сохранились записи в домовой книге о пребывании здесь и его, и французов. Знали мы и то, что монастырь можно посетить и даже оставить в домовой книге свою собственную запись, но решили не отвлекать монахинь впустую.
Дальше по совету Клаудии мы поехали по направлению к Швицу, к тому самому мосту через реку Муота, за который 19 и 20 сентября 1799 года кипели такие упорные бои. Она предупреждала, что с дороги он не виден и соответствующий поворот легко проскочить. Так и получилось. Пришлось разворачиваться и ехать назад буквально с черепашьей скоростью. Сразу же после располагавшейся по правую руку фуникулёрной станции, перед въездом в Муотаталь со стороны Швица, следует свернуть резко вправо, вниз и назад на грунтовую дорогу. Указателей никаких нет. Тут же попадаешь под кроны деревьев, но довольно быстро подъезжаешь к реке Муота и к мосту, перекинутому через неё. Деревянный, проходимый для легкового автомобиля, на перекрытиях деревянной же двухскатной крыши надпись на немецком: «Суворовский мост. В память о победе русских войск генерала Суворова 31 сентября – 1 октября 1799 года» (даты, естественно, даны «по-швейцарски», то есть по новому стилю). Тогда отступавшие французы успели его взорвать. Восстановлен он был лишь через одиннадцать лет, в 1810 году и, говорят, очень похож на прежний[391 - Op. cit., стр.165.] (есть, правда, данные, что новый мост стоит на другом месте[392 - Б.М. Поляков «Битва при Муотатале», Киев, издательство «Логос», 2012, стр. 130 (фотография).]).
В 1902 году русский дворянин, учёный и общественный деятель Василий Павлович Энгельгардт поставил в Муотенской долине простой железный крест с табличкой на немецком языке: «Здесь покоится русский офицер, павший в долине Муотаталь осенью 1799 года». Много лет стоял этот крест у дороги, а потом исчез. В августе 2011 года его случайно обнаружил местный житель в собственном подвале и сообщил об этом властям. И они решили его отреставрировать и поставить вновь! 27 сентября 2012 года работа, благодаря частным пожертвованиям, была завершена, и крест торжественно водружён в Муотатале, на берегу Муоты, на специально созданной полукруглой площадке, устланной гравием, привезённым с перевала Сен-Готард. Его окружают гранитные блоки со всех четырёх перевалов, которые преодолела русская армия[393 - http://smolbattle.ru/threads/Музеи-Суворова-в-России-и-за-рубежом.47213/.]. В нашу первую поездку этого креста просто-напросто ещё не было, а во второй раз мы о нём, к сожалению, не знали.
Но вернёмся к Швейцарскому походу.
Ночь на 21 сентября прошла в Муотенской долине тихо. Наши солдаты и местные жители хоронили убитых в братской могиле на окраине деревни, а раненых сносили в большой каменный дом. С собой их не возьмут и – по законам военной чести тех времён, а также по приказу Суворова – оставят на попечении французов.
А главные силы нашей армии весь день 19 сентября выходят из Муотенской долины через перевал Прагель. Только к ночи они спускаются в долину Клёнтальского озера[394 - См. Википедию, статью «Клёнтальское озеро».] (Kl?ntalersee). Объявляется привал, но громкие разговоры запрещаются, а костры разводить позволяется только в местах, скрытых за скалами, иначе их увидят французы. Ночь выдаётся холодной, вскоре начинается проливной дождь, а потом к нему примешивается и снег. Да ещё туман наваливается такой, что в двух шагах ничего не видно. Так и стоят наши голодные, босые и промокшие насквозь солдаты всю ночь в ледяной грязи без сна, дрожа от холода. Суворов с великим князем Константином ночуют в овечьем хлеву.
Когда мы с женой были на перевале Прагель в первый раз, в августе 2011 года, никаких следов нашей армии мы там не нашли, хотя знали, что где-то должна быть мемориальная табличка. Во второй раз, уже с внуками, нам повезло больше. Сначала, правда, мы опять въехали на перевал ни с чем (сейчас, кстати, на него ведёт отличная, хотя и довольно узкая, асфальтированная дорога). Мы развернулись и тихо-тихо поехали обратно. Кругом высокий хвойный лес (черники – полно!), но вновь ничего. Опять разворачиваемся, направляемся вверх и решаем, наконец, спросить о Суворове в небольшом доме, который уже несколько раз проезжали, – то ли ресторане, то ли гостинице. Зайдя туда, видим, что внутри – дым коромыслом: идёт какой-то праздник. Швейцарцы, по нашим наблюдениям, выпить не дураки, так что видим мы лица явно нетрезвые. Но на наш вопрос один из них говорит: «Знаю я это место. С машины вы его не найдёте ни за что. Но мне нужно в долину, так что если вы меня подвезёте, я вам поворот покажу». Какие вопросы? Конечно! Но только мы вышли на улицу, к дому подкатывает автомобиль, из него выходит сердитая женщина и, увидев нашего «проводника», набрасывается на него с упрёками (выпил, что ли, её муж лишнего?). Он ей что-то отвечает, и вдруг она стихает, поворачивается к нам с улыбкой (!) и говорит: «Вы – русские? Суворовское место ищете? Езжайте за моей машиной». Мы двинулись за ней вниз. Не доезжая где-то двух-трёх километров до Муототаля, она останавливается, выходит и показывает на столб с жёлтыми табличками справа от дороги. Их там добрый десяток. «Видите, Гутентальбо?ден? – спрашивает она. – Вам туда». Это название (Gutentalboden) мы находим не сразу и видим за столбом просёлочную дорогу, быстро скрывающуюся за ветвями огромных сосен. Немудрено, что мы её столько раз проскочили! Распрощавшись с этой парой, мы поехали вперёд. Дорога оказалась очень даже приличной, хотя и зажатой между отвесной скалой права и Муотой слева, и вскоре мы оказались на большой поляне, на которой стоял домик коричневого цвета с надписью на немецком и русском (!) языках: «Генералиссимус Суворов». Рядом было запарковано несколько машин с немецкими номерами. Дальше дороги не было. Но табличка-то где? Мы решили подойти поближе к дому. За ним стоял гриль, жарилось мясо, а к нам с некоторым недоумением вышли несколько явно подвыпивших (тоже!) немцев с пивом в руках. Ни малейшего понятия ни о том, кто такой Суворов, ни тем более о табличке они не имели, и мы решили поискать рядом. Хотя где? Мы разбрелись по поляне, и вдруг наш старший внук заверещал: «Нашёл!!!». На отвесной скале впереди и слева, если стоять спиной к тому дому, примерно в ста метрах от него и на высоте около двух метров он, к своему восторгу, обнаружил металлическую табличку с надписью на немецком языке: «В память о переходе русских войск под руководством генералиссимуса Суворова в сентябре 1799 года». А над надписью – православный крест. (Уже потом мы узнали, что асфальтированная дорога была частично проложена в стороне от старой – в этом и оказалась загвоздка.)
А солдаты Багратиона в ночь с 19 на 20 число 1799 года под прикрытием непроглядной тьмы, проливного дождя и тумана безмолвно вскарабкались на скалы справа и слева от неприятельских позиций (хотя как они это сделали – ума не приложу!) и затаились. Но французы услышали всё же какой-то шум и послали в нашу сторону разведчиков, обнаруживших совсем рядом русские посты. Время шло к рассвету, но было ещё совсем темно. Происходит перестрелка, эффект внезапности потерян, но стрельба приводит к спонтанной атаке французских позиций у Клёнтальского озера. Наши солдаты устремляются на противника вниз со скал в кромешной темноте, ориентируясь по звукам выстрелов. Начинается страшная рукопашная схватка вслепую, люди бьются чем попало – кулаками, ногами, штыками, прикладами ружей – срываются с мокрых и скользких скал, разбиваются насмерть, и тут следует наша атака в лоб. Неприятель не выдерживает и вновь отступает – к северо-востоку от озера, в сторону Ри?дерна и Гла?руса. Его преследуют почти шесть километров.
У деревеньки Ридерн (Riedern[395 - См. Википедию, статью «Riedern» (на английском языке).]) французы сжигают мост через бурный ручей Клёнбах[396 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 150.] (Kl?nbach) и закрепляются перед местечком Нетшталь (Netstal[397 - См. Википедию, статью «Netstal» (на английском языке).]). Перейдя ручей вброд, Багратион долго не может выбить их оттуда, но в конце концов русские врываются в Нетшталь и захватывают там пушку, знамя и около трёхсот пленных[398 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 148.]. Молитор отступает на север, к Не?фельсу (N?fels[399 - См. Википедию, статью «N?fels» (на английском языке).]) – городку, расположившемуся в долине реки Линт[400 - См. Википедию, статьи «Линт (река)» и «Linth» (на английском языке).] (Linth), по обоим её берегам. Багратион преследует его по пятам.
Бой за Нефельс носит исключительно упорный характер. Особенно яростные схватки идут за взорванный французами мост через Линт. Суворов рвётся на соединение с австрийским корпусом фельдмаршал-лейтенанта Фридриха фон Линкена – это было решено ещё на военном совете в Муотенской долине 18 сентября. (Правда, он не знает, что австрийцы давно из долины Линта ушли – не имея на то никакого приказа[401 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 327.]!) Французы же, численно превосходящие русские силы, отдохнувшие после Второй битвы при Цюрихе, прекрасно вооружённые и, между прочим, накормленные, стремятся отстоять этот рубеж любой ценой и вновь запереть нашего фельдмаршала среди ущелий. Шесть раз Багратион благодаря штыковым атакам врывается в Нефельс (патронов практически уже нет), и шесть раз откатывается назад. Бой длится до позднего вечера. В конце концов Суворов приказывает своему генералу отойти обратно к Нетшталю: солдаты непрерывно сражаются уже шестнадцать часов[402 - Op. cit., стр. 150.] (!), да и невозможно бесконечно биться штыком против ружей и артиллерии. Военные действия затихают на ночь.
Наша армия стоит лагерем у Нетшталя три дня. Французы её не беспокоят. Ставка Суворова сначала располагается в Ридерне, а затем в самом Нетштале. Он ждёт Розенберга. Андрей Григорьевич идёт медленно: с ним тянется обоз русской армии, вернее то, что от него осталось. Продвигаться вперёд приходится по разбитой и заваленной трупами горной тропе, к тому же выпадает снег, опять льёт дождь, опускается туман. Опасаясь преследования, костры разводить генерал не разрешает. Две ночи его солдаты проводят на снегу, и к Гларусу арьергард русской армии выходит лишь 23 сентября[403 - Op. cit., стр. 151–152.].
Клёнтальское озеро по праву считается одним из самых красивых в Швейцарии. Оно относительно невелико – около 3,3 квадратных километра[404 - См. Википедию, статью «Kl?ntalersee» (на немецком языке).] (площадь, например, Цюрихского озера равняется почти 90 квадратным километрам[405 - См. Википедию, статью «Цюрихское озеро».], то есть чуть ли не в 30 раз больше), но рельеф вокруг просто сказочный: высокие, покрытые лесом горные вершины, альпийские луга, вода словно зеркало – и, между прочим, двухцветная – водопады. К озеру ведёт асфальтированная дорога – та самая, которая переваливает через Прагель, и ехать по ней – отдельное приключение. Перепады высот велики, постоянные крутые повороты, непросто разъехаться со встречным транспортном, особенно с каким-нибудь трактором, и – красотища вокруг… В 1908 году на озере построили плотину с небольшой электростанцией[406 - См. Википедию, статью «Kl?ntalersee» (на немецком языке).], и уровень его существенно поднялся, так что болотистые берега, которые так мешали сражаться нам и французам, скрылись под водой. В этом месте мы останавливались на ночь, а наутро, как и авангард Багратиона, двинулись к Ридерну. Там мы искали дом, в котором располагалась штаб-квартира Суворова. Как уже много раз бывало в Швейцарии, дом этот мы поначалу проскочили, хотя стоит он, можно сказать, на главной улице. Четырёхэтажный, сероватый, с типично швейцарскими коричневыми окнами. Если ехать от озера, его нужно искать сразу же за мостом и справа, он третий по счёту от реки. Напротив – какое-то здание типа склада, принадлежащее военному ведомству, с табличкой «P. Folk». Ну, а на фронтоне «нашего» дома, между вторым и третьим этажом, табличка другая, на которой на немецком написано: «Квартира генерала Суворова 1 октября 1799 года» (дата, естественно, по новому стилю).
Далее был Нетшталь. В нём, если ехать по главной дороге – Кантональштрассе (Cantonalstrasse) – на Нефельс, справа можно увидеть серый трёхэтажный дом, на фасаде которого сверху хорошо видна цифра «1799». Прямо перед ним, в крохотном скверике, мы неожиданно для себя нашли щемящий душу памятник тем событиям, не указанный ни в одном источнике, который у меня есть. Это даже не памятник, а небольшая чёрная скульптура-композиция на сером постаменте: всадник на коне (офицер?) и несколько совершенно измученных людей (солдаты?), из последних сил идущих за ним. Надписи никакой нет, но нам было ясно как Божий день, что это очередная дань памяти швейцарцев подвигу и страданиям нашей армии.
В Нефельсе о жестоких боях того времени ничто не напоминает. Но тот самый мост мы легко нашли – пешеходный, справа от дороги, если ехать по этому городку со стороны Нетшталя.
А Суворов 23 сентября собирает в Гларусе военный совет. Варианта дальнейшего движения русской армии, по большому счёту, три: вернуться в Муотенскую долину, прорываться дальше через Нефельс и уходить в Австрию через перевал Па?никс (Panixerpass). Великий князь Константин предлагает третье. Александр Васильевич с ним соглашается: отступать он не может исходя из личных убеждений, а на прорыв через Нефельс не решается, поскольку видит, в каком состоянии его армия. Здесь я хочу дать слово русскому военному историку, военному министру Российской империи, генерал-фельдмаршалу Дмитрию Алексеевичу Милютину[407 - См. Википедию, статью «Милютин, Дмитрий Алексеевич».], фундаментальный труд которого о Швейцарском походе Суворова так часто цитирую: «23 сентября собралось у Глариса [так он называет современный Гларус] всё, что оставалось ещё от армии Суворова; но в каком ужасном положении были эти остатки! Изнурённые беспримерным походом, продолжительным голодом, ежедневным боем; оборванные, босые, войска были без патронов, почти без артиллерии. Бо?льшая часть обоза погибла; не было на чём везти раненых. /…/ Численная сила русских войск уже до того уменьшилась, что авангард князя Багратиона, состоявший из тех же самых частей, как при вступлении в Швейцарию и считавшийся в то время силою до 3.000 человек, – теперь едва имел и 1.800»[408 - Цит. по: Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 153 и 156.]. К этому следует добавить, что, увидев, что фон Линкена в долине реки Линт нет, русскую армию покидает со своим корпусом последний австрийский союзник – Франц фон Ауфенберг.
А Суворов выступает из Гларуса в ночь с 23 на 24 сентября. Тяжелораненых решено оставить и, как и в Муотатале, поручить их заботе французов. Им адресуется соответствующее письмо, в котором наш фельдмаршал, со своей стороны, обещает аналогичное попечение о французских пленных и раненых, которых он забирал с собой.
Армия идёт на юг, к австрийской границе, через так называемые Гла?рнские Альпы. Впереди, в авангарде, – Милорадович, за ним – обоз, далее – корпуса Розенберга и Дерфельдена. Замыкает марш Багратион. Идут скрытно, беззвучно. У Нетшталя специально оставлены казаки, которым приказано всю ночь жечь костры и, наоборот, шуметь как можно больше. Французы обнаруживают отход наших войск с рассветом и тут же начинают преследование. От них отделяется один батальон, скрытно пробирается по горам (с артиллерией!) и устраивает засаду между селениями Шва?нден (Schwanden[409 - См. Википедию, статью «Schwanden, Glarus» (на английском языке).]) и Эльм[410 - См. Википедию, статью «Эльм (Гларус)».] (Elm), там, где дорога ещё более сужается и зажимается между крутыми скалами и рекой Зернф (Sernf). Когда колонна русских войск втягивается в эту теснину, а Багратион, идущий в её хвосте, ещё только подходит к Швандену, следует неприятельская атака, имеющая целью разрезать армию на две части. Начинается перестрелка, и тут французы начинают бить из орудий прямой наводкой по нашему обозу, который тут же смешивается. Солдаты Багратиона бросаются по снегу в штыки, пересекают ледяную реку вброд и вплавь (!), влезают на крутые скалы и сбивают противника со своих позиций. Бой продолжается два часа, подкрепление подходит с обеих сторон, наши истерзанные бойцы дерутся с многократно преобладающими силами французов, но отходят – по команде – лишь тогда, когда весь обоз покидает теснину. Отходят они к селению Э?нги (Engi[411 - См. Википедию, статью «Engi, Switzerland» (на английском языке).]), где вновь подвергаются нападению и опять стоят насмерть в течение двух часов. Наступает ночь.
Русская армия останавливается на ночлег вокруг Эльма, а авангард Милорадовича продолжает в темноте движение к перевалу Паникс. Ночь выдаётся тёмная и ненастная. Крупными хлопьями падает снег. Дров для того, чтобы разжечь костры, нет. В темноте французы подбираются к нашим позициям почти вплотную и временами стреляют, так что наши солдаты глаз не могут сомкнуть.
В два часа ночи 25 сентября начинается подъём на перевал. Паникс – самый высокий из тех, которые преодолел Суворов в ходе Швейцарского похода: его высота 2.407 метров над уровнем моря[412 - См. Википедию, статью «Паникс».]. Он не такой непроходимый как Кинциг, более того, через него недавно ушёл в Австрию Фридрих фон Линкен[413 - Б.М. Поляков «Битва при Муотатале», Киев, издательство «Логос», 2012, стр. 173.], но – Боже мой! – в каком же разном состоянии были две эти армии (да и погода стояла тогда намного лучше)!
Французы опять замечают наше движение лишь с рассветом, когда Суворов отходит уже довольно далеко. Они бросаются было вдогонку, но вскоре останавливаются и поворачивают назад: никто не хочет лезть в тот ад, куда уходят русские. И вообще-то слово «ад» звучит для всего того, с чем придётся столкнуться нашим людям, просто комплиментом.
Сразу за Эльмом начинается крутой и затяжной подъём. По горной тропе можно идти только поодиночке, гуськом. С самого начала подъёма люди начинают вязнуть в глубокой холодной грязи и с трудом вытаскивают ноги, оставляя в ней то, что с большой натяжкой можно назвать обувью. Чем дальше они идут, тем круче становится путь, а выпавший ночью обильный снег напрочь заносит тропу. Всё вокруг заволакивает серыми сырыми облаками, так что движение идёт практически наугад. К тому же армию покидают последние швейцарские проводники (кроме Антонио Гаммы!), и не знающие дороги люди вынуждены по наитию отыскивать её в сугробах. Поднимается вьюга. Под ударами ветра с гор начинают валиться камни. Где-то в долине слышится гроза, снизу видны молнии. Я не знаю, как передать словами всё то, с чем столкнулись, спасая свою жизнь, честь русского оружия и имя нашей страны, совершенно убитые голодом, холодом и тяжелейшими испытаниями люди – в разодранной одежде и босиком (!!!). Они бредут, словно призраки, зная одно: если остановятся, смерть неминуема. Ещё в начале подъёма Суворов, предвидя все ужасы этого перехода, расставляет по всей длине колонны горнистов и барабанщиков. Они должны трубить и выбивать дробь, чтобы ничего не видящие вокруг себя солдаты могли ориентироваться хотя бы по звуку, доносящемуся сквозь завывание ветра. Около трёхсот ещё уцелевших мулов сорвались в пропасти. Туда же пришлось сбросить остатки артиллерии.
Только авангарду Милорадовича удаётся спуститься в долину, к деревне Паникс, которая на местном диалекте называется Пи?нью[414 - См. Википедию, статью «Пиньиу».] (Pigniu), засветло. Основная часть армии ночует среди сугробов в горах. Сам Суворов вместе с великим князем Константином, а также со своим пятнадцатилетним сыном Аркадием[415 - См. Википедию, статью «Суворов, Аркадий Александрович».] (да-да, он тоже участвовал в этом тяжелейшем походе) останавливается в приземистой, сложенной из камней пастушьей хижине прямо на перевале[416 - Г.П. Драгунов «Чёртов мост: По следам Суворова в Швейцарии», М., издательский дом «Городец», 2008, стр. 222.]. Хвороста, чтобы развести огонь, на такой высоте нет, и немногочисленные счастливчики жгут рукоятки собственных пик. Ночью резко падает температура, и поутру многие просто не встают. Но выживших ждёт новое испытание: тропа обледенела. А впереди спуск. Есть свидетельства, что некоторые солдаты скатывались вниз как по горкам. Что ж, наверное, так и было. Только финишем такой «ледянки» легко могла быть смерть.
Каждый, наверное, знает картину русского художника Василия Ивановича Сурикова «Переход Суворова через Альпы», которую он написал в 1899 году, к столетию этого беспримерного похода[417 - См. Википедию, статью «Переход Суворова через Альпы (картина)».]. За два года до этого Суриков посещает Швейцарию, делает там зарисовки и, как полагают многие, изобразил именно переход Суворова через Паникс. Но прочитав мой рассказ, вы видите, что действительности в этом выдающемся полотне соответствует разве что внешность нашего фельдмаршала да обледенелые скалы. Упитанные и даже улыбающиеся лица солдат, все как один не только в обуви, да ещё и в сапогах (а ведь при Павле I солдаты ходили в штиблетах – башмаках с голенищами, застёгиваемыми на пуговицы; критикуя их, Суворов говорил: «Штиблеты – гной ногам»[418 - Цит. по: Википедия, статья «Униформа русской армии».]), чуть ли не новое обмундирование…
Но есть другая, значительно менее известная, но намного более правдивая и прямо-таки выворачивающая душу картина. Её написал в 1860 году российский художник-баталист немецкого происхождения Александр Фридрих Вильгельм Франц фон Коцебу? или, по-русски, Александр Евстафиевич Коцебу[419 - См. Википедию, статьи «Коцебу, Александр Евстафиевич» и «Alexander Kotzebue» (на английском языке).].
Он родился в Кёнигсберге, долгое время жил в России и является автором множества полотен на военные темы, прославляющих подвиги русского оружия. Эта картина так и называется: «Переход русских войск через Паникс в Альпах». Посмотрите на неё. Здесь и замёрзшие трупы, и те самые барабанщик с трубачом, и измождённые, кое-как одетые, но полные решимости и не павшие духом солдаты и офицеры во главе со своим полководцем. Насколько мне известно, эта работа находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, но воочию я её пока не видел (говорят, она в запасниках).
Вот она:
Как добрались наши солдаты до Пинью – одному Богу (да им самим) известно. Можно только представить себе, с каким изумлением и страхом смотрели её жители на бесконечную вереницу оборванных, обмороженных, заросших, истощённых, но не сломленных людей. И их нельзя было назвать толпой! Несмотря на всё, что им пришлось пережить, люди эти остались солдатами суворовской армии – и, наверное, только это позволило им выжить. Да ещё вера в своего полководца. Герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов очень метко сказал про нашего прославленного фельдмаршала: «Суворов положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение»[420 - Цит. по: Г.П. Драгунов «Чёртов мост: По следам Суворова в Швейцарии», М., издательский дом «Городец», 2008, стр. 215.].
В Паникс/Пинью Александр Васильевич въезжает на лошади, которую держит под уздцы его бессменный проводник Антонио Гамма. На календаре 26 сентября. Семидесятилетний герой одет довольно легко, выглядит усталым, но находится в прекрасном настроении. Ещё бы! Он спас свою армию от неминуемой гибели и сделал то, что в истории, пожалуй, не удавалось ни одному полководцу (и, прибавлю от себя, едва ли удалось до сих пор).
В этот день происходит один из немногих случаев нарушения его приказа по отношению к имуществу мирных жителей. Совершенно обезумевшие от многодневного голода, промёрзшие до костей солдаты набрасываются на не до конца убранный урожай овощей, вырывают их из земли, выкапывают руками картошку и едят прямо так, сырой и с землёй. Убивается скот, но ждать, пока прожарится мясо, нет сил, и его куски проглатываются полусырыми. Разбираются на дрова сараи, и люди греются у огня больших костров – впервые за несколько ночей, проведённых на морозе в снегу[421 - Op. cit., стр. 222 и 224.] (в Пинью, кстати говоря, снега нет). Но обратите внимание: никто не врывается в дома, не отбирает продукты у крестьян, не убивает и не грабит их. И это – свидетельства швейцарцев! Невольно вспоминается, как вели себя «цивилизованные» французы.
Суворов же велит подробно записать всё, что выкопали, разломали да съели его люди, и обещает полностью заплатить за это по окончании похода. Он уже не может расплачиваться на месте – армейская казна пуста. И можно не сомневаться, что наш фельдмаршал своё слово бы сдержал, но вскоре следует его опала, потом смерть, а потом и убийство императора Павла. Так и остались те расходы невозмещёнными…
А мы из Нефельса продолжали свой путь. Гларус нам совсем не глянулся. К тому же, по моим сведениям, дом, в котором проходил военный совет 23 сентября 1799 года, возможно, сгорел во время сильного пожара, произошедшего в городе в 1861 году[422 - Op. cit., стр. 189.]. Согласно тому же источнику, дом, в котором якобы останавливался наш фельдмаршал, есть недалеко от Нетшталя, но мы, обнаружив в этом городке тот самый миниатюрный памятник-трагедию, страшно обрадовались и, гордые собой, поехали дальше к Швандену. В нём должен был быть музей Суворова, переехавший из Гларуса (тот самый, который основал барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн), но нам удалось только выяснить, что он перебрался в городок Линта?ль (Linthal[423 - См. Википедию, статью «Linthal, Glarus» (на английском языке).]), примерно в десяти километрах к юго-западу. Зато мы узнали его название, адрес и часы работы: Suworov-Museum, Банхофштрассе (Bahnhofstrasse), дом 1; работает по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10–00 до 17–00, вход бесплатный, телефон +41 (0)79 216 66 58, адрес электронной почты: suworovmuseum@bluewin.ch, сайт: www.1799.ch. В тот день был вторник, так что в музей мы не поехали.
В Швандене дорога раздваивается: правая идёт на тот самый Линталь, а левая – через Энги в Эльм. Места тут абсолютно не туристические, но изумительно красивые. Эльм совершенно крохотный: в конце 2016 года в нём проживало 626 человек[424 - См. Википедию, статью «Elm, Switzerland» (на английском языке).]. Но дом, в котором останавливался Суворов, сохранился! Он был построен в 1771 году и принадлежал семье уважаемого в этом селении человека[425 - Г.П. Драгунов «Чёртов мост: По следам Суворова в Швейцарии», М., издательский дом «Городец», 2008, стр. 198.]. Светлый, четырёхэтажный, ещё два этажа под двухскатной крышей, в одной из стен – вход в полуподвал. Рядом с ним надпись на немецком: «Погребок Суворова» и нарисованная фигура русского солдата-усача. И тут же, справа, табличка: «Квартира генерала Суворова 5/6 октября 1799 года». Мы были в Эльме летом, это у них «мёртвый сезон» (люди приезжают туда зимой: покататься на лыжах), так что погребок был закрыт. Зато совсем недалеко от дома мы нашли небольшой памятник нашему полководцу – на коне. Его автор – русский скульптор Дмитрий Тугаринов – тот, кто создал ему памятник на Сен-Готарде. На окраине Эльма, при въезде в него со стороны Швандена, стоит справа очень неплохой отель «Сардо?на» («Sardona»). Когда мы с женой были в этих местах в первый раз, то осмотрели его внимательно, и во второй раз – уже с дочерью и двумя её сыновьями – сделали его нашей штаб-квартирой в Швейцарии. Добротная «четвёрка», с бассейном, очень доброжелательным персоналом, неплохим, чисто швейцарским завтраком (разнообразные мюсли – изобретение швейцарцев[426 - См. Википедию, статью «Мюсли».], кстати), но дороговато – как и всё в этой стране.
В первый раз мы там решили перекусить, и я спросил официанта, как бы нам забраться сегодня на Паникс. Времени было около двенадцати дня. Он с сомнением посмотрел на нас и сказал: «Вообще-то путь туда у вас (он сделал ударение на словах ‘у вас’, как бы подчёркивая нашу неподготовленность) займёт часов пять-шесть. Потом столько же спускаться будете. Так что решайте сами. Но если бы вы видели, в каком состоянии возвращаются с этой тропы люди типа вас, то, думаю, такого вопроса вы бы мне вообще не задавали. Короче, можете идти, но я вам настоятельно этого не рекомендую. Вот оставайтесь у нас в отеле на ночь, выспитесь хорошенько и рано поутру отправляйтесь. И лучше бы позаботиться о проводнике». После таких вводных желание лезть на Паникс как-то само собой отпало, но мы всё же решили съездить хотя бы к его подножию.
Путь был недалёк: каких-то шесть километров до селения Ви?хлен (Wichlen), десять минут на машине. Почти сразу за ним асфальтированная дорога упирается в танковый полигон и заканчивается. Дальше идёт уже грунтовая, по которой ехать у нас не было никакого желания. Запарковав машину рядом со старым швейцарским танком (настоящим!), мы пошли вверх, преодолели, может, километра два и возвратились.
Во второй раз, в 2014 году, мы подготовились лучше. Остановились в «Сардоне» и тут же договорились относительно проводника. Рано утром нас встретил пожилой крепкий дядька с молодой женщиной – как оказалось, его дочерью. Мы двинулись в путь на их микроавтобусе, доехали до полигона и тут увидели, что прямо у начала тропы стоит … суворовский солдат! В форме гренадера XVIII века, на карауле, за плечом ружье. Рядом со швейцарским танком. Раньше этого памятника точно не было! Наши проводники ничего внятного по этому поводу сказать не смогли, и только потом я узнал, что установлен он был в 2012 году.
Мы начали подъём. Поначалу всё шло хорошо, но потом погода несколько испортилась: небо заволокло тучами, а вскоре и вовсе пошёл дождь. Тропа намокла, стала грязной. Тонюсенькие ручейки сразу же превратились в довольно своенравные речушки. С набором высоты становилось труднее дышать. Я шёл, смотрел на отвесные кручи, пропасти, извилистую крутую, едва различимую тропинку и думал, что, наверное, раньше люди были значительно крепче и выносливее нас – горожан XXI века. А в голове время от времени бился вопрос: интересно, а могла ли бы другая армия, кроме русской, суворовской, пройти здесь в тех условиях? И отвечал себе, что абсолютно не могу понять, как наша-то не сгинула в этих сугробах да во льдах. Только потом я узнал о следующих поразительно точных словах князя Багратиона: «Мы шли почти босые, чрез высочайшие скалистые горы, без дорог чрез быстротоки, переходя их по колено и выше в воде. И одна лишь сила воли русского человека с любовью к отечеству и Александру Васильевичу могла перенести всю эту пагубную пропасть»[427 - Цит. по: Г.П. Драгунов «Чёртов мост: По следам Суворова в Швейцарии», М., издательский дом «Городец», 2008, стр. 215.]. (Тринадцать лет спустя, в 1812 году, похожие страшные испытания выпадут на долю солдат и офицеров Наполеона после того, как он оставит Москву и в жесточайшую стужу поведёт их назад, на запад. Нашей армии тогда тоже здорово достанется от русского генерала Мороза.)
Первой решила возвращаться моя жена. С ней ушла дочь нашего проводника. Потом, где-то через три часа пути, запротестовала внуки. Делать было нечего, и я сказал проводнику, что мы идём вниз. Он посмотрел на меня с каким-то сожалением, промолвил: «Четыре километра прошли, три ещё предстоит» и вынул высотомер. Тот показывал, что по высоте нам оставалось подняться всего на 500 метров. Но спорить с большинством я не мог. Так моя мечта и осталась мечтой. Наверно, уже навсегда…
Потом был лёгкий спуск (погода – как назло! – наладилась), ночь в «Сардоне» и долгая дорога в Паникс/Пинью – в обход горного хребта, который штурмовал Суворов.
Это одна из самых живописных деревенек, которую я когда-либо видел в своей жизни. Она находится на высоте 1.049 метров над уровнем моря[428 - См. Википедию, статью «Pignia» (на английском языке).] и расположилась на крутых горных склонах так, что некоторые улочки в ней идут под углом до 40 градусов, так что ехать по ним вниз на машине было отдельное испытание. А я стал искать дом, в котором останавливался наш фельдмаршал. Его удалось найти довольно быстро – четырёхэтажный, каменный, коричневого цвета и стоит практически на главной улочке (улицей её назвать можно с трудом: до того узка). Я остановил свой автомобиль и вышел. Увидел табличку на немецком: «Суворов 6.7.Х.1799». Тут из-за двери соседнего дома появился пожилой мужчина. «У Вас что-то с машиной?» – спросил он (дело в том, что я напрочь перегородил всю улицу). Я ответил, что нет: просто мы из России, идём по пути Суворова и вот решили посмотреть на дом, где он ночевал. Дядька просто преобразился! Стал объяснять, что хозяин – его друг, но он сейчас в отъезде, а то бы зашли вовнутрь; рассказал, что ездил в нашу страну, в Санкт-Петербург, поклониться могиле Суворова (!), а потом, сказав, чтобы я обождал чуток, скрылся в своём доме. Вышел он уже с женой и протянул мне книгу. «Это я написал, – гордо сказал он. – Про вашего полководца. Дарю». Я не верил своим глазам и ушам! В затерянной в горах деревеньке, в которой едва насчитывается 120 жителей[429 - Там же.], есть человек, ездивший в Россию специально чтобы почтить память нашего фельдмаршала, да ещё и написавший о нём книгу, которая к тому же оказалась на трёх языках (немецком, итальянском и английском)! Невероятно… А мой собеседник подсказал ещё одно место недалеко от Пинью, о котором не говорилось ни в одной книге из моей библиотеки. Нужно было проехать пару километров к перевалу, где сейчас стоит плотина. Так вот она вся разрисована фигурами суворовских солдат!
Швейцарский поход на этом закончился. Дальше наша измождённая, но не побеждённая армия пойдёт по территории Австрии, по живописной долине реки Рейн, где ей будет тепло и сыто: австрийцы заготовили для неё продовольствие. В первых числах октября к ней присоединяются обоз и тяжёлая артиллерия, посланные Суворовым сюда ещё 4 сентября, накануне марша в Швейцарию. А Александр Васильевич планирует новое наступление! Ещё из Пинью он пишет эрцгерцогу Карлу, что готов соединиться с одним из австрийских корпусов и вновь вторгнуться в Швейцарию, но при одном условии: ему нужна помощь провиантом и вооружением[430 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 182.]. Как будто и не было ужасающего похода!
Вскоре, однако, Суворов меняет своё решение: он ждёт ответа от австрийского командующего в течение трёх дней и, не дождавшись, пишет 3 октября Павлу I: «Корпус Римского-Корсакова низшёл на 10.000 пехоты /…/; при Цюрихе лишился он палаток, плащей, денег /…/; солдаты кроме что на себе одной рубашки, в обуви и мундирах обносились. По несчётным кровавым сражениям /…/ у меня здесь /…/ не свыше сего же числа. Если Бог благословит соединиться нам с Корсаковым, то уже о наступательных операциях мыслить не должно: неприятель втрое сильнее /…/. Единый спасительный способ при вышеописанных обстоятельствах остаётся нам тот, чтобы, оставя Швейцарию /…/, идти на винтер-квартиры [то есть расположить армию на зиму], куда удобнее будет. Там на квартирах можем мы укомплектоваться людьми, лошадьми и военной амуницией, одеться, обуться и поправить наши изнурённые силы для открытия новой кампании»[431 - Цит. по: op. cit., стр. 187–188; курсив везде – у Д.А. Милютина.]. Здесь же Александр Васильевич пишет, что на содействие эрцгерцога Карла надежды у него нет. А 7 октября Суворов проводит военный совет, который высказывается ещё категоричнее: «/…/ кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды; чего ради наступательную операцию не производить; но для необходимейшего поправления войск остановиться на правом берегу Рейна»[432 - Цит. по: op. cit., стр. 191; курсив везде – у Д.А. Милютина.]. Как говорится, комментарии излишни. Император Павел вполне согласен со своим полководцем, а тут ещё он получает 10 октября известие о поражении Римского-Корсакова под Цюрихом и на следующий день в гневе пишет австрийскому императору Францу II: «Вашему Величеству уже должны быть известны последствия преждевременного выступления из Швейцарии армии эрцгерцога Карла /…/. Видя из сего, что Мои войска покинуты на жертву неприятелю тем союзником, на которого Я полагался более, чем на всех других /…/, Я /…/ объявляю теперь, что отныне перестаю заботиться о Ваших выгодах и займусь собственными выгодами Своими и других союзников. Я прекращаю действовать заодно с Вашим Императорским Величеством /…/»[433 - Цит. по: op. cit., стр. 220.]. В тот же день[434 - Op. cit., стр. 390.] соответствующее указание направляется Суворову. В истории со Швейцарским походом поставлена жирная точка.
А вот я её пока не ставлю.
Читая мой рассказ об этой героической эпопее, вы не задумывались, случайно, сколько времени она продолжалась? Кажется, что довольно долго, правда? А на самом деле – чуть больше трёх недель, а точнее двадцать два дня (если считать с момента перехода реки Треза на нынешней швейцарско-итальянской границе[435 - Д.А. Милютин отсчёт ведёт с 10 сентября, то есть с того дня, когда Суворов прибыл в Беллинцону, а Розенберг начал манёвр в обход Сен-Готарда; в таком случае продолжительность Швейцарского похода равняется всего шестнадцати дням.]). Самое удивительное то, что потери нашей армии, – учитывая выпавшие на её долю беспрецедентные тяжелейшие испытания, – оказались относительно небольшими. Из Италии Суворов повёл около 20.000 человек. Так вот до Австрии добралось примерно 15.000. Свыше 3.500 человек были ранены[436 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 162 и подробнее – стр. 330–337.]. Данных о попавших в плен нет, но можно не сомневаться, что таковых были единицы. Где-то 1.600 погибли: были убиты, сорвались в пропасти, замёрзли и т. д. То есть количество погибших просто ничтожно! По словам начальника штаба Массена? генерала Николя Удино? (будущего маршала Франции[437 - См. Википедию, статью «Удино, Никола Шарль».]), французы в этот же период потеряли убитыми, ранеными и пленными до 6.000 человек (в это число, правда, входили и их потери в других сражениях и, в частности, во Второй битве при Цюрихе[438 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 337.]), то есть, как минимум, не меньше. А ведь они и близко не терпели лишений суворовской армии. Но и это ещё не всё. Наш полководец сдал австрийцам около 1.400 пленных[439 - Op. cit., стр. 162.] (!), в том числе и генерал-адъютанта Николя де Лакура (того самого, который в наших рапортах превратился сначала в генерала, а потом в Лекурба). Сохранилось свидетельство о том, что взял его в плен казак, генерал-майор Андриан Карпович Денисов[440 - См. Википедию, статью «Денисов, Андриан Карпович».]. С перевала Паникс он спустился в ужасном состоянии: сильно простуженным и едва державшимся на ногах. Де Лакур принялся отпаивать своего победителя тёплым супом и укутал одеялами. Денисов в конце концов поправился и потом говорил, что француз спас ему жизнь[441 - См. Википедию, статью «Nicolas Bernard Guiot de Lacour» (на английском языке).]. А вообще можно себе представить, что пришлось пережить французским пленным. Не приходится, например, сомневаться, что они тоже шли босиком – обувь уж с них наши точно сняли.
А Суворову 29 октября Павел присваивает звание генералиссимуса[442 - Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 4, стр. 339.], велит Военной коллегии (сегодня бы мы сказали – министерству обороны) вести с ним переписку не указами, а сообщениями и повелевает поставить ему в Санкт-Петербурге памятник. Никогда ещё в России не ставился кому-либо памятник при жизни. В столице готовится пышная встреча. И тут – как гром среди ясного неба – Александр Васильевич получает от императора бумагу, в которой, в частности, написано: «Вопреки /…/ уставу генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своём, по старому обычаю, /…/ дежурного генерала /…/[443 - Цит. по: С.Э. Цветков «Александр Суворов. Беллетризированная биография», М., издательство «Центрполиграф», 2001, стр. 493.]». Современный человек скажет: «Ну и что такого?!» Но для Павла I эта провинность зачеркнула все заслуги великого военачальника. Во-первых, он относился к воинскому уставу, разработанному при его непосредственном участии, как к Библии, заповеди которой нарушать было немыслимо, а, во-вторых, служба «по старому обычаю» означала для него верность порядкам Екатерины Великой, с которыми он беспощадно боролся. Ну и, наконец, не нужно забывать, что в опалу Суворов в своё время попал именно за критику нововведений Павла в армии.
Все приготовления к торжественной встрече тут же отменяются. О памятнике никто теперь и не вспоминает. Зная вспыльчивый и нервный характер императора, от Суворова все отворачиваются. 20 апреля 1800 года в десять вечера уже совсем больной генералиссимус въезжает в Санкт-Петербург в полном одиночестве[444 - Op. cit., стр. 494.]. Его никто не встречает. Вскоре появляется генерал и сообщает, что к Павлу ему являться не велено. После этого наш великий полководец прожил совсем недолго: он умер 6 мая во втором часу дня[445 - Op. cit., стр. 497.].
Узнав о смерти Суворова, Павел произносит: «Вот герой, отдавший дань природе; его неповиновение причинило мне горе, потому что заставило завянуть его лавры»[446 - Цит. по: Жоржель «Путешествие в Петербург аббата Жоржеля в царствование императора Павла I» в книге «Рыцарь трона», М., Фонд Сергея Дубова, ОАО «Типография ‘Новости’», 2006, стр. 115.]. Но когда его спросили, какой должна быть церемония похорон, он ответил: «Пусть ему окажут те же почести, как фельдмаршалу Румянцеву»[447 - Цит. по: там же.]. Император не простил своего генералиссимуса даже после смерти! Хотя в день похорон он с немногочисленной свитой всё же появляется на углу одной из улиц[448 - Там же.].
Похоронили Александра Васильевича в Александро-Невской лавре. На его надгробной плите было написано: «Генералиссимус, князь Италийский, граф А. В. Суворов-Рымникский, родился в 1729, ноября 13-го, скончался в 1800, мая 6-го дня»[449 - См. Википедию, статью «Суворов, Александр Васильевич».]. Сам же великий полководец завещал, чтобы его похоронили под надписью «Здесь лежит Суворов». Это желание исполнил его внук, Александр Аркадьевич, добившийся в пятидесятых годах XIX века замены плиты на ту, которую все мы сегодня знаем.