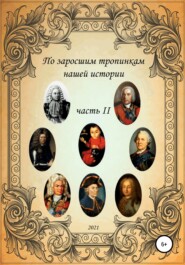По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По приказу короля командование к тому времени переходит к 55-летнему воеводе Яну Потоцкому (на следующий год ему будет суждено сложить под стенами Смоленска свою голову)[73 - См. Википедию, статью «Потоцкий, Ян (1555–1611)».]. Вскоре к его войску присоединяются ещё около пятнадцати тысяч казаков[74 - «Записки Станислава Немоевского (1606–1608). Рукопись Жолкевского», Рязань, издательство «Александрия», 2006, стр. 402.]. Бомбардировка города возобновляется с новой силой – и с более сокрушительными результатами. Но Шеин рук не опускает. Сразу же за городскими каменными стенами по его приказу сооружается вторая, земляная, основу которой составляют деревянные срубы. Воевода резко усиливает артиллерийский обстрел позиций противника, причём так, что поляки оказываются вынужденными рыть свои подкопы лишь по ночам. Защитники города выигрывают ещё несколько недель. Они знают, что им на помощь выступила из Москвы большая царская армия, и ждут её как манны небесной.
Но тут приходит страшная весть: 4 июля под деревней Клушино[75 - См. Википедию, статью «Клушино (Смоленская область)»; между прочим, эта деревня – родина Юрия Гагарина (см. там же).], примерно в 250 километрах к северо-востоку от Смоленска, царские войска терпят сокрушительное поражение от того же гетмана Жолкевского[76 - См. Википедию, статью «Битва при Клушине».]. А 18 июля[77 - В.В. Каргалов «Московские воеводы XVI–XVII вв.», М., издательство «Русское слово», 2002, стр. 201.] огромные ядра польской осадной артиллерии пробивают в городской стене брешь[78 - «Записки Станислава Немоевского (1606–1608). Рукопись Жолкевского», Рязань, издательство «Александрия», 2006, стр. 403.]. Шеин знает о катастрофе под Клушино и предлагает переговоры. Он выезжает из города в поле, встречается с польским командованием и заявляет, что готов поступить так, как прикажет ему Москва. Фактически это означает предложение о приостановлении военных действий, но Потоцкий воспринимает это как слабость русского воеводы, на перемирие не соглашается и требует немедленной сдачи. Михаил Борисович возвращается в Смоленск, и через несколько часов начинается штурм. К пролому устремляется немецкая и венгерская пехота, а с другой стороны к стенам бросаются со штурмовыми лестницами запорожцы – это отвлекающий манёвр. Наёмники врываются в пролом, наталкиваются на возведённую Шеиным земляную стену и к полудню откатываются назад (ещё раньше отступают под артиллерийским огнём казаки). Атакующие теряют убитыми около тысячи солдат[79 - Там же.] – потери по понятию тех времён весьма большие. Тут же возобновляется тяжёлая бомбардировка стен, и пролом значительно увеличивается. Потоцкий решается было на второй штурм, но начинается сильный дождь, и он решает повременить – тем более что король, который в это время болел и лежал в постели, сказал ему, что и предыдущий-то приступ проводить не следовало, поскольку, по его мнению, он был плохо подготовлен[80 - Op. cit., стр. 403–404.]. Вновь наступает относительное затишье.
Но 11 августа штурм всё-таки происходит, причём самый мощный по числу участников[81 - Информация приводится по русским источникам (см., в частности, В.В. Каргалов «Московские воеводы XVI–XVII вв.», М., издательство «Русское слово», 2002, стр. 202, а также Википедию, статью «Осада Смоленска /1609-1611/»), которые, кстати говоря, свидетельствуют о том, что Потоцкий (очевидно, вопреки воле короля?) всё же провёл свой штурм; таким образом, в соответствии с русскими источниками описываемый приступ был третьим; Жолкевский же ни о нём, ни о втором не упоминает вообще.]. Его итог, правда, всё тот же. Более того, пехота даже не достигает пролома, казаков ждёт та же участь, а спешенные польские гусары вообще добираются только до рва[82 - В.В. Каргалов «Московские воеводы XVI–XVII вв.», М., издательство «Русское слово», 2002, стр. 202.]. Защитники Смоленска ликуют, однако о самом роковом для них известии они ещё не знают: 27 июля царя Василия Шуйского свергают с престола[83 - Р.Г. Скрынников «Василий Шуйский», М., ООО «Издательство АСТ», 2002, стр. 367–368.]. А ведь это означает, что новым русским государем должен стать королевич Владислав, сын того самого короля Сигизмунда Третьего, который вот уже почти год терпит под стенами Смоленска неудачу за неудачей. Так что ничего хорошего эта новость Шеину не сулит.
Ухудшается положение и в осаждённом городе. Уже добрые полгода смолян косит неведомая болезнь. Она начинается в ногах и потом распространяется по всему телу. Люди, выбравшиеся из крепости, чрезвычайно слабы и бледны, но поляки с удивлением отмечают, что для них эта болезнь оказывается не заразной[84 - «Записки Станислава Немоевского (1606–1608). Рукопись Жолкевского», Рязань, издательство «Александрия», 2006, стр. 404.]. Объясняется же всё просто. Русские источники пишут: «Грехов же ради наших пришла в Смоленск на людей болезнь великая цинга, потому что не было соли в Смоленске, померли многие, а остались немногие люди»[85 - Цит. по: op. cit., стр. 424.]. Главным лекарством от цинги является, как известно, еда, богатая витамином С, так что смолянам нужно было есть не соль, а квашеную капусту да клюкву. Увы, никто об этом в те времена не знал (в том числе, естественно, и поляки)…
Вплоть до сентября боевые действия замирают. Сигизмунд III остаётся под Смоленском и ждёт послов от московских бояр, которые должны принести ему весть об их готовности принять царём Владислава. Посольство еле тянется: дороги неспокойны, да и дожди в то сырое лето превратили их в болота. Наконец послы предстают перед королём и передают ему долгожданную новость. Привезли они с собой и грамоту Шеину, в которой ему предлагается прекратить сопротивление и принести присягу на верность польскому королевичу. Наш воевода соглашается, посылает к Сигизмунду своих приближённых и интересуется, когда можно будет «целовать крест». Но король неожиданно отвечает, что Смоленск – дело особое, что он уже больше года здесь воюет, поэтому присягать на верность Шеин со смолянами должен и ему, и его сыну да к тому же не прекратить сопротивление, а сдаться. И вообще заявляет, что для защитников города уже и то почётно, что сам государь Речи Посполитой так долго не мог его взять. Это кардинально меняет дело. Вышедшие из крепости жители, уже начавшие было торговать со своими противниками, возвращаются обратно, запирают ворота, и Шеин заявляет, что присягать он готов только в соответствиях с инструкциями из Москвы и до получения иных указаний сражаться продолжит. Русские послы, видя правоту воеводы, давить на него не решаются, но король – в бешенстве (хотя всем очевидно, что он не прав). Умудрённый опытом гетман Жолкевский пытается его урезонить, но Сигизмунд упёрся и стоит на своём[86 - Op. cit., стр. 405–409.].
Защитникам города предъявляется ультиматум: либо сдача и присяга и королю, и королевичу, либо разгром и поголовная смерть. Времени им даётся на раздумье три дня. Но вместо ответа смоляне взрывают всю батарею осадных пушек поляков, к которой заранее скрытно прорыли подземный ход[87 - В.В. Каргалов «Московские воеводы XVI–XVII вв.», М., издательство «Русское слово», 2002, стр. 205.].
Штурм опять приходится отложить. Лишь примерно через два месяца король подтягивает к городу новые крупные орудия, и подготовка к приступу активизируется. Сигизмунд III торопится: у него подходят к концу деньги, наёмники без них воевать не будут, а польский сейм выделять новые средства совсем желанием не горит. (В похожей ситуации оказался в декабре 1581 года под Псковом Стефан Баторий, о чём я рассказывал в своём эссе об Иване Грозном.) Атака назначается на начало декабря.
Ей предшествует очередной подкоп. На этот раз неприятелю помогает перебежчик из Смоленска, который участвовал в рытье контрподкопов и взялся прорыть подземный ход так, чтобы он прошёл намного ниже наших «слухов». Надо сказать, что ему это удалось. Осаждающие зарылись так глубоко, что смоляне их работ не услышали. Поляки подошли под стену, набили подземный ход порохом и произвели подрыв. Пороховой заряд был просто гигантским – «несколько десятков центнеров»[88 - Цит. по: «Записки Станислава Немоевского (1606–1608). Рукопись Жолкевского», Рязань, издательство «Александрия», 2006, стр. 405.], – но результат оказался ничтожным: взрыв разметал уже имеющийся пролом, не затронув ни остальные части стены, ни земляной вал[89 - Op. cit., стр. 404–405.]. Тем не менее поляки бросаются на приступ, трижды пытаются прорваться сквозь пробитую брешь, вновь упираются в земляной вал, попадают под уничтожающий огонь русских пушек, нацеленных прямо в пролом, и откатываются назад. Один из польских участников той атаки потом напишет: «русские в большом числе защищали вал вышиною в два копья, за валом стояло их несколько рядов, готовых к битве, наконец, [идти вперёд] не дозволяли пушки, с трёх сторон направленные к отверстию»[90 - Цит. по: В.В. Каргалов «Московские воеводы XVI–XVII вв.», М., издательство «Русское слово», 2002, стр. 205.].
Потоцкий от дальнейших приступов отказывается: наступает русская зима с её морозами, и осаждающие, хотя и сами немало страдают от холода, всё же знают, что положение в Смоленске несравненно хуже. И они правы. Вторая блокадная зима оказывается для смолян намного тяжелее, чем первая. Практически заканчиваются дрова, люди разбирают все строения, которые только могут, однако всё равно страшно мёрзнут, болеют и умирают. Продолжает свирепствовать цинга. Но измученный гарнизон не сдаётся. В Москву из Смоленска умудряются пробираться гонцы, отчаянно просящие помощи (ведь в своё время Шеин помог столице!). Москвичи горячо сочувствуют им, по городу ходят такие воззвания: «Поревнуем городу Смоленску, /…/ в нём наша же братия, православные христиане, сидят и великую скорбь, и тесноту терпят! Сами знаете, с какого времени сидят. Если бы таких крепкостоятельных городов в российском государстве хоть немного было, неповадно было бы входить в землю нашу врагам»[91 - Цит. по: op. cit., стр. 204.]. Но боярам, запершимся – вместе с поляками! – в Кремле, судьба Смоленска, как бы сегодня сказали, – по барабану. У них теперь другой враг – москвичи да ополченцы, стекающиеся к стенам Белого города с тем, чтобы прогнать захватчиков-иноземцев. Собственный народ им настолько ненавистен, что в марте 1611 года они даже посоветуют полякам сжечь Москву за пределами кремлёвских стен – что те и сделают (я писал об этом в первой части своей книги, в рассказе о Смуте).
Смоленск держится до 3 июня 1611 года. Поляки удивляются тому, что он никак не сдаётся. Гетман Жолкевский вспоминал: «На валах, где прежде было множество людей, теперь, по причине их недостатка, видна была только редкая стража /…/. Шеин исполнен был мужественным духом и часто вспоминал отважную смерть отца своего, павшего при взятии Сокола в царствование короля Стефана [Батория]; также говаривал часто перед своими, что намерен защищать Смоленск до последнего дыхания. Может быть, что поводом к этому был мужественный дух его, однако, участвовало тут и упорство; ибо, не имея надежды на помощь, при таком недостатке в людях и видя ежедневно смерть их, всё ещё упорствовал в своём намерении»[92 - Цит. по: «Записки Станислава Немоевского (1606–1608). Рукопись Жолкевского», Рязань, издательство «Александрия», 2006, стр. 420–421.]. А ведь это отзыв о Михаиле Борисовиче со стороны его врага!
Заключительный штурм начинается ночью, сразу с четырёх сторон. Не обходится и тут без помощи очередного перебежчика – а попросту предателя, – которых столько расплодилось на Руси в те времена. Он подсказывает Потоцкому наиболее слабое место в городских укреплениях, и именно туда направляется главный удар. Сначала поляки в темноте скрытно начинают взбираться при помощи лестниц на стены. Их долго никто не замечает. И немудрено. К тому времени из защитников Смоленска, бывших в состоянии держать оружие и хоть как-то сопротивляться, осталось – по данным поляка Жолкевского! – около двухсот человек[93 - Op. cit., стр. 420.].
Задумайтесь об этом! Двести человек из пяти тысяч четырёхсот ратников, собравшихся за его стенами двадцать месяцев назад!!! Чуть менее четырёх процентов!!! Никогда в истории нашей страны ни один город не защищался так отчаянно (за исключением, пожалуй, приамурского города Албазина, о чём я ещё расскажу в эссе о российско-китайских отношениях)! Для сравнения: Брестская крепость, самоотверженная оборона которой стала в нашей исторической памяти, по сути, эталоном героизма, продержалась чуть больше одного месяца – с 22 июня по 23 июля 1941 года, – причём организованное сопротивление продолжалось в ней восемь дней: до 29 июня[94 - См. Википедию, статью «Брестская крепость».]. Крепость защищало около 9.000 красноармейцев[95 - См.: там же.]. К моменту её окончательного взятия из них погибло порядка двух тысяч[96 - См.: там же.], а подавляющее большинство остальных – от 5 до 6 тысяч – оказались в плену[97 - См.: там же.]. Сравните сами эти цифры со смоленской эпопеей, по окончании которой на милость врага сдались единицы.
Измотанные защитники города заметили атаку врага слишком поздно, когда штурмующие уже расходились по стенам и башням, и отступили вниз. Одновременно с поляками в районе пролома начинает действовать немецкая пехота. Здесь оборону возглавляет непосредственно Шеин. Немцев встречает интенсивный огонь. Но тут поляки, с другой стороны, в месте, указанном предателем, подрывают заранее подложенный пороховой заряд, непрочная стена обваливается, и в огромную брешь устремляются литовцы и казаки. Начинается резня, в том числе, естественно, и мирного населения. Народ в панике бросается под защиту стен главного храма города – собора Успения Пресвятой Богородицы, который жители называли Мономаховым, поскольку его первое здание было построено ещё в 1101 году Владимиром Мономахом[98 - См. Википедию, статью «Успенский собор (Смоленск)».], тогда – князем переяславским[99 - См. Википедию, статью «Владимир Всеволодович Мономах».] (сейчас этот город называется Переяслав[100 - См. Википедию, статью «Переяслав-Хмельницкий».] и находится на Украине, примерно в 90 километрах к юго-востоку от Киева). Церковь быстро оказывается забитой битком – главным образом людьми простыми, в том числе женщинами и детьми. Смоленский архиепископ приказывает двери запереть, но королевские солдаты их быстро выламывают. Тогда он с крестом выходит им навстречу, но получает удар саблей по голове и окровавленный и едва живой выволакивается наружу – в плен. Это его спасает, потому что один из посадских людей – история сохранила нам его имя: Андрей Беляницын – зная, что в подвале храма находятся большие запасы пороха, бежит туда с зажжённым фитилём и подрывает их. Происходит чудовищный взрыв. Гетман Жолкевский пишет: «/…/ взорвана была половина огромной церкви /…/ с собравшимися в неё людьми, которых неизвестно даже куда девались разбросанные остатки и как бы с дымом улетели»[101 - Цит. по: «Записки Станислава Немоевского (1606–1608). Рукопись Жолкевского», Рязань, издательство «Александрия», 2006, стр. 422.]. В городе начинается сплошной пожар, причём, по словам того же Жолкевского, «многие из москвитян /…/ добровольно бросились в пламя за православную, говорили они, веру»[102 - Цит. по: там же.].
Сам Шеин отступает с горсткой соратников в одну из крепостных башен и продолжает отстреливаться от наседавших немцев, убив «более десяти»[103 - Цит. по: там же.]. Раздражение наёмников столь велико, что они клянутся уничтожить их всех до последнего. Но тут наш воевода принимает решение сдаться, но по какой причине! С ним рядом его жена[104 - Op. cit., стр. 424.] и самое главное – малолетний сын, «ещё дитя»[105 - Цит. по: op. cit., стр. 422.], как пишет Жолкевский, так вот насмерть перепуганный мальчик умоляет его прекратить сопротивление, и сердце отца не выдерживает. Михаил Борисович кричит одному из польских офицеров, что готов сложить оружие, тот отгоняет от башни остервеневших немцев, и немногие оставшиеся в живых герои выходят из неё.
Всё кончено. Сигизмунду достаётся практически полностью выгоревший город да горы трупов. Жолкевский пишет: «Крепость почти вся выгорела, мало осталось строений; как уже сказано, сгорели также и пороховые склады /…/»[106 - Цит. по: op. cit., стр. 423.]. Пленённый воевода предстаёт перед глазами короля, и тот – вопреки всем законам чести того времени – приказывает его пытать «разными пытками»[107 - Цит. по: op. cit., стр. 424.]. Формально он хочет узнать, куда спрятана смоленская казна и кто подговаривал его так долго сопротивляться, но вообще-то всё это больше похоже на обычную месть.
После «допроса с пристрастием» Михаила Борисовича заковывают в кандалы, разлучают с женой и сыном и отправляют в Польшу. Там Сигизмунд III продолжает ему мстить – на этот раз позором. В Варшаву, для участия в торжествах по случаю одержанной победы, привозят пленного бывшего русского царя Василия Шуйского, которого на потеху народу возят по городу в открытой коляске. Так вот Шеина сажают рядом с ним. Потом, во дворце, воеводе приказывают стоять около Шуйского и наблюдать, как тот в знак покорности кланяется королю до земли. Правда, неизвестно, повторил ли этот унизительный обряд наш герой или нет.
В польском плену, в кандалах, Шеин находится долгих восемь лет. За это время уходит в небытие семибоярщина, Минин с Пожарским выгоняют захватчиков из Москвы и из России, на русский трон избирается первый представитель династии Романовых – молодой Михаил Фёдорович, постепенно начинает сходить на нет Смута. И вот в июне 1619 года происходит размен пленных: полякам возвращают всех тех, кого захватили при освобождении Кремля, а к нам на родину возвращаются «польские сидельцы», и самые важные из них – это митрополит Филарет, отец нынешнего русского царя, и герой смоленской обороны Михаил Борисович Шеин.
Михаил Романов приказывает организовать ему торжественную встречу. Специально выбранный боярин приветствует его в пятидесяти километрах от Москвы, в Звенигороде, и передаёт ему такие царские слова: «/…/ был ты на государеве службе в Смоленске, и сидел от короля в осаде долгое время и нуж[д]у всякую терпел; и /…/ как король город Смоленск взял, и тебя взяли в полон и свели в Литву и Польшу, и в Литве за православную и крестьянскую веру страдал и нужи всякие терпел; а ныне от таких великих бед ты освободился и идёшь к нам, и мы, великий государь царь и великий князь, жалуем тебя, велели спросить о здравии»[108 - Цит. по: В.В. Каргалов «Московские воеводы XVI–XVII вв.», М., издательство «Русское слово», 2002, стр. 210–211.]. Современному человеку эта фраза может показаться довольно пустой и курчавой похвалой, но в те времена царское слово «жалуем», а также вопрос с его стороны о здоровье считались высшей честью, нечто вроде присвоения звания героя России сегодня. Потом Шеин был принят царём лично и награждён шубой и кубком.
Казалась бы, Судьба с лихвой вознаградила заслуженного воеводу за героизм и перенесённые страдания. Он близок к царю, ходит с ним на богомолье, несколько раз в год у него обедает – великая честь! – и даже иногда в его отсутствие «ведает» Москвой. А в 1628 году назначается главой Пушкарского приказа, то есть начинает руководить всей артиллерией страны. Но – увы! – герою Смоленска ещё предстоит до дна испить горькую «государственную» чашу, которая так часто доставалась верным своему долгу русским военачальникам.
В 1632 году начинается очередная война с Речью Посполитой. С нашей стороны цель у неё, по сути, одна – возвращение утерянного в 1611 году Смоленска. Одним из командующих назначается аж князь Дмитрий Пожарский (тот самый!), а вторым… кто бы вы думали? Ну, конечно – Шеин: он город потерял, ему и отвоёвывать. Вскоре, правда, князь заболевает каким-то «чёрным недугом»[109 - Цит. по: op. cit., стр. 216.] и от командования отстраняется (может быть, это спасло его от судьбы Шеина). А вот Михаил Борисович подступает к стенам Смоленска и терпит здесь неудачу (невольно приходит на ум процитированное выше замечание Петра Петрея о том, что русские прекрасно обороняются в городах, но в открытых сражениях далеко не так умелы). Его армия оказывается в окружении, он идёт на подписание с поляками вынужденного перемирия, оставляет неприятелю всю тяжёлую артиллерию, а его армия отходит от Смоленска – хотя и со всем холодным оружием и заряженными мушкетами. Я не хочу подробно анализировать события той кампании и делать выводы относительно того, кто был виноват в таком военном финале, – не об этом речь идёт в моём рассказе, – но царский гнев обрушивается на Шеина, как говорится, по полной разметке.
Суд над ним оказывается скорым, а приговор жестоким. Вместе с ещё одним воеводой Михаил Борисович приговаривается к смертной казни, а все его поместья и собственность, в том числе и дом в Москве, «взяты на государя». О прежних заслугах «как бы» забывают. И даже портрета его не сохранилось. Одновременно голову отрубают и его сыну.
Так Михаил Борисович Шеин продолжил скорбную череду верных сынов России, загубленных её правителями, начало которой в основном положил царь-палач Иван Грозный и завершил – хотелось бы надеяться, навсегда – коммунист-изувер Иосиф Сталин.
Второе Роченсальмское сражение (1790 г.), его герои и антигерой
Про это военное столкновение на Балтийском море известно в нашей стране, пожалуй, лишь узкому кругу профессиональных историков, да и вообще русско-шведская война 1788–1790 годов, заключительным аккордом которой оно оказалось, окутана у нас туманом забвения. В Швеции же Второму Роченсальмскому сражению (там оно называется битвой при Свенсксю?нде[110 - См. Википедию, статью «Slaget vid Svensksund» (на шведском языке).]), наоборот, посвящены памятники, музейные экспозиции, художественные полотна, литературные произведения и т. д., а Финляндия день своего военно-морского флота и вовсе празднует 9 июля, то есть тогда, когда оно началось (по новому стилю)[111 - См. там же.]. На первый взгляд всё тут объясняется просто: в те два летних дня 1790 года русский галерный флот под командованием адмирала принца Шарля Анри Николя Отона де Нассау-Зигена потерпел сокрушительное поражение. Что нам здесь вспоминать-то? А вот и есть что! Потому что, во-первых, Второе Роченсальмское сражение с точки зрения количества участвовавших в нём судов является самым масштабным из всех, когда-либо произошедших на Балтике[112 - См. Википедию, статью «Второе Роченсальмское сражение».]. Во-вторых, по данному параметру оно ещё и представляет собой одну из крупнейших морских баталий в истории человечества[113 - Крупнее него, по некоторым сведениям, были лишь: а) Саламинское сражение между греческим и персидским флотами, произошедшее в сентябре 480 года до нашей эры близ одноимённого острова, недалеко от Афин (см. Википедию, статью «Битва при Саламине»), б) сражение у мыса Экно?м, близ Сицилии, между римлянами и карфагенянами в 256 году до нашей эры (см. Википедию, статью «Сражение у мыса Экном»), а также в) битва между американским и японским флотами около филиппинского острова Ле?йте в октябре 1944 года (см. Википедию, статьи «Сражение в заливе Лейте» и особенно «Battle of Leyte Gulf» /на английском языке/).]. И, наконец, в-третьих, и это для нас самое важное: в ходе него множество наших моряков – не в пример большинству их начальников – продемонстрировало такой героизм, стойкость и боевой дух, что сам шведский король, непосредственно руководивший своим флотом в этой битве, даже поняв, что побеждает, во всеуслышание заявил, что лучше бы уж непогода позволила русским уйти, а то как бы не случилось для шведов какого неожиданного и неприятного сюрприза (его фразу я ещё процитирую).
Так что же это была за война, почему она началась и какое влияние на её исход оказало Второе Роченсальмское сражение? И, кстати: если оно было вторым, то что случилось в первом? Как всегда – обо всём по порядку.
Северную войну 1700–1721 годов Швеция проиграла России просто с треском. При упоминании завершившего её Ништадского мира у нас обычно акцентируется внимание на отвоёванных у шведов территориях, а между тем в нём ещё содержалась статья (седьмая), которая была для Стокгольма чрезвычайно унизительной, поскольку делала Россию гарантом неизменности установившейся к тому времени шведской формы правления, при которой права короля были сильно ограничены[114 - См. по тексту Ништадского мирного договора между Россией и Швецией в издании «Под стягом России: сборник архивных документов», М., издательство «Русская книга», 1992, стр. 122: «Е[го] ц[арское] в[еличество] обещает /…/ наисильнейшим образом, что он в домашние дела королевства Свейского /…/ мешаться, никому /…/ вспомогать не будет, но /…/ все[му], что против того [порядка] /…/ будет [задумано] и е[го] ц[арскому] в[еличеству] известно [станет] /…/, всяким образом мешать и предупреждать /…/».]. Так, например, без одобрения риксдага, то есть парламента он не мог издавать законы, утверждать налоги, назначать людей на государственные посты и – самое главное – объявлять войну[115 - А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 14.]. Нашей стране это было очень на руку: оказывая давление, а иногда и прямо подкупая соответствующих политиков, она сохраняла в Швеции слабую королевскую власть, а значит могла быть более или менее спокойной по поводу того, что побеждённая соперница не осмелится на реванш. Так продолжалось почти пятьдесят лет. (Интересно, знают ли сегодняшние шведы, что в течение полувека их страна была самой настоящей российской марионеткой?)
Но вот в феврале 1771 года умирает шведский король Адольф Фредрик, и на престол этой страны вступает его сын Густав III – кстати говоря, двоюродный брат правящей в России в то время императрицы Екатерины Второй[116 - См. Википедию, статью «Густав III».]. Не проходит и полутора лет, как в августе 1772 года он осуществляет государственный переворот и возвращает себе почти все королевские права, утраченные его предшественниками в последние годы Северной войны. А заодно фактически наносит смертельный удар по седьмой статье Ништадского договора…
Екатерина II, к слову сказать, относится к своему кузену неоднозначно. Она насмешливо величает его «толстым Гу»[117 - Цит. по: К. Валишевский «Роман императрицы. Екатерина II; Вокруг трона; Сын Великой Екатерины. Павел I; Полное издание в одном томе», М., издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2014, стр. 668.] (король был склонен к полноте), а учинённый им переворот и вовсе вызывает её нескрываемое раздражение. Правда, когда Густав приезжает в 1777 году в Санкт-Петербург, между ними возникает было некоторая симпатия. Он просит Екатерину разрешения именовать её сестрой, она присваивает ему звание члена Императорской Академии. Вернувшись в Стокгольм, шведский король, пристрастившийся к русскому квасу да щам, обращается к «сестре» с просьбой прислать ему повара, умеющего их готовить, но Екатерина, выполнив его пожелание, так и не может простить своему «брату» государственного переворота и, более того, всячески ищет пути для того, чтобы вернуть Швецию к прежней форме правления.
Они встречаются ещё раз в 1783 году в финском Фридрихсгаме (ныне – город Ха?мина, на южном, балтийском берегу Финляндии, недалеко от российско-финской границы[118 - См. Википедию, статью «Хамина».]). Здесь Густав предстаёт перед Екатериной со сломанной рукой: накануне во время парада он упал с лошади. «Можно ли кувыркаться перед войском!»[119 - Цит. по: К. Валишевский «Роман императрицы. Екатерина II; Вокруг трона; Сын Великой Екатерины. Павел I; Полное издание в одном томе», М., издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2014, стр. 672.] – язвительно бросает она (так, чтобы он не слышал). С обеих сторон эта встреча оказывается, так сказать, с двойным дном: король стремится выведать отношение императрицы к завоеванию Норвегии, которую он планирует отобрать у своей соседки Дании, а также её планы по поводу очередной русско-турецкой войны (она начнётся через четыре года и станет для него главной предпосылкой для развязывания русско-шведского военного конфликта), а та, как раз на случай такого разрыва с Оттоманской империей, пытается заручиться его поддержкой. В общем, за ширмой любезности оба относятся друг к другу с недоверием, и уже через год Екатерина «шутливо» пишет своему кузену: «Говорят, что вы намерены напасть на Финляндию и идти прямо к Петербургу, по всей вероятности, чтобы здесь поужинать. Я, впрочем, не обращаю внимания на эту болтовню /…/»[120 - Цит. по: А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 26.]. Трудно сказать, лукавила в тот момент русская императрица или нет (она вообще была неподражаемой притворщицей и актрисой), но весной 1788 года из Копенгагена приходят уже совершенно однозначные сведения: Густав готовится к нападению[121 - Op. cit., стр. 23.].
Король Швеции Густав III (1746–1792)
Следует подчеркнуть, что агрессором он выступать не хотел. Во-первых, помимо чисто моральных соображений, по законам Швеции объявлять войну без согласия парламента он по-прежнему права не имел[122 - Op. cit., стр. 75.], а, во-вторых, в этом случае король мог остаться без той поддержки со стороны ведущих стран Европы, которая для успеха ему была просто необходима. Что касается турок, то свобода рук ему была гарантирована: ещё с 1739 года у Швеции существовал с Оттоманской империей так называемый «оборонительный союз», по которому в случае нападения России на любое из этих государств, другая сторона должна была оказать союзнице соответствующую помощь. Правда, во время первой русско-турецкой войны (1768–1774 гг.) шведы и пальцем не пошевелили, чтобы помочь своему южному партнёру, но теперь Густав мог о своих обязательствах и припомнить: ему это было как нельзя кстати. Также благоприятно были настроены по отношению к Швеции Пруссия, Голландия и особенно Великобритания, которая активно содействовала оформлению этими странами в августе 1788 года так называемого Тройственного альянса (Triple Alliance), прямо направленного под лозунгом «сохранения баланса сил в Европе» против Франции, России и Австрии[123 - См. Википедию, статью «Triple Alliance (1788)» (на английском языке).]. Так вот что касается нашей страны, англичане как раз опасались того, что она в союзе с австрийцами разгромит в начавшейся войне явно более слабую Оттоманскую империю, окончательно закрепит за собой присоединённый в 1783 году Крым и вследствие этого заметно усилится (как в воду, кстати, глядели!). Поэтому они с одобрением смотрели на планы Густава, подталкивали его к войне, намекали на разностороннюю поддержку (в том числе и военную), но вместе с тем также предпочитали, чтобы формально развязала конфликт Россия[124 - А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 18.]. Французский посол в России граф Луи-Филипп де Сегюр[125 - См. Википедию, статью «Сегюр, Луи-Филипп».] писал: «Шведский посланник в Петербурге, барон Нолькен, оставался в дружбе со мною, но был откровенен только с англичанами и пруссаками»[126 - Цит. по: А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 19.]. Самой же Франции, уже бурлящей в преддверии своей знаменитой революции 1789 года, инициированный шведами конфликт не улыбался вообще, и в июне 1788 года король Людовик XVI поручил своему послу в Стокгольме маркизу де Понсу передать шведскому королю, что в этом случае тот лишится права считаться другом Франции[127 - Op. cit., стр. 17.]. Похожей позиции придерживалась и могущественная тогда Дания: она без обиняков заявила Густаву, что если он нападёт на Россию, то Копенгаген окажет Санкт-Петербургу прямое военное содействие (но вот если Россия нападёт на Швецию, то Дания будет соблюдать нейтралитет)[128 - Op. cit., стр. 19.].
И вот, взвесив все «за» и «против», Густав III решает действовать. В мае 1788 года с его подачи распространяется слух о том, что русская военная эскадра снялась с якоря с намерением атаковать главную военно-морскую базу Швеции – город Карлскруну (наш флот действительно вышел в море и двинулся на запад, только держал он курс на Средиземное море, в район боевых действий в ходе начавшейся войны с турками). 9 июня (по новому стилю) выходит в море и шведский флот, причём даже капитаны кораблей о цели предстоящей экспедиции не знают: им вручаются запечатанные пакеты, которые подлежат вскрытию лишь в случае отделения находящихся под их командованием судов от основных сил[129 - Op. cit., стр. 33.]. Командует флотом младший брат короля – герцог Сёдерманландский Карл.
Екатерина II, которой война со шведами совершенно некстати, велит предпринять ряд действий по укреплению русских границ и крепостей, но всё же пытается конфликта избежать и приказывает русскому послу графу Андрею Кирилловичу Разумовскому[130 - См. Википедию, статью «Разумовский, Андрей Кириллович».] сформулировать в адрес короля записку с изложением своей позиции, что тот и делает. Прочитав её, Густав приходит в ярость. Дело в том, что, в соответствии с указанием императрицы, документ этот адресуется не только ему, но и «всем тем, кто в сей нации некоторое участие в правлении имеют»[131 - Цит. по: А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 41.]. То есть Екатерина устами своего посла по-прежнему фактически ссылается на седьмую статью Ништадского договора, а Густав именно затем и совершил государственный переворот, чтобы ни с кем в своём государстве не советоваться! И вообще он Разумовского уже давно терпеть не может и велит ему в течение недели возвратиться в Россию. При этом, однако, 23 июня (по новому стилю) он лицемерно заявляет, что «не может думать, чтобы такое объявление [имеется в виду вышеуказанное обращение ко «всем тем, /…/»] было предписано графу Разумовскому русским двором /…/»[132 - Цит. по: op. cit., стр. 43.]. В тот же день король покидает Стокгольм, направляясь в Финляндию[133 - Op. cit., стр. 72.]. Дипломатический разрыв становится свершившимся фактом. Но до объявления войны дело пока ещё не доходит.
И вот в ночь на 28 июня 1788 года (по новому стилю) на территории шведской Финляндии, близ русской границы, происходит странный и, в общем-то, ничтожный инцидент. Недалеко от местечка Пуумала[134 - См. Википедию, статью «Пуумала».] (примерно в 230 километрах к северо-востоку от Хельсинки) с противоположной, «русской», стороны пролива с совершенно ужасающим для нашего (да и шведского) уха названием Вуолтеенса?лми, через который перекинут мост, слышится ржание коней, голоса людей, какое-то шевеление и несколько ружейных выстрелов. Шведский пикет, охраняющий мост, отплывает на лодке в направлении шума, ничего не обнаруживает, но на всякий случай тоже делает в темноту несколько выстрелов. Вскоре к шведскому лейтенанту – командиру пикета прибывает его непосредственный начальник майор Георг Хенрик Егерхорн (J?gerhorn) и сообщает, что русские пришли в движение. Почти сразу к лейтенанту пробирается с русской стороны пролива некий крестьянин и подтверждает эту информацию. В Хельсинки тут же летит рапорт о «русской провокации», масштабы которой сильно раздуваются[135 - Подробности этого эпизода см. в Альманахе североевропейских и балтийских исследований, выпуск 1, Петрозаводск, издательство ПетрГУ, 2016, статью Юсси Т. Лаппалайнена «Война Густава III, 1788–1790», стр. 41.]. Бумага быстро доходит до короля, и тот, ссылаясь на данный инцидент, предъявляет 6 июля (по новому стилю)[136 - А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 48.] России ультиматум: или возвращение Швеции практически всех территорий, завоёванных Петром Великим, или война. (Были в нём, естественно, ещё требования, например, о наказании посла Разумовского.)
Шведские, финские, да и наши историки посвятили разбору этого странного эпизода немало подробных исследований. В целом все согласны в том, что ни одного русского никто в ту ночь и в глаза не видывал и что начальник майора Егерхорна полковник Берндт Юхан Хастфер организовал весь этот спектакль по приказу Густава III, которому попросту нужен был предлог для развязывания войны[137 - См. Альманах североевропейских и балтийских исследований, выпуск 1, Петрозаводск, издательство ПетрГУ, 2016, статью Юсси Т. Лаппалайнена «Война Густава III, 1788–1790», примечание № 31 на стр. 41.]. Кстати, по официальной версии Екатерины Второй, шведы переодели в форму русских казаков 24 человека и направили их в шведскую же Карелию, где те сожгли одну деревню, принадлежащую некоей вдове[138 - А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 67.]. Занятно, что в ходе этого «нападения» никто даже не был ранен. Русская императрица называет это «отчаянным подлогом»[139 - Цит. по: op. cit., стр. 66.]. Да-а-а, в истории Швеции таких притянутых за уши провокаций, пожалуй, больше и не сыщешь.
И ведь самое главное, что никто из европейских правителей в этот цирк не поверил. Дания, для которой шведские военные приготовления (в том числе и против неё) секретом давно не являлись, восприняла «историю с переодеванием» и открытие военных действий Густавом III с «немалым удивлением»[140 - Цит. по: op. cit., стр. 135.], и 13 сентября (по новому стилю) датский флот поднимает русский флаг, а её армия переходит шведскую границу[141 - Op. cit., стр. 141.]. Аналогичная реакция – правда, естественно, без решения вступить в войну – была у Пруссии. Английский посланник в Берлине Джозеф Эварт[142 - См. Википедию, статью «Joseph Ewart» (на английском языке).] сообщал в Ло?ндон: «Король прусский /…/ здесь весьма расстроен неблагонадёжным и несправедливым поведением шведского короля /…/»[143 - Цит. по: А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 138.]. Даже Великобритания – давняя соперница России решила в русско-шведский конфликт не ввязываться, выступила было вместе с Пруссией с инициативой сыграть роль посредника между Густавом и Екатериной[144 - Op. cit., стр. 139.], по, получив от неё отказ, успокоилась. Впоследствии обе эти страны ограничивались главным образом лишь тем, что оказывали давление на Данию с тем, чтобы она не слишком уж воевала со Швецией и не «активничала» в помощи России, да давали Густаву деньги.
А шведский король приступает между тем к решительным действиям. Цели он перед собой ставит самые грандиозные: русский флот должен быть разгромлен либо в море, либо в портах базирования, после чего 15-тысячной армии во главе с самим Густавом III следует высадиться в Ораниенбауме, примерно в 50 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга, разгромить немногочисленные и (как он полагал) плохо подготовленные русские войска, сжечь Кронштадт, выйти к столице Российской империи с юга, начать её обстрел, захватить её и принудить Екатерину II к миру на шведских условиях[145 - Альманах североевропейских и балтийских исследований, выпуск 1, Петрозаводск, издательство ПетрГУ, 2016, статья Юсси Т. Лаппалайнена «Война Густава III, 1788–1790», стр. 36; А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 129.]. А ещё он, по его собственным словам, из всех петербургских памятников собирался сохранить лишь монумент Петру Великому (Медного всадника), «чтобы выставить и увековечить на нём имя Густава III»[146 - Цит. по: А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 71.]. Ни много ни мало!
Однако вот что пишет о нём русский историк немецкого происхождения Александр Густавович Брикнер, которого я так часто цитирую: «Сам король – в этом соглашаются его сторонники с его антагонистами – не отличался способностями в военном деле, и как дилетант в области тактики, желая иногда действовать самостоятельно и решать запутанные вопросы стратегии, часто портил дело и дорого платил за свои ошибки»[147 - Цит. по: op. cit., стр. 114.]. К тому же шведы не позаботились о должном тыловом обеспечении своей армии в суровой и бедной финской местности, и ей скоро стало не хватать амуниции, продовольствия, тёплой одежды, а также корма для лошадей, в тощей государственной казне денег было лишь не более чем на год военных действий, российский флот оказался совершенно не таким слабым, как считалось, среди шведских офицеров было полно откровенных русских шпионов, которые сдавали нам чуть ли не все планы своего собственного короля, а вскоре среди них и вовсе вспыхнул мятеж – прямо в Финляндии: недовольство войной было велико. В общем, Густав III достаточно быстро увязает среди финских озёр да болот, вместо форсированного марша на Санкт-Петербург принимается осаждать русские приграничные крепости, и война теряет свою динамику.
Для Екатерины всё это оказывается просто даром божьим. Ведь свои основные силы она двинула против турок, в том числе и значительную часть Балтийского флота. Вот как оценивал состояние русской обороны в Прибалтике бывший новгородский губернатор граф Яков Сиверс в конфиденциальном письме своей повелительнице-императрице, направленном ей буквально одновременно с предъявлением шведского ультиматума: «Ваша особа, ваша столица, ваша империя находятся в величайшей опасности /…/. Ваше Величество, вы, как я полагаю, имеете войска лишь для обороны: они уменьшены ещё гарнизонами в Выборге, Фридрихсгаме и Кексгольме. /…/ гарнизоны их никуда не годятся. /…/ флот Вашего Величества займёт крепкое положение для прикрытия Кронштадта и Невы. Балтийское море останется поэтому открытым, доступным неприятелю. /…/ Везде можно сделать десант безо всякого сопротивления. [У нас] даже нет надлежащих сигнальных снарядов, чтобы дать знать заблаговременно о приближении неприятеля. Несколько тысяч человек будут [поэтому] в состоянии» угрожать «городам сожжением /…/. Гарнизонные войска состоят из инвалидов, которые тридцать лет /…/ не имели в руках оружия, и из которых лучшие умеют только косить сено. /…/ Для меня крайне прискорбно объявить Вашему Величеству, что в случае высадки семи или восьми тысяч человек шведов, они займут обе провинции [имеется в виду Эстляндия и Лифляндия, то есть примерно современные Эстония и Латвия] с их укреплёнными городами в продолжение трёх недель»[148 - Цит. по: op. cit., стр. 126.] и т. д. Ему вторит французский эмигрант на русской службе Александр-Луи Андро де Ланжерон, предпочитавший именоваться в России Александром Фёдоровичем: «Случайности этой войны и положение Петербурга были таковы, что шведский король мог явиться туда без большого риска /…/. Он мог быстро пройти те сорок вёрст[149 - Примерно 43 километра.], которые отделяли его от столицы; мог даже высадить свою пехоту /…/, потому что императрица выставила против него лишь половину того войска, которым он располагал, и если даже предположить, что ему не удалось бы перейти Неву, то он мог обстреливать дворец императрицы с противоположного берега»[150 - Цит. по: К. Валишевский «Роман императрицы. Екатерина II; Вокруг трона; Сын Великой Екатерины. Павел I; Полное издание в одном томе», М., издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2014, стр. 328.]. К этому следует добавить, что русский главнокомандующий «на шведском фронте» генерал-аншеф граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин[151 - См. Википедию, статью «Мусин-Пушкин, Валентин Платонович».] военными дарованиями не блистал, доверием императрицы не пользовался и позднее, в 1790 году был заменён на генерал-аншефа графа Ивана Петровича Салтыкова[152 - Альманах североевропейских и балтийских исследований, выпуск 1, Петрозаводск, издательство ПетрГУ, 2016, статья Юсси Т. Лаппалайнена «Война Густава III, 1788–1790», стр. 54; см. также Википедию, статью «Салтыков, Иван Петрович».]. Немудрено, что Екатерина в первые недели войны ложилась спать со своими драгоценностями в кармане, а в Царском Селе (по слухам) по её приказанию постоянно стояли наготове сто шестьдесят (по другим данным – 500[153 - А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 128.]) лошадей[154 - К. Валишевский «Роман императрицы. Екатерина II; Вокруг трона; Сын Великой Екатерины. Павел I; Полное издание в одном томе», М., издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2014, стр. 327.] на случай необходимости срочного переезда императорского двора в Москву. 20 июля она писала: «Петербург теперь имеет вид места сражения, да и я сама живу как будто в главной квартире [то есть в штабе при армии]»[155 - Цит. по: А.Г. Брикнер «Война России со Швецией в 1788–1790 годах», М., издательство «ЛЕНАНД», 2016, стр. 129.]. Впрочем, сдаваться она не собиралась, о чём свидетельствуют следующие её слова (сказанные, правда, уже после войны): «Отступив от Петербурга, я дала бы битву близ Новгорода, затем близ Москвы, затем у Казани, затем у Астрахани, а затем мы бы ещё увидели. Думаете ли вы, что король мог бы следовать за мною туда?»[156 - Цит. по: op. cit., стр. 133–134.]
Но постепенно война начинает носить позиционный характер, угроза Санкт-Петербургу практически сходит на нет, военные действия ведутся с переменным успехом, и всё идёт к развязке, которой волею Судьбы и станет Второе Роченсальмское сражение. Но сначала было Первое.
В этих обеих морских баталиях русским флотом командовал уже упомянутый мною принц Шарль Анри или Карл Генрих (как, на немецкий манер, его предпочитали звать в России) Нассау-Зиген. Познакомимся же с ним поближе.
Будущий адмирал русского флота принадлежал, как считалось, к одному из старейших, знатнейших и влиятельнейших родов Европы – княжеского дома Священной Римской империи, который назывался Нассау и вёл своё начало аж с XII века. Один представитель этого рода, между прочим, является сегодня королём Голландии (хоть и называется принцем), а второй – главой маленького европейского государства с гордым названием Великое Герцогство Люксембург[157 - См. Википедию, статьи «Виллем-Александр» и «Анри (великий герцог Люксембурга)».].
Я не случайно употребил в отношении нашего героя выражение «как считалось». Дело в том, что его прадед был двадцать третьим (!) ребёнком знатного правителя двух герцогств (Лимбург и Верхний Гельдерн)[158 - См. Википедию, статью «Иоганн Франц Дезитератус (князь Нассау-Зигена)»], которые сегодня в основном находятся на территории Голландии. Мальчик, которого назвали Иммануил Игнатий, родился от третьего брака, и его папа, обладавший к тому моменту уже страшным количеством наследников, записал в соответствующий брачный контракт, что все дети, которые родит ему третья жена, ни его фамилию, ни титула принцев носить не будут (и правильно сделал: она родила ему десятерых). Так Иммануил Игнатий стал бароном де Рено.
Однако после смерти отца одиннадцатилетний барон самовольно присваивает себе имя – а заодно и герб – знатного рода и, несмотря на возражения своих многочисленных сводных братьев, начинает величать себя Нассау-Зигеном. В 1711 году, в возрасте 23 лет, он женится. Брак, однако, оказывается непрочным, жена ему изменяет, и всё заканчивается заключением её под арест в монастырь (за супружескую неверность), а потом, в 1716 году, и разводом. Но через шесть лет супруги сходятся вновь, и в октябре того же года на свет появляется мальчик, которого назвали Максимиллианом Вильямом Адольфом. Отец поначалу признаёт его своим сыном, но незадолго до своей смерти объявляет, что жена ему этого ребёнка нагуляла. А через одиннадцать лет, после длительных судебных разбирательств, император Священной Римской империи (в чью компетенцию входили такие вопросы) окончательно признаёт Максимиллиана Вильяма Адольфа незаконнорожденным[159 - См. Википедию, статью «Emmanuel Ignatius of Nassau-Siegen» (на английском языке).]. К тому времени у него уже был двухлетний сын – герой моего рассказа.
Так что, как видите, никаким принцем будущий русский адмирал не был, да и фамилию Нассау-Зигенов носил, скажем так, не совсем законно (это право было признано за ним лишь во Франции[160 - См. Википедию, статью «Нассау-Зиген, Карл Генрих».]) – что, правда, совершенно не мешало ему всю жизнь страшно гордиться и кичиться своим высоким происхождением.
По своему образу жизни Шарль Анри был типичным искателем приключений. Он родился в Париже, в 15 лет поступил добровольцем во французскую армию, участвовал в Семилетней войне (1756–1763), дослужился до капитана. В 1766 году он бросает военную службу и отбывает в кругосветное плавание под командованием знаменитого французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля (поговаривали, что таким образом отставной капитан, живший на широкую ногу, решил улизнуть от своих кредиторов). В ходе этой экспедиции он зарекомендовывает себя как отважный и неутомимый человек, любящий морскую службу и обладающий к тому же дипломатическими способностями (а на островах Таити успевает даже соблазнить жену местного вождя). По возвращении во Францию он устремляется в очередное путешествие, на этот раз в Центральную Африку, причём вкладывает в неё немалые собственные средства[161 - А.В. Шишов «Знаменитые иностранцы на службе России», М., издательство «Центрполиграф», 2001, стр. 484.]. А потом решает продолжить военную карьеру, воюет сначала вновь во французской армии, затем переходит в испанскую, храбро сражается при штурме английской крепости Гибралтар, чудом остаётся в живых после взрыва пороха на корабле, на котором он находился, и в награду за свои заслуги получает от испанского короля титул гранда первого класса (что, помимо прочего, даёт ему право говорить с королём, не снимая головного убора), а также генеральский чин и товаров на три миллиона реалов[162 - См. Википедию, статью «Нассау-Зиген, Карл Генрих».] (все вырученные за них деньги идут в уплату его долгов[163 - К. Валишевский «Роман императрицы. Екатерина II; Вокруг трона; Сын Великой Екатерины. Павел I; Полное издание в одном томе», М., издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2014, стр. 521.] – Шарль Анри был в этом деле большой мастак). Где-то в это время за ним закрепляется прозвище «анвалнера?бль» (invulnеrable), то есть неуязвимый, которое полностью оправдает себя: за всю свою полную приключений и сражений жизнь он ни разу не был даже ранен.
В 1779 году Шарль Анри женится и становится по-настоящему богатым человеком. Его жена, польская княгиня Каролина Сангу?шко – обладательница обширных владений, женщина красивая и умная – знакомит его с польским королём Стани?славом А?вгустом Понятовским, который присутствует на их свадьбе. Этот брак оказывается удачным, супруги любят друг друга, жена чрезвычайно гордится своим мужем, а он в периоды отъездов пишет ей длинные нежные письма. Интересно, что эта пара была хорошо знакома со знаменитым французским драматургом Пьером-Огюстеном Кароном де Бомарше (который, кстати, не только сочинял пьесы, но и занимался контрабандными поставками в Северную Америку французского оружия, делая это с ведома своего правительства[164 - См. Википедию, статью «Бомарше, Пьер Огюстен Карон де».]). Так вот Каролина, несмотря на своё богатство, часто занимала у Бомарше деньги, причём в своих письмах писала его фамилию неправильно: Бонмарше (Bonmarchе, что по-французски означает «дешёвка»). Но тот на неё не обижался, деньги – и немалые – регулярно давал и даже шутливо предостерегал её мужа, когда тот отправился в испанскую армию на войну: «Только смотрите, чтобы Вас не убили!»[165 - Цит. по: Википедия, статья «Нассау-Зиген, Карл Генрих».].
Принц Шарль Анри Николя Отон де (Карл Генрих Николай Отто фон) Нассау-Зиген (1743–1808)
Расходы Шарля Анри продолжают расти, он всё больше влезает в долги и в один прекрасный день вновь решает укрыться от кредиторов, на этот раз на родине жены, в Польше, где Станислав Август предоставляет ему польское дворянство и подданство. Здесь его траты принимают уже форму совершеннейших причуд. Так, выехав как-то ненадолго в Вену, он велит привезти себе туда из Варшавы любимую лошадь в повозке, чтобы не устала[166 - К. Валишевский «Роман императрицы. Екатерина II; Вокруг трона; Сын Великой Екатерины. Павел I; Полное издание в одном томе», М., издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2014, стр. 521.]! Можно представить себе, сколько это стоило…
В Польше он решает заняться развитием торговли с Оттоманской империей, направляется в Стамбул и по пути составляет самую подробную на то время карту русла Днестра. Вскоре он знакомится в Крыму с всесильным любимцем Екатерины Великой Григорием Потёмкиным, производит на него самое благоприятное впечатление (надо думать, карта тому здорово способствовала, ведь это как раз был театр военных действий против турок) и через некоторое время получает приглашение поступить на русскую службу контр-адмиралом. Ему поручают командование Днепровской гребной флотилией, и вскоре, 17–18 июня 1788 года он наголову разбивает в Днепровско-Бугском лимане турецкий парусно-гребной флот. Занятно, что, пытаясь отговорить Нассау-Зигена от атаки, английский капитан на русской службе Джон Пол Джонс (герой войны за независимость США) говорит ему, что нельзя давать морского сражения с судами, неспособными держаться на воде[167 - Op. cit., стр. 522.]. Но тот его не слушает и в результате получает звание вице-адмирала и орден Святого Георгия сразу 2-й степени[168 - А.В. Шишов «Знаменитые иностранцы на службе России», М., издательство «Центрполиграф», 2001, стр. 488–489.]. Наши матросы, кстати говоря, в шутку называли своего отчаянно храброго командира «пирог с грибами»[169 - См. Википедию, статью «Нассау-Зиген, Карл Генрих».], поскольку тот по-русски знал только два слова-команды: «Вперёд!» и «Греби!», причём произносил их как «Фпирот!» и «Гриби!».