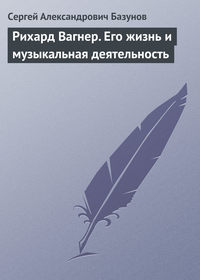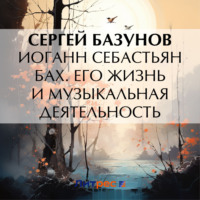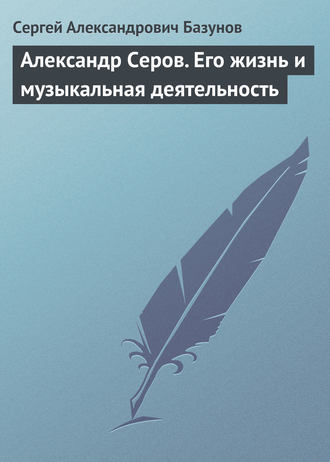
Александр Серов. Его жизнь и музыкальная деятельность
Серов мог радоваться и носить голову высоко. С появлением на сцене оперы «Юдифь» он сразу был признан выдающимся композитором, как прежде был признан выдающимся музыкальным критиком. Правда, как в литературной сфере, несмотря на успех, Серов не избег ни вражды, ни зависти, ни мелочных придирок, так и в области музыкального творчества он встретил тотчас же принципиальных противников и всякого рода недоброжелательство. Но что ему было за дело до всего этого! Он видел осуществление своих заветных стремлений, он видел успех, – не только свой личный успех, но торжество идей, которых был представителем, и, не теряя напрасно времени, почти тотчас же после постановки первой оперы на сцене принялся за новую капитальную работу. Новое произведение, за которое он взялся, было «Рогнеда». Чтобы судить о том, как быстро была начата и написана эта, как и «Юдифь», пятиактная опера, достаточно сопоставить числа первых представлений обоих произведений. «Юдифь» была дана в первый раз 16 мая 1863 года, а 27 октября 1865 года та же сцена Мариинского театра уже увидела «Рогнеду». Быстрота для большой пятиактной оперы, какова «Рогнеда», поистине изумительная!
Содержание второго крупного произведения Серова, оперы «Рогнеда», мы предполагаем так же известным читателю, как и содержание первой оперы. Избрав для первого своего произведения сюжет из жизни чуждой, Серов возымел счастливую мысль взять темою второй оперы более близкое нашему чувству древнерусское сказание. Уже сама фабула сказания о Рогнеде драматична в высшей степени, а потому один выбор сюжета мог обещать как успешность драматической его обработки, так, затем, и успех музыки, долженствовавшей иллюстрировать собою перипетии такой драмы. Как прежде – текст для «Юдифи», так и теперь Серов сам написал либретто новой оперы, если только можно назвать словом «либретто» это произведение, по достоинствам своим равное очень хорошему драматическому сочинению. Но, составив текст, Серов принужден был работу над стихотворной формой передать в более опытные руки, и стихи были написаны Д. В. Аверкиевым.
Успехом своим новая опера, подобно опере «Юдифь», была обязана тексту почти столько же, сколько музыке. Воображение зрителя поражала прежде всего эта седая, эпическая и все-таки нам как бы родная старина, весь тон и колорит эпической картины, на фоне которой выступают такие ярко очерченные персонажи, как героическая Рогнеда, сильный, но вместе с тем наивный Владимир и проч. Мы не говорим о подвижности действия, драматическом движении, которое всегда сильно возбуждает внимание зрителя и здесь давало такой богатый материал для музыкальной интерпретации. Что же касается самой музыки, то первое замечание, которое мог сделать всякий слушатель, было то, что со времени оперы «Юдифь» автор значительно подвинулся вперед, по крайней мере с технической стороны. Если там отчасти замечались недостатки голосовой техники, то здесь именно хоры поражали своим совершенством и разнообразием. Исполненный эпической энергии хор язычников эффектно сменяется хором странников, христианский колорит которого вырисовывается тем отчетливее; вообще драматический антитезис отживающего язычества и нарождающегося христианства, составляющий высшую основу этой драмы, музыкально обрисован как нельзя более удачно… Кроме того, ценители тогда же отметили в новой опере «блестящие этнографические подробности, обрамляющие главное действие», причем речь шла, конечно, об известной «пляске скоморохов», «пляске женщин» и проч. Нужно вообще заметить, что вся эта опера, удачная в целом, богата отдельными местами, о которых можно было бы говорить долго и много…
Окончив вторую оперу, композитор возвратился на некоторое время к своей музыкально-критической деятельности, задумав основать собственную музыкально-театральную газету. Обстоятельства настоятельно того требовали, и, таким образом, в композиторской деятельности Серова против его воли наступил некоторый перерыв. Но об обстоятельствах, вызвавших появление собственного печатного органа Серова, так же как и о целях, стоявших перед новым органом, мы поговорим в следующей главе в связи с событиями последних лет жизни композитора. Теперь же перейдем к последнему из трех крупных произведений его, опере «Вражья сила».
«Десять лет назад я писал о Вагнере много. Теперь надо действовать иначе, – приложением Вагнеровых идей к драме музыкальной на Руси, с почвенными сюжетами». Так писал Серов 13 октября 1868 года С. А. Юрьеву, имея в виду новое оперное произведение и уже наметив для него один из «почвенных» сюжетов. Сюжету этому, заимствованному им из пьесы Островского «Не так живи, как хочется», предстояло превратиться в обработке Серова в оперу «Вражья сила». Но переработка текста в желаемом Серовым направлении представляла такие трудности, что композитор долго не решался приняться за дело сам и, первоначально отнесясь к самому Островскому, затем последовательно обращался за содействием ко многим из наших литературных деятелей. Однако его не мог удовлетворить никто: в самом деле, переделывать произведение такого мастера, как Островский, представлялось делом трудным и весьма рискованным. И через год напрасных и безуспешных хлопот бедный композитор, хорошо понимавший, что в его годы всякое промедление, всякая отсрочка в творческой деятельности особенно прискорбны и вдвойне невознаградимы, с грустью писал: «Застряла моя „Вражья сила“! Злой рок тяготеет над нею, бедной! С прошлой весны текст оперы, как вам известно, не подвинулся ни на волос, – значит, целый год потерян для творчества, а это в наши годы не безделица!» В конце концов в деле написания текста будущей оперы Серов был предоставлен собственным силам, и в заглавии, под которым опера появилась в свет, мы читаем только: «Либретто заимствовано из драмы Островского», без всякого указания на чье бы то ни было сотрудничество.
Не касаясь более текста оперы, мы только считаем нужным отметить тонкое чутье, которое руководило композитором при избрании основою своего произведения великолепной драмы Островского, и затем то же художественное чутье, которое проявил он при переработке произведения Островского. При сравнении обоих текстов любопытно проследить, как умел Серов воспользоваться всеми художественно-драматическими достоинствами драмы Островского и в то же время, как истинный музыкант, избежать всего того, что в музыкальном отношении было неудобно. Что касается пригодности избранного текста для музыкальной обработки, то об этом, разумеется, нечего и говорить. Что может быть благодарнее для музыкального воспроизведения, чем эта национальная картина широкого масленичного разгула, в широких рамках которой совершаются столкновения типических действующих лиц драмы?
Что касается музыки последней из опер Серова, то, являясь, с одной стороны, наиболее значительным образцом «музыкальной драмы», которую проповедовал Серов, противопоставляя ее ходячей опере со всеми ее аксессуарами, с другой стороны, эта же опера служит ярким образчиком того, что принято называть «национальным стилем». В самом деле, в горевании Даши, например, мы слышим прямо русское горе, со стонами, причитаньями и т. п.; в речитативах слушатель находит опять такую оригинальную, чисто русскую форму, какой никогда не найти в операх иностранного репертуара, и проч. Другою особенностью оперы являются те ее элементы, в которых неожиданно проявилась сила комического таланта автора. Эта комическая струнка звучит очень осязательно, например, в масленичных сценах, в хоре, плясках и так далее. Наконец, оркестровка оперы вообще доведена до поразительной степени совершенства… Словом, музыкальная часть оперы производит вполне чарующее впечатление, и в общем это последнее произведение безвременно угасшего художника невольно заставляет задуматься, зачем судьба так рано похищает лучших деятелей искусства?.. Последняя работа Серова свидетельствует о новом шаге вперед, который совершился в художественном развитии нашего композитора; и если бы ему суждено было жить долее, то неизвестно, до каких высоких степеней могло бы дойти развитие этого сильного дарования, какие «новые слова» сказал бы он нам в области искусства… Наконец, даже и то, что он успел оставить после себя, – вполне ли разработано критикою, исчерпано ли нашим пониманием?
«Но никто, – говорит в своих воспоминаниях г-н Веселовский, – никто не мог бы понять всего значения новой оперы („Вражья сила“), не слышав лучших мест ее, исполненных самим автором. У него был не большой голос, но когда, сидя за фортепиано в кружке друзей, искренно ему сочувствующих, Серов пел отрывки из „Вражьей силы“, из-за звуков, издаваемых клавишами, из-за вибраций голоса живописались с потрясающей правдивостью все изменения и тревоги страстей, все лица драмы вставали как будто живые, и слушатели, очарованные и восхищенные, всею душой проникались заветными думами автора…» «Никакие талантливейшие исполнители, – прибавляет автор цитаты, – не передадут любимой автором „Вражьей силы“ в том виде, в каком он задумал ее…»
Вся опера была уже написана, но оркестровка еще не совсем доведена до конца, как вдруг смерть внезапно прекратила вдохновенную работу художника. Тогда, по желанию супруги покойного, В. С. Серовой, окончание оркестровки взял на себя профессор С. – Петербургской консерватории и талантливый оперный композитор Н. Ф. Соловьев. Ему принадлежит, таким образом, оркестровка пятого акта и некоторых отдельных мест оперы. В этом виде вскоре после смерти автора опера появилась на сцене и, подобно обоим предыдущим произведениям Серова, имела огромный успех. Первое представление ее дано было 19 апреля 1871 года.
Глава VIII. Последние годы жизни
Основание газеты «Музыка и театр». – Новые литературные противники Серова и его борьба с ними. – Постановка на сцене оперы «Лоэнгрин». – Поездка в Москву, концерт и лекции Серова. – Музыкальные проекты. – Упадок сил. – Поездка за границу. – Смерть. – Посмертные овации. – Последние часы жизни Серова.
В предыдущей главе мы упомянули о том, что по окончании оперы «Рогнеда» Серов на время прервал свою композиторскую деятельность и возвратился к деятельности музыкального критика. Но орган, в котором он столько лет сотрудничал («Музыкально-театральный вестник»), давно уже окончил свое существование, а потому Серов решил, заменяя его, основать собственную газету «Музыка и театр», в которой бы мог, самостоятельно и никем не стесняемый, проводить по-прежнему свои критические воззрения. К этому побуждала его прежде всего, конечно, законная потребность мыслящего человека делиться своими идеями с публикою; но другою причиною было то, что в нем проснулась так или иначе всегда присущая ему полемическая жилка, да кроме того нужно сказать, что и ряды врагов его к тому времени значительно сгустились. На смену старым противникам успели выступить многие новые. Г-жа Серова (в статье, помещенной в «Северном вестнике», 1885 год, № 4) разделяет, например, музыкальные партии, боровшиеся между собою в шестидесятых годах, таким образом: 1) партия консерватории, 2) партия так называемой «Могучей кучки» музыкантов и 3) А. Н. Серов. Из одного этого разделения можно достаточно ясно видеть, что бороться и полемизировать Серову было с кем. И в самом деле, бороться приходилось с самыми разнообразными обвинениями, сыпавшимися на композитора из разных музыкальных лагерей. То его упрекали в том, что он отрицает всякий талант у Мейербера, то в том, что он Верстовского ставит выше Глинки; самым же капитальным обвинением было и оставалось следующее: будто Серов умаляет значение Глинки, желая возвыситься за его счет. На такие обвинения приходилось, разумеется, отвечать.
Надо сказать, что во всех подобных обвинениях была кажущаяся частица правды. Разбирая, например, Мейербера, Серов не мог, конечно, закрывать глаза на присущие ему крупные недостатки. Точно так же, говоря об опере «Руслан и Людмила» Глинки, он всегда находил значительные музыкально-драматические погрешности в этой опере, касался не особенно удачного выбора сюжета и т. п. Восторгаясь в полном смысле этого слова музыкою той же оперы «Руслан и Людмила», но оставаясь беспристрастным, он не находил нужным замалчивать то, что считал ошибкою, недостатком и проч. Мало того, эти самые замечания он делал в свое время Глинке лично. И замечательно, что великий автор оперы «Руслан и Людмила» принимал их без всякого раздражения. Но господа «русланисты», как удачно прозвал Серов не в меру усердных защитников «Руслана», были plus royalistes que le roi[15] и не хотели ничего слышать о беспристрастии и праве критики. Тогда Серов принужден был выступить с целым рядом статей, озаглавленных «Руслан и русланисты», в которых самым обстоятельным образом выяснялся истинный взгляд Серова на Глинку и его оперу. Надо сказать, что постоянная полемическая борьба, полемические дрязги, которые со стороны противников Серова велись нередко на очевидной подкладке партийных, а частенько и просто личных антипатий, чрезвычайно утомляли композитора и значительно отравляли последние годы его жизни…
Некоторый нравственный отдых выпал на его долю в 1868 году, когда по поручению Р. Вагнера ему пришлось заведовать постановкою на сцене Мариинского театра оперы Вагнера «Лоэнгрин»; хотя противники Серова не замедлили выступить и против Вагнера, Серов отнесся к их выходкам довольно спокойно. Близкое общение с произведением любимого композитора, заботы о его успехе делали его как бы нечувствительным к этим новым нападениям. Когда же поручение Вагнера было исполнено, он почувствовал прилив нового творческого вдохновения и энергично принялся за свою оперу «Вражья сила», которую незадолго перед тем начал.
Весною 1868 года Серов посетил Москву, где дал концерт, на котором были исполнены некоторые отрывки из подготовляемой им оперы «Вражья сила», и тогда же отрывки эти произвели должное впечатление. В Москве Серов прочел также свои известные три лекции, предметом которых были великорусская песня, реформа Р. Вагнера и Девятая симфония Бетховена. Эти лекции оказались столь блестящими и обнаруживали в лекторе такую громадную эрудицию по разбираемым им вопросам, что их пришлось тогда же напечатать: они появились в газете «Москва» за 1868 год, № 19 и 20, и в «Современной летописи» того же года, № 16. Надо сказать, что особенности музыкального склада великорусской песни, взятые темою одной из упомянутых лекций, в то время вообще интересовали Серова. Он пристально изучал этот предмет и в 1870 году опять возвратился к тому же вопросу, напечатав замечательную статью под заглавием «Русская песня как предмет науки». Статья эта появилась в газете «Музыкальный сезон», и Серов говорил, что, если позволят обстоятельства, он надеется написать впоследствии о русской песне целое сочинение.
Что касается композиторской деятельности, то в последние годы своей жизни Серов не упускал ее из виду, можно сказать, ни на минуту. Его главною задачею в это время была опера «Вражья сила», но и помимо нее музыкальные проекты положительно толпились в его неутомимом уме. За оперой «Вражья сила» должна была последовать комическая опера из украинского быта, проект которой он уже давно носил в своем воображении. В то же время ему представлялся в отдалении грандиозный план оперы из эпохи гуситского движения, и прочее.
Много других проектов, как литературных, так и музыкальных, вынашивал Серов, и много великого и прекрасного обещала в будущем его талантливая натура. Неутомимый в работе, весь проникнутый творческим одушевлением, он, казалось, кипел жизнью и силой. Но опытный наблюдатель мог бы уже заметить, что жизнь и деятельность этого человека начинают принимать слишком порывистый, слишком нервный оттенок, чтобы продлиться долго. В самом деле, в последние годы силы его начали заметно слабеть. За порывами величайшего одушевления следовали часы уныния и меланхолии. Настроение грусти стало все чаще посещать его обыкновенно бодрую натуру. В 1869 году, по поводу неприятных хлопот с оперой «Вражья сила», очень утомлявших его, он писал следующее:
«Теряю терпение и с сердцов сочинил Stabat mater для трех женских голосов и оркестра. Но и этот „католический“ эпизод моей деятельности не уврачевал моей раны с „Вражьей силой“! Странно как-то живется в это время. Точно пришибленный кем-то! И здоровье мое начинает сильно расстраиваться. Доктор серьезной мерой лечения предлагает вояж в Швейцарию и жизнь спокойную, далекую от треволнений. Хорошо, если так устроится! Но и уехать-то нельзя будет, не отдавши оперы в дирекцию. Успокоиться придется разве тогда, как последуешь примеру Даргомыжского и Берлиоза. Те – успокоились в самом деле. Их уж ничто не волнует».
В конце 1870 года Серов был приглашен в Вену для присутствия на тамошних торжествах по поводу столетия со дня рождения Бетховена. Все думали, что путешествие и присутствие при овациях в честь любимого им великого музыканта произведут благотворное влияние на его впечатлительную душу и, может быть, восстановят его физическое здоровье. Но ожидания эти оказались напрасными. Несмотря на обилие и разнообразие впечатлений этого путешествия, Серов вернулся в Петербург еще более больным, чем уехал… Наконец 20 января 1871 года катастрофа наступила. Александр Николаевич, давно страдавший какою-то болезнью сердца, которую врачи называли «angina pectoris», скончался внезапно, среди оживленного разговора об искусстве, веденного им с одним из его знакомых, M. E. Славинским. Этот последний является, таким образом, единственным очевидцем самого момента смерти великого музыканта, и ниже мы помещаем некоторые выдержки из его рассказа о «последних трех часах жизни А. Н. Серова», помещенного в газете «Голос» за 1871 год.
Что касается впечатления, которое произвела на публику неожиданная смерть величайшего из тогдашних русских музыкантов-художников, то к чести русского общества нужно сказать, что оно действительно понимало постигшую его утрату и отнеслось к событию подобающим образом. Оно понимало, что, похоронив Глинку и незадолго перед тем – Даргомыжского, теперь ему приходится хоронить последнего из плеяды величайших представителей русского музыкального искусства, составлявших цвет и гордость русской земли.
Описания похорон композитора и последовавших за ними торжеств разбросаны в разных периодических изданиях 1871 года. Приводим один из таких рассказов, где сгруппированы все отдельные сведения («Воспоминание о А. Н. Серове» А. Веселовского. «Беседа». 1871 год, № 2).
«По смерти великого художника все тронулось в русском обществе, что только понимало значение Серова и всю тяжесть утраты; все друзья его слились в одном чувстве горя и даже враги его, замолкнув и словно пристыдившись своих интриг в виду свежей могилы, примкнули к числу горюющих. На похороны Александра Николаевича собралась несметная масса народу, невиданная на погребении русских музыкантов, часто игнорируемых толпой; по словам очевидцев, почти все артисты русской оперы, члены музыкального общества, профессора консерватории, литераторы сошлись проводить своего достойного собрата. Овации в память Серова не прекращались и после похорон… На музыкальном вечере в собрании художников 23-го января, после речи одного из распорядителей о значении покойного, хор с завязанным в знак траура на левой руке черным крепом пропел хор странников из „Рогнеды“: „Придите все“. При первых звуках хора присутствующие, до 1000 человек, мгновенно поднялись со своих мест и с выражением глубокого чувства прослушали хор, вспоминая его творца… 31-го января знаменитая Патти исполнила в концерте итальянского благотворительного общества последнее произведение Серова – Ave Maria, – написанное им для нее; она вышла на эстраду в траурном платье, пропела замогильную песнь безвременно угасшего композитора с совершенством, всегда ее отличающим, и произвела на публику глубокое впечатление…»
Что касается сведений о последних часах жизни композитора, то, как уже сказано, их нам дает очевидец его смерти, г-н Славинский. Его рассказ рисует Серова на пороге смерти точно таким же, каким он был всю жизнь: бодрым, оживленным, занятым своими литературными планами и обожаемым им искусством. Вот некоторые выдержки из этого рассказа:
«20 января, в среду, в половине второго часа пополудни, я застал А. Н. Серова одного на диване, одетым в свой обыкновенный серенький костюм, совершенно бодрым и (на мой вопрос) вполне здоровым… На мои расспросы об его „angina pectoris“ (капитальная болезнь, которою А. Н. страдал с зимы 1867 г.) и вообще о болезненном его состоянии я помню следующие слова и возражения Серова, которые передаю почти буквально верно…
„Мне-то пожить „à la Nabuco“, как вы говорите, да еще целый месяц! Разве это возможно хоть на один час?.. Вы хотите, чтоб я добровольно парализовал все, что толчется у меня тут и тут (голова и сердце), – это невозможно ни на одну секунду; вы предлагаете удалить от меня книги, ноты, карандаши, бумагу… всех знакомых… Попробуйте!.. Да „одному“ мне будет гораздо хуже; сдержанная, безысходная сосредоточенность… ух, как тяжела для моей натуры! Желание вылиться, поделиться всем, что налегло и накипело в душе моей, – лучшее лекарство при моей angina“.
„Подумайте, С., как много мне дела – и какого! И чем дальше, тем больше… До „Гуситов“ – „Вакула“; до „Вакулы“ – „Вражья сила“; а до ее постановки у меня должны быть готовы три статьи: в „Вестник Европы“, в „Беседу“ и в „Музыкальный сезон“… А „9-я симфония“!.. А „Фригийская секунда“!.. А ответ на письмо Козимы Вагнер; на днях жду письма и от Рихарда“…»
Затем пришла жена композитора, Валентина Семеновна. Было три часа пополудни, и все сели за обед. Александр Николаевич был, по-видимому, в хорошем расположении духа, шутил со своим сыном и рассказывал ему смешные анекдоты. После обеда, часу в пятом, оставшись снова наедине с рассказчиком, Серов возобновил веденный перед обедом разговор; взявши в руки книгу Наумана, он подошел к собеседнику, стал говорить о помещенных в книге нотных примерах и пропел один из них.
Потом, рассказывает г-н Славинский, открыв книгу на стр. 471, «перевернул три листа, указал на пример на стр. 476… Но тут лицо его внезапно вытянулось с какою-то необыкновенной улыбкой, за этим быстро исказилось и так же быстро приняло свое обыкновенное выражение; глаза были закрыты; ноги подкосились; он медленно, дугою, опустился на землю; я не успел поддержать и не мог поднять… Валентина Семеновна, находившаяся в двух шагах, в соседней комнате, на мой крик бросилась к мужу, сказала: „Скорее к…“.»
Рассказчик бросился за доктором, но Александр Николаевич был уже мертв. Он умер от разрыва сердца, моментально, не испытав ни одной минуты агонии. Покойный всегда желал именно такой внезапной смерти, и судьба исполнила его желание. Тем временем передающий эти сведения г-н Славинский вне себя вбежал к доктору, торопясь, рассказывая о случившемся, требуя немедленной помощи и спасения… Но доктор проявил удивительное самообладание и ответил: «Приеду завтра!»…
Источники
1. Александр Николаевич Серов. Биографический очерк. Письма и заметки о музыке. Сообщ. с примеч. В.В. Стасова. – «Русская старина», 1875—1878.
2. В. В. Стасов. Наша музыка за последние 25 лет. – «Вестник Европы», 1883, № 10.
3. В. С. Баскин. Русские композиторы. А. Н. Серов. Биографический очерк. Москва, 1890. Изд. П. Юргенсона.
4. Александр Николаевич Серов. Биографический очерк. – «Русская сцена», 1865, № 2. Этот очерк имеет почти автобиографическое значение.
5. В. С. Серова. Русская музыка. – «Северный вестник», 1885, №4.
6. Воспоминания, письма, критические отзывы В. С. Серовой, А. Н. Веселовского, А. В. Старчевского, К. И. Званцова, Д. И. Лобанова, M. M. Молчанова и других. Помещены в журналах «Русская старина», «Наблюдатель», «Беседа» и других изданиях.
7. Александр Николаевич Серов. Библиографический указатель. Выпуск 2. Сост. А. Е. Молчанов. СПб., 1888. Изд. ред. журн. «Библиограф» (Н. М. Лисовского).
Примечания
1
это вопрос, большой вопрос (англ.)
2
от фр. vert-de-gris – серо-зеленый
3
от фр. agitation – сильное волнение, возбужденное состояние (уст.)
4
жалкое стадо
5
Хор из 1-го акта «Гугенотов»
6
для ваших целомудренных ушей (фр.)
7
букв. «гигантские шаги»; снаряд для гимнастической игры (фр.)
8
«Александр Николаевич Серов. Биографический очерк М.», см. «Русскую сцену», 1865 г., № 2. По справедливому замечанию В. В. Стасова, очерк этот может во всех отношениях быть признан автобиографией. Во вступлении автор (скрывавшийся за криптонимом М.) говорит: «Биографические заметки эти мы составили из сведений, приобретенных нами в течение многолетнего знакомства с Серовым, со времени первой встречи в Крыму, в 1847 году, частью из немногих дополнительных приписок, им самим нам доставленных». «Притом, – прибавляет г-н Стасов, – всякий знакомый со слогом А. Н. Серова легко узнает его во многих местах этого „Биографического очерка“»