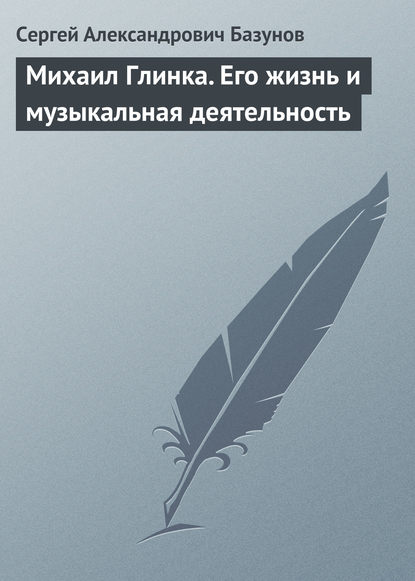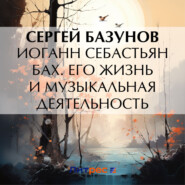По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Михаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подобным же образом, говоря в другом месте о Рубини, Глинка замечает: от нас «не ускользали самые нежные sotto voce[7 - полутона (ит.)] которые, впрочем, Рубини не доводил еще тогда до такой нелепой степени, как впоследствии», и проч.
Таким образом, наш композитор восставал против всего вычурного, против манерности и всякой аффектации в музыке. Его идеалом была простота и отчетливость, «опрятность исполнения», по любимому выражению Глинки; причем эта «опрятность» в его представлении не исключала ни разнообразия, ни смелости, ни даже капризной причудливости, – поскольку, разумеется, эти качества не переходят границ изящного. Кто отказался бы и в наше время от исполнителя, обладающего такими достоинствами?..
В начале ноября 1830 года путешественники возвратились в Милан и, по-видимому, решили приняться за работу серьезно. Иванов занялся обработкой своего голоса под руководством учителя пения Э. Бианки, а Глинке рекомендовали в качестве учителя композиции известного в то время директора Миланской консерватории, Базили. Нужно сказать, что, порываясь с такой настойчивостью в Италию, Глинка имел в виду несколько целей; о поправлении здоровья он думал очень мало, главным же образом его манили в Италию ее природа, искусство и особенно музыка; в частности, он рассчитывал пополнить там свои пробелы в теории музыки и композиции. Но именно эта последняя цель, как мы сейчас увидим, и не была достигнута в Италии. Директор Миланской консерватории оказался весьма неподходящим преподавателем. Будучи человеком сухим, педантичным и утомительным, он повел дело преподавания по методе, вполне отвечавшей всем свойствам своего изобретателя. Бедный ученик скоро пришел в совершенное отчаяние. Между прочим он рассказывает, как именно велись уроки. Его заставляли работать над гаммой в четыре голоса следующим образом: один голос вел гамму целыми нотами, другой – полутактными, третий – четвертями и четвертый – восьмыми. «Это головоломное упражнение клонилось, – замечает Глинка, – по мнению Базили, к тому, чтобы утончить музыкальные мои способности, sottilizzar l’ingegno, как он говорил, но моя пылкая фантазия не могла подчинить себя таким сухим и непоэтическим трудам». И действительно, такие педантические упражнения могли не столько утончить музыкальные способности Глинки, сколько – и гораздо вернее – иссушить его творческую фантазию. Поэтому он скоро прекратил эти утомительные занятия, отказавшись от дальнейших услуг проф. Базили.
Что касается итальянской музыки, которая продолжала восхищать композитора, то в этом отношении описываемая поездка Глинки должна быть признана весьма удачною. В зимний сезон 1830/31 года в Милане пели многие музыкальные знаменитости того времени, например Паста, Рубини, Гризи, Галли; на сценах же двух оперных театров Милана постоянно давались оперы Россини, Доницетти, Беллини и других композиторов. Глинка, успевший познакомиться с семейством гр. Воронцова-Дашкова (тогдашнего русского посланника при сардинском дворе), постоянно пользовался его ложей в театре Carcano и таким образом мог слышать все лучшее из итальянского репертуара. Прибавим, что наибольшее впечатление из этого репертуара производили на нашего композитора оперы «Анна Болейн» Доницетти и «Сомнамбула» Беллини. Об исполнении последней оперы Глинка рассказывает так: «Пели с живейшим восторгом: во втором акте (артисты) сами плакали и заставляли публику подражать им… Мы, обнявшись в ложе посланника со Штеричем, также проливали обильный ток слез умиления и восторга». Если бы Глинка мог тогда знать, как скоро и как радикально изменятся его взгляды на итальянскую музыку!..
Там же, то есть в салоне гр. Воронцова-Дашкова, наш композитор познакомился с представителями многих аристократических семейств Италии, однако не брезгал и гораздо менее аристократическим, но, быть может, более для него полезным обществом. В скромной квартире Глинки постоянно собиралось веселое общество второстепенных актеров, певцов, певиц и тому подобного люда; все держали себя просто и не стесняясь, всем предоставлялось делать кто что хочет, часто пели, играли и проводили время весело и небесполезно.
Отчасти благодаря такому разнообразию и многочисленности знакомств наш композитор довольно скоро начал пользоваться некоторою известностью в Италии. О нем и о товарище его Иванове уже стали говорить как о двух maestro russi, и в качестве такого maestro Глинка должен был давать публике произведения своего русского вдохновения. Однако, увы! Ничего русского Глинка итальянцам не дал, и все написанное им в Милане имеет вполне итальянский характер (например вариации на тему из оперы «Анна Болейн», на темы из балета «Chao Kang», «Rondo» на тему из оперы «Монтекки и Капулетти» Беллини и проч.; все относится к 1831 году).
В течение последующих двух лет Глинка объехал почти всю Италию, побывал в Генуе, Риме, Неаполе, где познакомился с некоторыми итальянскими знаменитостями, как, например, Беллини, Доницетти, а также с проживавшим тогда в Неаполе знаменитым русским художником Карлом Брюлловым. Из музыкальных работ его этого периода можно отметить «Серенаду» на темы из оперы «Сомнамбула». Эта пьеса, написанная для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса, в июле 1832 года была исполнена с большим успехом лучшими миланскими артистами и еще более увеличила популярность русского композитора. В том же 1832 году Глинка сочинил другую серенаду на темы из «Анны Болейн» Доницетти и вслед за тем написал несколько романсов. Большая часть этих итальянских сочинений Глинки писалась по просьбе и для разных итальянских знакомых нашего maestro, которым они и посвящались. При этом нельзя не заметить, что иногда эти работы – вернее характер и назначение их – бывали обременительны для Глинки.
Вот что, например, рассказывает он об одной из таких работ, предпринятой для некоей певицы Този. Зимою 1832 года эта певица должна была дебютировать в Милане, в опере Доницетти «Фауст». «Так как в партитуре, – говорит Глинка, – не было, по ее мнению, приличной каватины для выхода, то она попросила меня написать ее. Я исполнил ее просьбу и, кажется, удачно, т. е. совершенно вроде Беллини, как она того желала; причем я по возможности избегал средних нот ее голоса, которые были наиболее плохи. Ей понравилась мелодия, но она была недовольна, что я мало выставил ее средние, по ее мнению лучшие, ноты в голосе». Вследствие этого наш маэстро должен был переделывать каватину по указанию притязательной артистки и тем не менее угодить ей не мог. Тогда-то Глинка дал себе зарок не писать более для итальянских примадонн.
При всем том в 1832 году Глинка написал еще несколько «итальянских» вещей, то есть произведений, созданных совершенно по шаблону итальянской музыки и специально рассчитанных на итальянские вкусы. Затем творческие занятия Глинки приостановились до середины 1833 года, потому что здоровье нашего маэстро, поправившееся было в первое время его пребывания в Италии, вскоре опять стало ухудшаться, и к началу 1833 года он чувствовал себя не лучше, чем в Петербурге, до отъезда за границу. Нужно ли говорить, что во время пребывания Глинки в Италии лечение продолжалось почти без перерывов и отличалось обычною фантастичностью? Так, некий врач Филиппи для чего-то прожег ему затылок ляписом, доктор Франк наложил на живот какой-то злокачественный пластырь, который, по словам Глинки, в короткое время «погубил» его нервы и довел «до отчаяния и до тех фантастических ощущений, которые называются Sinne-T?uschungen, hallucinations[8 - иллюзорные ощущения, галлюцинации]». Наконец в феврале 1833 года, по совету врачей, наш композитор предпринял поездку в Венецию. Но, едва успев осмотреть достопримечательности города, он опять захворал и снова попал в руки врачей. На этот раз страдальцу начали промывать желудок, а потом пустили кровь. Нужно ли упоминать, что и в Италии к услугам Глинки были предоставлены ненавистные ему серные воды и ванны?..
Мы так часто говорим о недугах нашего композитора потому, что они действительно составляли крест всей жизни его. Лечение же этих недугов и сами лекаря часто бывали курьезны до невероятной степени. Вот еще один пример. В 1831 году в Милане судьба столкнула Глинку с неким синьором Поллини, который был, по его словам, очень замечательный музыкант, искренно любил свое искусство и писал оперы. Но заметив, что в этом роде он ничего не произвел особенного, Поллини решил испытать свои силы на другом поприще, и успех скоро увенчал его новые труды. Он нажил целое состояние, изобретя декокт «rob antisyphilitique», бутылку которого, под названием «eau de M. Роllin»[9 - вода г-на Поллена (фр.)], продавал по червонцу. Нечего и говорить, что этот декокт не миновал Глинку как субъекта «золотушного расположения». Однако действие нового лекарства оказалось столь вредным, что сам изобретатель скоро испугался и посоветовал прекратить лечение.
Все эти тяжелые ощущения постоянных страданий не могли, конечно, не отразиться и на душевном состоянии Михаила Ивановича. Болезненное настроение души сказалось уже в его последних итальянских произведениях, а по поводу написанного около этого времени «Трио» (для фортепиано, кларнета и фагота) артисты-исполнители покачивали даже головами и что-то говорили о «disperazione»[10 - отчаянии (ит.)] маэстро. Постепенно им стало овладевать чувство недовольства, неудовлетворенности, скоро перешедшее в определенное ощущение тоски. Итальянские впечатления с каждым днем все более и более теряли свою яркость и увлекательность. Сама музыка Италии, прежде так восхищавшая композитора, теперь как будто тоже потеряла для него свое значение. Правда, эта музыка оставалась все такой же упоительно нежной и сладкой, но теперь она начинала казаться Глинке именно уже слишком сладкой и даже приторной. «Недостаточно разнообразна эта музыка, – думалось теперь композитору, – и при недостатке разнообразия еще чего-то другого не хватает ей». Но чего же именно в ней не было? И Глинка упорно задумывался над этим вопросом. Начиная с 1833 года, он вообще очень мало писал, но зато тем больше размышлял и постепенно пришел к заключению, что итальянской музыке, главным образом, недоставало глубины. И чем более прояснялись взгляды Глинки на итальянскую музыку, тем труднее и труднее становилось ему подделываться под царившее кругом итальянское «sentimento brillante», которое композитор определяет как «ощущение благосостояния – следствие организма, счастливо устроенного под влиянием благодетельного южного солнца». Действительно, все кругом веселилось, пело и наслаждалось жизнью и своим sentimento brillante, a северный музыкант все более и более задумывался и уходил в себя. «Нет, – думал он, – мы, жители севера, чувствуем иначе; впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу…» «У нас или неистовая веселость, или горькие слезы». «Даже любовь у нас всегда соединена с грустью». И постепенно в душе композитора, на время усыпленной было сладкими мелодиями Беллини и Россини, начали воскресать старые, полузабытые напевы далекого детства на родине.
В последнее время его часто можно было видеть с опрятным изданием Giovanni Ricordi в руках: там были собраны все итальянские произведения Глинки, все то, что в разное время написал он в угоду жителям Милана. Молча и машинально перелистывал автор красивое издание и задумывался, убеждаясь, что никогда он не мог быть искренним итальянцем и что искренно он мог писать только по-русски.
Таким образом, Италия постепенно теряла для Глинки все свое очарование; итальянское искусство стало удовлетворять его все меньше и меньше; в душе возникали задачи и планы совершенно иного, нового направления. Наконец нашего маэстро потянуло домой, и в скором времени это новое стремление усилилось до необычайной степени. Овладевая душою Глинки все более и более, оно наконец приняло совершенный характер душевного недуга, известного под названием «ностальгии» (тоски по родине). Так совершался в душе композитора тот душевный переворот, который отвлек его от бесплодной и неблагодарной роли подражателя и впоследствии направил на путь самостоятельного творчества в сфере русской народной музыки.
В июле 1833 года Глинка получил известие, что сестра его, Наталья Ивановна Гедеонова, приехала с мужем в Берлин, и он тотчас решил ехать туда же (из Берлина было все-таки поближе домой, да и сестру он любил очень искренно). Таким образом, в июле 1833 года Глинка покинул Италию и при этом, к удивлению своему, не испытал ни сожаления, ни вообще какого бы то ни было тягостного чувства. В самом деле, не странно ли? Давно ли наш композитор так горячо стремился в Италию, тогдашний центр музыки par excellence[11 - по преимуществу (фр.)], и не более как три года спустя в этом самом центре, так сказать у очага итальянской музыки, тот же самый Глинка осудил ее – и осудил со всею решительностью глубоко убежденного человека. Не заключался ли в этом осуждении настоящий и самый беспристрастный приговор итальянской музыке вообще?..
Путешествие в Берлин предпринято было через Тироль и Вену. После роскошной итальянской природы Вена показалась Глинке несколько мрачною, особенно, может быть, по причине усилившихся физических страданий. Впрочем, в австрийской столице ему пришлось пробыть очень недолго: врачи скоро выпроводили его на воды в Баден. «Воды баденские, – пишет Глинка, – весьма сильны; они состоят из серы и квасцов…» Словом, на сцену опять выступили смешные серные воды. Однако ему в то время было не до смеха. Здоровье его становилось хуже, чем когда-нибудь; с другой стороны, открылась тоска по родине, к тому же и недавно пережитые в Италии душевные волнения далеко еще не улеглись и давали себя чувствовать очень осязательно. Перечитывая в автобиографии описание этого периода жизни Глинки, выносишь о его личности совершенно лирическое впечатление. В это время у него служил какой-то нанятый в Вене лакей; положение страдающего композитора было так тяжело физически и нравственно, что тронуло сердце даже этого лакея. Ему обязан был Глинка многими мелкими и даже не мелкими для наемного человека услугами (живя в дорогом Бадене, композитор успел совершенно истощить свой запас денег). Этот добрый человек ухаживал за больным иностранцем самым добросовестным и внимательным образом, развлекал его сколько мог, гулял с ним по Бадену, а гулять с Глинкою в то время уже значило водить его – так слаб был наш бедный соотечественник. И вот однажды, во время такой печальной прогулки, прислужник завел его к какому-то католическому священнику. В доме оказалось фортепьяно. Глинка сел и стал перебирать грустные аккорды, постепенно увлекаясь своею импровизацией. Наконец из-под пальцев музыканта полились такие скорбные звуки, что добрый патер был поражен и воскликнул: «Как можно в ваши лета играть так грустно?..»
В сентябре 1833 года больной, немного оправившись, добрался наконец до Берлина и был встречен горячо любимой сестрою и зятем.
Устроившись затем с квартирой и прочими делами, Глинка прожил в Берлине около полугода; но это время, оказавшееся очень полезным для его музыкального развития, не богато внешними фактами. Важнее всего в этом периоде знакомство композитора с известным берлинским теоретиком Деном, у которого он брал уроки теории музыки и контрапункта в течение всего времени своего пребывания в Берлине. Этот Ден принес, по-видимому, действительную пользу Глинке, приведя в порядок его многосторонние, но очень разрозненные сведения. О нем композитор постоянно отзывается с самой теплой благодарностью и симпатией. «Нет сомнения, – говорит он, – что Дену обязан я более всех других моих maestro».
Учась, однако, теории у Дена, Глинка в то же время не покидал и самостоятельной композиторской деятельности. Так, в это время в Берлине были написаны романсы «Дубрава шумит» (на слова Жуковского), «Не говори, любовь пройдет» (на слова Дельвига), вариации на тему «Соловья» (Алябьева), «pot-pourri» из нескольких русских песен для фортепиано в четыре руки, а также этюд увертюры-симфонии на русскую тему.
Положим, что эта «русская» тема была разработана совершенно по-немецки, как то признает и сам Глинка, но один выбор русской темы, это тяготение в сторону национальной русской музыки уже очень характерны. Значит, никакие наслоения итальянской музыки, ни немецкая музыка Берлина не могли заглушить окончательно таившийся в сердце музыканта живой источник русской национальной музыки, единственно ему свойственной. Значит, никогда не умирало врожденное, всосанное, так сказать, с молоком матери тяготение этой родной народной музыки. В Берлине же, после внутреннего переворота, незадолго перед тем пережитого композитором, это тяготение стало для него все более и более проясняться. Там же, то есть в Берлине, были написаны такие вещи, как «Песнь сироты» из «Жизни за Царя» и первая тема Allegro увертюры.
Все это были, так сказать, предвестия нового направления, которому отдавался Глинка более и более. Но для того, чтобы поворот совершился окончательно, для того, чтобы пробудившееся в душе композитора «русское» чувство могло проявить себя капитальными и яркими образцами истинно национальной музыки, – для этого не хватало еще нашему музыканту родного воздуха, родной обстановки и всей совокупности впечатлений дорогой отчизны, со всеми ее хорошими и дурными сторонами. Словом, нужна была родная почва, нужен был «дым отечества»…
В апреле 1834 года Глинка совершенно неожиданно получил известие о смерти своего отца и тотчас же стал собираться в дорогу домой. В том же апреле он уже был на пути в Россию.
Глава IV. Жизнь в Петербурге
Возвращение в Новоспасское. – Поездка в Москву. – Первая мысль о национальной русской опере. – Жизнь в Петербурге. – Первое знакомство с М. П. Ивановой (впоследствии женой Глинки).– Жизнь в семействе А. С. Стунеева. – Знакомства Глинки. – А. С. Даргомыжский. – Музыкальные работы 1834 года.
По приезде в Россию Глинка сначала уединился в Новоспасском и прожил в совершенной тишине некоторое время, пока его снова не потянуло в свет.
Первая поездка имела целью Москву, где проживал давнишний приятель Михаила Ивановича – Мельгунов. Там написал он известный романс «Не называй ее небесной» (слова Павлова) и там же окончательно поселилась в уме его мысль о создании русской оперы. Слов у него еще не было, но в воображении уже бродили многие мотивы и даже целые сцены первой его оперы «Жизнь за Царя». Некоторые отрывки он даже играл уже на фортепиано. «Вообще, – прибавляет Глинка, – все время пребывания моего в Москве я провел очень весело».
И однако… тотчас по возвращении в Новоспасское (то есть спустя всего три месяца по приезде в Россию) наш композитор подал прошение о заграничном паспорте. Биографы обходят молчанием это не особенно понятное обстоятельство, и автобиография также не дает никаких объяснений такой поспешности, а между тем она могла бы навести на размышления… Неужели «дым отечества» только казался приятным из прекрасного далека? Но Глинка (по крайней мере в автобиографии) не жалуется на свои русские впечатления этого периода. Или и в самом деле русским художникам удобнее изображать Россию из-за границы и наш композитор, обновив свои впечатления, захотел обработать их вдалеке? Может быть также, что решение Глинки вызвано было его постоянной страстью к передвижениям и путешествиям. Так или иначе, вопрос этот, за недостатком достоверных объяснений, должен остаться открытым.
Как бы то ни было, в августе паспорт был выдан, и Глинка выехал из Новоспасского на Берлин, куда, однако, не доехал по не зависящим от него обстоятельствам. К числу этих обстоятельств относится то, что проездом в Берлин он должен был побывать в Петербурге, где в то время жила его мать и одна из сестер. Дамы проживали у родственника семейства Глинок, Алексея Степановича Стунеева. Здесь же должен был остановиться наш композитор, и первое, что он увидал там, была молодая, хорошенькая девушка, также родственница Стунеевых. Звали ее Марья Петровна Иванова.
Здесь, может быть, кстати будет напомнить читателю, что у Глинки было мягкое сердце, доступное всяким нежным влияниям, а впечатления, производимые на него дамами, были очень часто неотразимы. У Марьи Петровны же кроме молодости и миловидности была еще некоторая врожденная грация, как это сейчас же заметил композитор, и потому не нужно уверять читателя, что он скоро увлекся этой «врожденной грацией» и миловидностью.
Карета, которую заботливая Евгения Андреевна, матушка Глинки, купила для сына, боясь, как бы не повредила ему на пути в Берлин осенняя сырость, – эта карета уже давно стояла готовая к путешествию, но только сам путешественник не был готов к нему. Он не спешил с отъездом и очень зажился у А. С. Стунеева, который, кстати сказать, был страстный любитель музыки. Да, он чрезвычайно любил музыку вообще и в особенности романсы, а романсов тогда обращалось в публике как-то особенно много, потому, быть может, что писали их во множестве даже и те любители, которым лучше было бы совсем не писать никакой музыки. Стунеев же пел обыкновенно не только сам мотив романса, но и все слова его, то есть часто длиннейшее стихотворение. И «когда, бывало, – говорит Глинка, – Алексей Стунеев сядет в свободный час за фортепиано и возьмется за романсы, то начнет петь один за другим по порядку, не пропуская ни одного куплета, хотя бы их было множество. Мы с Марьей Петровной пользовались его увлеченьем и усердно шушукали, сидя на софе, между тем как Стунеев приходил более и более в восторг…» Но здесь мы прерываем цитату для следующего маленького отступления: не кажется ли читателю очень правдивой и характерной эта вполне отечественная сценка? Настоящий музыкант сидел на софе и «усердно шушукал» с Марьей Петровной, более всего наблюдая, чтобы певец как-нибудь не обернулся в сторону влюбленных, а восторженный дилетант, пораженный музыкальным аффектом, в то же время выходил из себя, чтобы вернее изобразить глубокий драматизм исполняемого романса. Все средства были в ходу: и голосовые, и фортепианные; педалью особенно злоупотреблялось, а низкие ноты начинали производить впечатление действительно пугающее, так что за исполнителя становилось страшно… Теперь представьте, что должен был думать в это время настоящий музыкант, особенно если принять во внимание, что вся энергия певца, все его душевные силы употреблялись на воспроизведение какого-нибудь наивнейшего образчика музыкальной лирики тридцатых годов, когда Гурилев, Варламов и немногие другие были последним словом этой лирики, когда все остальное было еще гораздо ниже и Гурилева, и Варламова! Мы задаем себе вопрос, что должен был в это время думать и чувствовать настоящий музыкант, сидевший с Марьей Петровной на софе?..
Однако мы уже сказали, о чем он в это время думал. Он зорко наблюдал, как бы вдохновенный певец не обернулся в сторону софы. «Я признаюсь в плутовстве своем, – говорит Глинка. – Хотя он (А. С. Стунеев) пел нещадно в нос и выговаривал слова топорным образом, я не только поощрял его к пению, но даже и разучивал с ним новые романсы». (А их, как сказано, было тогда очень много.)
Но оставим пока в стороне личную жизнь Глинки и посмотрим, что происходило в то время вокруг него. Надо помнить, что весною 1834 года в Россию приехал не какой-нибудь неизвестный музыкант-авантюрист, а уже хорошо знакомый русской публике и даже знаменитый композитор М. И. Глинка. Всем интересующимся музыкою были тогда известны его романсы (особенный фурор произвел тогда московский романс «Не называй ее небесной», упрочивший за Глинкой славу неподражаемого романсиста). Известна была его итальянская музыка, достаточно обильная; известна была, наконец, и сама личность его, возбуждавшая во всех одни только симпатии. И вот нашего композитора стали посещать всевозможные дилетанты и любители музыки. Посещений этих было так много и они надоедали так сильно, что обстоятельство это Глинка счел нужным отметить даже в своей автобиографии.
Большинство посетителей, как мы сказали, были скучны и только надоедали; но среди них попадались иногда и люди совсем других свойств. Так, пришел однажды маленького роста человек, сначала произведший на Глинку одно только отрицательное впечатление. В автобиографии последний рассказывает о нем несколько насмешливо. Но когда наш композитор поближе познакомился с ним, то нашел, что под смешной наружностью маленького человека скрывался великий музыкальный талант. Посетитель этот был Александр Сергеевич Даргомыжский. В самом деле, этот человек являлся в то время едва ли не единственным русским ценителем, могшим правильно определить значение и величие нашего композитора…
Между тем сам Глинка, несмотря на блаженные ощущения счастливого жениха, тогда овладевшие им всецело, не переставал работать. Около этого времени, то есть зимою 1834 года, был написан романс «Инезилья» (слова Пушкина) и другой, имеющий большое биографическое значенье, – «Только узнал я тебя».
Этот последний романс, по собственным словам Глинки, имел в виду невесту композитора, г-жу Иванову, потому что, как говорит он сам, «склонность его к Марье Петровне нечувствительно усиливалась».
Но тут мы позволим себе небольшое лирическое отступление.
«Только узнал я тебя»… О Боже!.. Подумать только, до какой степени властны иногда пустые миражи над душой человека, над светлой душою и ясным умом даже великого человека! Подумать только, как иногда совершенное ничто способно отуманить глубокий ум и чистое, искреннее сердце! «Только узнал я тебя»… Какою глубокой, скорбной иронией должны были звучать для автора романса лет через пять после женитьбы эти страстные слова любви! Как должен был жалеть бедный маэстро о том, что он в свое время так увлекся чувством, которого не стоила его нареченная невеста. Подумайте, читатель, что через несколько лет после женитьбы несчастный композитор должен был выслушивать от своей жены упреки между прочим за то, что «он изводит слишком много нотной бумаги»!..
Но все это случилось потом, а пока, то есть зимою 1834/35 года, Глинка чувствовал себя совершенно счастливым и как жених, и еще более как автор, в душе которого нарождалось одно из величайших творений русской музыки. Создание это было совершенно оригинально, совсем не похоже на все то, что писалось тогда на Руси; оно было ново, прекрасно, истинно велико… Мы говорим об опере «Жизнь за Царя».
Глава V. Опера «Жизнь за царя»
Литературные вечера у Жуковского —Барон Розен. – Работа над оперой «Жизнь за Царя». – Женитьба, – Жизнь в Новоспасском. – Возвращение в Петербург. – Постановка «Жизни за Царя» на сцене.
Той же зимой 1834/35 года Глинка возобновил свои прежние литературные знакомства, у Жуковского, проживавшего тогда уже в Зимнем дворце, еженедельно собирались представители литературы и музыки, из числа которых композитор упоминает о Пушкине, Гоголе, кн. Вяземском, Одоевском, гр. Виелъгорском и пр. На этих-то вечерах постоянным гостем был и наш тогда уже очень известный маэстро. И там Глинка сообщил однажды некоторым членам этого избранного кружка о замышляемой им опере и о новых началах, какие думал он положить в основу произведения. Весь кружок приветствовал Глинку самым сердечным образом. Эти лучшие представители искусства, таким образом, поняли и оценили важность и значение первого образца новой, истинно русской музыки, притом даже до появления его в свет… Но как редко – и зачем это редко! – выпадает такое счастье на долю всякого рода новаторов?
Итак, проект нашего композитора был принят и, так сказать, одобрен на вечерах в Зимнем дворце. Затем Жуковский предложил Глинке сюжет «Ивана Сусанина» и даже собирался сам писать слова оперы, чего ему, однако, не удалось сделать к большому сожалению всех, кто понимает и любит музыку оперы «Жизнь за Царя». Как бы то ни было, в конце концов случилось так, что русские слова новой русской оперы попали в руки барона Розена, усердного литератора из немцев, который, по собственным его словам, умел сочинять «самалучший поэзия». Надо, впрочем, сказать, что этот барон оказался во многих отношениях довольно пригоден Глинке, ибо мог писать стихи каких угодно размеров, в каком угодно количестве и поспевал всегда к заказанному сроку. Такие качества, говорим мы, оказались полезными для композитора, потому что в это время вдохновение вспыхнуло в нем необыкновенно ярко и теперь затопляло его воображение необыкновенным обилием тем. Тогда, покинув своего барона, музыкант принялся писать без слов, так что бедному немцу пришлось догонять Глинку и уже потом приделывать слова к готовой музыке. «Барон Розен, – говорит Глинка, – был на это молодец; закажешь, бывало, столько-то стихов, такого-то размера, двух-, трехсложного и даже небывалого – ему все равно; придешь через день, уж и готово». Правда, тут случалось иногда, что мысль и даже размер не подходили к музыке и не согласовывались с нею; тогда между музыкантом и либреттистом возгорался ожесточенный спор, причем «поэтический» немец проявлял необыкновенное упорство. Каждый свой стих он отстаивал с необыкновенной энергией и на все возражения Глинки отвечал: «Вы не понимает, это самалучший поэзия…» Но, быть может, читатель заметил, что описываемые сцены начинают принимать у нас несколько балаганный характер. Увы! Бее описываемое, к сожалению, происходило в действительности. Да, трижды увы, но все-таки приходится признать, что именно так писалась первая настоящая русская опера, драгоценный залог будущего развития национальной русской музыки. Мы берем наши смешные картинки из первых рук, то есть из собственноручных записок Михаила Ивановича Глинки, – так он рассказывает все эти печальные курьезы.
Но оставим барона сочинять его стихи (в течение двух месяцев, то есть за март и апрель 1835 года, он успел изготовить слова первых двух актов оперы) и возвратимся теперь к ни в чем не повинному Глинке.
Зима 1834/35 года проходила, композитор работал над своей оперой со всем упорством страсти. Начал он так, как, разумеется, ни один автор не начинает, именно с увертюры, и очень быстро написал ее для фортепиано в четыре руки. Инструментовка также не заставила себя ждать. А затем вдохновение уже положительно овладело им. Темы разных мест оперы приходили ему в голову одна за другою совсем готовые, часто уже прямо отлитые в контрапунктические формы. Оставалось только записывать, и при этом нужно было торопиться, потому что наплыв новых идей переполнял возбужденное артистическим восторгом воображение композитора. Это было не просто творчество, это была какая-то лихорадка творчества, и немудрено, что бедный барон Розен не поспевал за таким порывистым клиентом.
Для Глинки это была вообще очень бурная зима. К интересам искусства примешивались у него интересы все возрастающей любви к Марье Петровне Ивановой. Живя в одном семействе Стунеевых, влюбленные, естественно, всё более сближались, а пылкий артист идеализировал возлюбленную без милосердия. Теперь ее личность сливалась для него с поэтическими грезами из области музыки. Выше мы уже говорили о романсе «Только узнал я тебя», где всецело имелась в виду Марья Петровна. Теперь, под впечатлением ее же личности, так произвольно опоэтизированной влюбленным Глинкою, писалась и опера «Жизнь за Царя», где многие номера, без сомнения, вдохновлены ею. Ею, говорим мы, но, может быть, вернее было бы сказать не ею, а тем фантомом, который представлялся очарованным глазам композитора вместо действительно существовавшей г-жи Ивановой. Потому что в действительности она была совсем не пара увлекающемуся, идеальному поэту; «она была плохая музыкантша», – говорил впоследствии бедный Глинка, заметивший это обстоятельство, увы, слишком поздно. «Она была плохая музыкантша»… Подумайте, читатель, как много горечи и грусти содержат эти немногие слова в устах музыканта, дающего отзыв о любимой им женщине… Возвращаясь однажды из концерта, Глинка приехал домой очень потрясенный одной из дивных симфоний Бетховена; и потрясение его было так велико, что даже хладнокровная Марья Петровна встревожилась и спрашивала с участием: «Что с тобою, Мишель?» «Бетховен…» – мог только ответить взволнованный музыкант. «Что же он тебе сделал?» – продолжала она, и бедный Глинка принужден был объяснять, что ему сделал тронувший его до слез Бетховен! Она была плохая музыкантша. Но всем давно известно, что влюбленные вообще и влюбленные артисты в особенности бывают слепы. Известно также, что браки артистов почти всегда бывают неудачны; досадно только, зачем это действительно случается так почти всегда и зачем это случилось с нашим бедным композитором. Расскажем, однако, как все это произошло.
Дождавшись годовщины смерти отца, Глинка написал письмо в деревню, к своей матушке, прося благословения на брак с девицею Марьей Петровной Ивановой. Ответ был получен благоприятный, и сейчас же наш влюбленный сделал официальное предложение, которое, разумеется, и было принято.
Весенние месяцы этого года прошли в неизбежных ухаживаньях, причем в записках Глинки мы читаем: «Минута без невесты моей казалась мне невыносимою, и я действительно чувствовал высказанное в Andante „Не томи, родимый“.» Таким образом, в апреле 1835 года наш композитор уже был женат, – времени влюбленные, как видно, даром не теряли.
В мае Глинка уехал с любимой женою в деревню и там, за работой, в кругу семьи провел действительно счастливо три летних месяца. «Ежедневно утром, – говорит он, – садился я за стол в большой и веселой зале, в Новоспасском нашем доме… Сестры, матушка, жена – одним словом, вся семья там же копошилась, и чем живее болтали и смеялись, тем быстрее подвигалась моя работа» и пр. Таким образом, все шло хорошо сначала. Но… но едва ли дольше трех месяцев продолжалось счастливое супружество нашего композитора. Осенью Глинка возвратился с семейством в Петербург; здесь к нему пришел однажды приятель его Степанов и стал поздравлять приехавшего друга с семейным счастьем. Тогда бедный муж отвечал: «Искренне скажу спасибо, когда ты поздравишь меня через десять лет».
И он, быть может убегая от надвигавшейся семейной грозы, еще с большим жаром отдался своему любимому труду.
Работа подвигалась успешно и замечательно быстро. «Всякое утро, – говорит Глинка, – сидел я за столом и писал по шести страниц мелкой партитуры… Я мало принимал участия во всем меня окружавшем. Я весь был погружен в труд, и хотя уже много было написано, оставалось еще много соображать, а эти соображения требовали немалого внимания». О сцене Сусанина в лесу с поляками Глинка рассказывает так: «Я писал зимою (1835/36 года); всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто читал с чувством вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у самого меня становились дыбом и мороз подирал по коже».
Наконец к весне 1836 года опера «Жизнь за Царя» была окончена. Частными средствами в доме кн. Юсупова устроена была оркестровая репетиция первого акта. Оркестр был, правда, довольно плох, хоров также не исполняли; однако первый акт оказался, по мнению самого композитора, хорош, инструментовка также удовлетворяла его. Но вслед за тем начались утомительные хлопоты о постановке оперы на сцене – испытание, которое судьба сулила, по-видимому, всем оперным композиторам. Директор театров А. М. Гедеонов почему-то не выказывал никакой готовности к принятию оперы на казенную сцену. А между тем музыка нашего композитора в то время была уже достаточно прославлена и имя Глинки не могло, по-видимому, оставаться неизвестным директору театров. Уже, так сказать, по долгу службы Гедеонов должен был знать это имя; но он тем не менее не решался принять оперу на сцену. Очень может быть, что тут следует искать что-нибудь помимо простого непонимания, а с другой стороны, кто не знает про мытарство авторов при помещении своих произведений – история старая и вечно повторяющаяся, да едва ли и не до сего дня.
Таким образом, наш композитор восставал против всего вычурного, против манерности и всякой аффектации в музыке. Его идеалом была простота и отчетливость, «опрятность исполнения», по любимому выражению Глинки; причем эта «опрятность» в его представлении не исключала ни разнообразия, ни смелости, ни даже капризной причудливости, – поскольку, разумеется, эти качества не переходят границ изящного. Кто отказался бы и в наше время от исполнителя, обладающего такими достоинствами?..
В начале ноября 1830 года путешественники возвратились в Милан и, по-видимому, решили приняться за работу серьезно. Иванов занялся обработкой своего голоса под руководством учителя пения Э. Бианки, а Глинке рекомендовали в качестве учителя композиции известного в то время директора Миланской консерватории, Базили. Нужно сказать, что, порываясь с такой настойчивостью в Италию, Глинка имел в виду несколько целей; о поправлении здоровья он думал очень мало, главным же образом его манили в Италию ее природа, искусство и особенно музыка; в частности, он рассчитывал пополнить там свои пробелы в теории музыки и композиции. Но именно эта последняя цель, как мы сейчас увидим, и не была достигнута в Италии. Директор Миланской консерватории оказался весьма неподходящим преподавателем. Будучи человеком сухим, педантичным и утомительным, он повел дело преподавания по методе, вполне отвечавшей всем свойствам своего изобретателя. Бедный ученик скоро пришел в совершенное отчаяние. Между прочим он рассказывает, как именно велись уроки. Его заставляли работать над гаммой в четыре голоса следующим образом: один голос вел гамму целыми нотами, другой – полутактными, третий – четвертями и четвертый – восьмыми. «Это головоломное упражнение клонилось, – замечает Глинка, – по мнению Базили, к тому, чтобы утончить музыкальные мои способности, sottilizzar l’ingegno, как он говорил, но моя пылкая фантазия не могла подчинить себя таким сухим и непоэтическим трудам». И действительно, такие педантические упражнения могли не столько утончить музыкальные способности Глинки, сколько – и гораздо вернее – иссушить его творческую фантазию. Поэтому он скоро прекратил эти утомительные занятия, отказавшись от дальнейших услуг проф. Базили.
Что касается итальянской музыки, которая продолжала восхищать композитора, то в этом отношении описываемая поездка Глинки должна быть признана весьма удачною. В зимний сезон 1830/31 года в Милане пели многие музыкальные знаменитости того времени, например Паста, Рубини, Гризи, Галли; на сценах же двух оперных театров Милана постоянно давались оперы Россини, Доницетти, Беллини и других композиторов. Глинка, успевший познакомиться с семейством гр. Воронцова-Дашкова (тогдашнего русского посланника при сардинском дворе), постоянно пользовался его ложей в театре Carcano и таким образом мог слышать все лучшее из итальянского репертуара. Прибавим, что наибольшее впечатление из этого репертуара производили на нашего композитора оперы «Анна Болейн» Доницетти и «Сомнамбула» Беллини. Об исполнении последней оперы Глинка рассказывает так: «Пели с живейшим восторгом: во втором акте (артисты) сами плакали и заставляли публику подражать им… Мы, обнявшись в ложе посланника со Штеричем, также проливали обильный ток слез умиления и восторга». Если бы Глинка мог тогда знать, как скоро и как радикально изменятся его взгляды на итальянскую музыку!..
Там же, то есть в салоне гр. Воронцова-Дашкова, наш композитор познакомился с представителями многих аристократических семейств Италии, однако не брезгал и гораздо менее аристократическим, но, быть может, более для него полезным обществом. В скромной квартире Глинки постоянно собиралось веселое общество второстепенных актеров, певцов, певиц и тому подобного люда; все держали себя просто и не стесняясь, всем предоставлялось делать кто что хочет, часто пели, играли и проводили время весело и небесполезно.
Отчасти благодаря такому разнообразию и многочисленности знакомств наш композитор довольно скоро начал пользоваться некоторою известностью в Италии. О нем и о товарище его Иванове уже стали говорить как о двух maestro russi, и в качестве такого maestro Глинка должен был давать публике произведения своего русского вдохновения. Однако, увы! Ничего русского Глинка итальянцам не дал, и все написанное им в Милане имеет вполне итальянский характер (например вариации на тему из оперы «Анна Болейн», на темы из балета «Chao Kang», «Rondo» на тему из оперы «Монтекки и Капулетти» Беллини и проч.; все относится к 1831 году).
В течение последующих двух лет Глинка объехал почти всю Италию, побывал в Генуе, Риме, Неаполе, где познакомился с некоторыми итальянскими знаменитостями, как, например, Беллини, Доницетти, а также с проживавшим тогда в Неаполе знаменитым русским художником Карлом Брюлловым. Из музыкальных работ его этого периода можно отметить «Серенаду» на темы из оперы «Сомнамбула». Эта пьеса, написанная для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса, в июле 1832 года была исполнена с большим успехом лучшими миланскими артистами и еще более увеличила популярность русского композитора. В том же 1832 году Глинка сочинил другую серенаду на темы из «Анны Болейн» Доницетти и вслед за тем написал несколько романсов. Большая часть этих итальянских сочинений Глинки писалась по просьбе и для разных итальянских знакомых нашего maestro, которым они и посвящались. При этом нельзя не заметить, что иногда эти работы – вернее характер и назначение их – бывали обременительны для Глинки.
Вот что, например, рассказывает он об одной из таких работ, предпринятой для некоей певицы Този. Зимою 1832 года эта певица должна была дебютировать в Милане, в опере Доницетти «Фауст». «Так как в партитуре, – говорит Глинка, – не было, по ее мнению, приличной каватины для выхода, то она попросила меня написать ее. Я исполнил ее просьбу и, кажется, удачно, т. е. совершенно вроде Беллини, как она того желала; причем я по возможности избегал средних нот ее голоса, которые были наиболее плохи. Ей понравилась мелодия, но она была недовольна, что я мало выставил ее средние, по ее мнению лучшие, ноты в голосе». Вследствие этого наш маэстро должен был переделывать каватину по указанию притязательной артистки и тем не менее угодить ей не мог. Тогда-то Глинка дал себе зарок не писать более для итальянских примадонн.
При всем том в 1832 году Глинка написал еще несколько «итальянских» вещей, то есть произведений, созданных совершенно по шаблону итальянской музыки и специально рассчитанных на итальянские вкусы. Затем творческие занятия Глинки приостановились до середины 1833 года, потому что здоровье нашего маэстро, поправившееся было в первое время его пребывания в Италии, вскоре опять стало ухудшаться, и к началу 1833 года он чувствовал себя не лучше, чем в Петербурге, до отъезда за границу. Нужно ли говорить, что во время пребывания Глинки в Италии лечение продолжалось почти без перерывов и отличалось обычною фантастичностью? Так, некий врач Филиппи для чего-то прожег ему затылок ляписом, доктор Франк наложил на живот какой-то злокачественный пластырь, который, по словам Глинки, в короткое время «погубил» его нервы и довел «до отчаяния и до тех фантастических ощущений, которые называются Sinne-T?uschungen, hallucinations[8 - иллюзорные ощущения, галлюцинации]». Наконец в феврале 1833 года, по совету врачей, наш композитор предпринял поездку в Венецию. Но, едва успев осмотреть достопримечательности города, он опять захворал и снова попал в руки врачей. На этот раз страдальцу начали промывать желудок, а потом пустили кровь. Нужно ли упоминать, что и в Италии к услугам Глинки были предоставлены ненавистные ему серные воды и ванны?..
Мы так часто говорим о недугах нашего композитора потому, что они действительно составляли крест всей жизни его. Лечение же этих недугов и сами лекаря часто бывали курьезны до невероятной степени. Вот еще один пример. В 1831 году в Милане судьба столкнула Глинку с неким синьором Поллини, который был, по его словам, очень замечательный музыкант, искренно любил свое искусство и писал оперы. Но заметив, что в этом роде он ничего не произвел особенного, Поллини решил испытать свои силы на другом поприще, и успех скоро увенчал его новые труды. Он нажил целое состояние, изобретя декокт «rob antisyphilitique», бутылку которого, под названием «eau de M. Роllin»[9 - вода г-на Поллена (фр.)], продавал по червонцу. Нечего и говорить, что этот декокт не миновал Глинку как субъекта «золотушного расположения». Однако действие нового лекарства оказалось столь вредным, что сам изобретатель скоро испугался и посоветовал прекратить лечение.
Все эти тяжелые ощущения постоянных страданий не могли, конечно, не отразиться и на душевном состоянии Михаила Ивановича. Болезненное настроение души сказалось уже в его последних итальянских произведениях, а по поводу написанного около этого времени «Трио» (для фортепиано, кларнета и фагота) артисты-исполнители покачивали даже головами и что-то говорили о «disperazione»[10 - отчаянии (ит.)] маэстро. Постепенно им стало овладевать чувство недовольства, неудовлетворенности, скоро перешедшее в определенное ощущение тоски. Итальянские впечатления с каждым днем все более и более теряли свою яркость и увлекательность. Сама музыка Италии, прежде так восхищавшая композитора, теперь как будто тоже потеряла для него свое значение. Правда, эта музыка оставалась все такой же упоительно нежной и сладкой, но теперь она начинала казаться Глинке именно уже слишком сладкой и даже приторной. «Недостаточно разнообразна эта музыка, – думалось теперь композитору, – и при недостатке разнообразия еще чего-то другого не хватает ей». Но чего же именно в ней не было? И Глинка упорно задумывался над этим вопросом. Начиная с 1833 года, он вообще очень мало писал, но зато тем больше размышлял и постепенно пришел к заключению, что итальянской музыке, главным образом, недоставало глубины. И чем более прояснялись взгляды Глинки на итальянскую музыку, тем труднее и труднее становилось ему подделываться под царившее кругом итальянское «sentimento brillante», которое композитор определяет как «ощущение благосостояния – следствие организма, счастливо устроенного под влиянием благодетельного южного солнца». Действительно, все кругом веселилось, пело и наслаждалось жизнью и своим sentimento brillante, a северный музыкант все более и более задумывался и уходил в себя. «Нет, – думал он, – мы, жители севера, чувствуем иначе; впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу…» «У нас или неистовая веселость, или горькие слезы». «Даже любовь у нас всегда соединена с грустью». И постепенно в душе композитора, на время усыпленной было сладкими мелодиями Беллини и Россини, начали воскресать старые, полузабытые напевы далекого детства на родине.
В последнее время его часто можно было видеть с опрятным изданием Giovanni Ricordi в руках: там были собраны все итальянские произведения Глинки, все то, что в разное время написал он в угоду жителям Милана. Молча и машинально перелистывал автор красивое издание и задумывался, убеждаясь, что никогда он не мог быть искренним итальянцем и что искренно он мог писать только по-русски.
Таким образом, Италия постепенно теряла для Глинки все свое очарование; итальянское искусство стало удовлетворять его все меньше и меньше; в душе возникали задачи и планы совершенно иного, нового направления. Наконец нашего маэстро потянуло домой, и в скором времени это новое стремление усилилось до необычайной степени. Овладевая душою Глинки все более и более, оно наконец приняло совершенный характер душевного недуга, известного под названием «ностальгии» (тоски по родине). Так совершался в душе композитора тот душевный переворот, который отвлек его от бесплодной и неблагодарной роли подражателя и впоследствии направил на путь самостоятельного творчества в сфере русской народной музыки.
В июле 1833 года Глинка получил известие, что сестра его, Наталья Ивановна Гедеонова, приехала с мужем в Берлин, и он тотчас решил ехать туда же (из Берлина было все-таки поближе домой, да и сестру он любил очень искренно). Таким образом, в июле 1833 года Глинка покинул Италию и при этом, к удивлению своему, не испытал ни сожаления, ни вообще какого бы то ни было тягостного чувства. В самом деле, не странно ли? Давно ли наш композитор так горячо стремился в Италию, тогдашний центр музыки par excellence[11 - по преимуществу (фр.)], и не более как три года спустя в этом самом центре, так сказать у очага итальянской музыки, тот же самый Глинка осудил ее – и осудил со всею решительностью глубоко убежденного человека. Не заключался ли в этом осуждении настоящий и самый беспристрастный приговор итальянской музыке вообще?..
Путешествие в Берлин предпринято было через Тироль и Вену. После роскошной итальянской природы Вена показалась Глинке несколько мрачною, особенно, может быть, по причине усилившихся физических страданий. Впрочем, в австрийской столице ему пришлось пробыть очень недолго: врачи скоро выпроводили его на воды в Баден. «Воды баденские, – пишет Глинка, – весьма сильны; они состоят из серы и квасцов…» Словом, на сцену опять выступили смешные серные воды. Однако ему в то время было не до смеха. Здоровье его становилось хуже, чем когда-нибудь; с другой стороны, открылась тоска по родине, к тому же и недавно пережитые в Италии душевные волнения далеко еще не улеглись и давали себя чувствовать очень осязательно. Перечитывая в автобиографии описание этого периода жизни Глинки, выносишь о его личности совершенно лирическое впечатление. В это время у него служил какой-то нанятый в Вене лакей; положение страдающего композитора было так тяжело физически и нравственно, что тронуло сердце даже этого лакея. Ему обязан был Глинка многими мелкими и даже не мелкими для наемного человека услугами (живя в дорогом Бадене, композитор успел совершенно истощить свой запас денег). Этот добрый человек ухаживал за больным иностранцем самым добросовестным и внимательным образом, развлекал его сколько мог, гулял с ним по Бадену, а гулять с Глинкою в то время уже значило водить его – так слаб был наш бедный соотечественник. И вот однажды, во время такой печальной прогулки, прислужник завел его к какому-то католическому священнику. В доме оказалось фортепьяно. Глинка сел и стал перебирать грустные аккорды, постепенно увлекаясь своею импровизацией. Наконец из-под пальцев музыканта полились такие скорбные звуки, что добрый патер был поражен и воскликнул: «Как можно в ваши лета играть так грустно?..»
В сентябре 1833 года больной, немного оправившись, добрался наконец до Берлина и был встречен горячо любимой сестрою и зятем.
Устроившись затем с квартирой и прочими делами, Глинка прожил в Берлине около полугода; но это время, оказавшееся очень полезным для его музыкального развития, не богато внешними фактами. Важнее всего в этом периоде знакомство композитора с известным берлинским теоретиком Деном, у которого он брал уроки теории музыки и контрапункта в течение всего времени своего пребывания в Берлине. Этот Ден принес, по-видимому, действительную пользу Глинке, приведя в порядок его многосторонние, но очень разрозненные сведения. О нем композитор постоянно отзывается с самой теплой благодарностью и симпатией. «Нет сомнения, – говорит он, – что Дену обязан я более всех других моих maestro».
Учась, однако, теории у Дена, Глинка в то же время не покидал и самостоятельной композиторской деятельности. Так, в это время в Берлине были написаны романсы «Дубрава шумит» (на слова Жуковского), «Не говори, любовь пройдет» (на слова Дельвига), вариации на тему «Соловья» (Алябьева), «pot-pourri» из нескольких русских песен для фортепиано в четыре руки, а также этюд увертюры-симфонии на русскую тему.
Положим, что эта «русская» тема была разработана совершенно по-немецки, как то признает и сам Глинка, но один выбор русской темы, это тяготение в сторону национальной русской музыки уже очень характерны. Значит, никакие наслоения итальянской музыки, ни немецкая музыка Берлина не могли заглушить окончательно таившийся в сердце музыканта живой источник русской национальной музыки, единственно ему свойственной. Значит, никогда не умирало врожденное, всосанное, так сказать, с молоком матери тяготение этой родной народной музыки. В Берлине же, после внутреннего переворота, незадолго перед тем пережитого композитором, это тяготение стало для него все более и более проясняться. Там же, то есть в Берлине, были написаны такие вещи, как «Песнь сироты» из «Жизни за Царя» и первая тема Allegro увертюры.
Все это были, так сказать, предвестия нового направления, которому отдавался Глинка более и более. Но для того, чтобы поворот совершился окончательно, для того, чтобы пробудившееся в душе композитора «русское» чувство могло проявить себя капитальными и яркими образцами истинно национальной музыки, – для этого не хватало еще нашему музыканту родного воздуха, родной обстановки и всей совокупности впечатлений дорогой отчизны, со всеми ее хорошими и дурными сторонами. Словом, нужна была родная почва, нужен был «дым отечества»…
В апреле 1834 года Глинка совершенно неожиданно получил известие о смерти своего отца и тотчас же стал собираться в дорогу домой. В том же апреле он уже был на пути в Россию.
Глава IV. Жизнь в Петербурге
Возвращение в Новоспасское. – Поездка в Москву. – Первая мысль о национальной русской опере. – Жизнь в Петербурге. – Первое знакомство с М. П. Ивановой (впоследствии женой Глинки).– Жизнь в семействе А. С. Стунеева. – Знакомства Глинки. – А. С. Даргомыжский. – Музыкальные работы 1834 года.
По приезде в Россию Глинка сначала уединился в Новоспасском и прожил в совершенной тишине некоторое время, пока его снова не потянуло в свет.
Первая поездка имела целью Москву, где проживал давнишний приятель Михаила Ивановича – Мельгунов. Там написал он известный романс «Не называй ее небесной» (слова Павлова) и там же окончательно поселилась в уме его мысль о создании русской оперы. Слов у него еще не было, но в воображении уже бродили многие мотивы и даже целые сцены первой его оперы «Жизнь за Царя». Некоторые отрывки он даже играл уже на фортепиано. «Вообще, – прибавляет Глинка, – все время пребывания моего в Москве я провел очень весело».
И однако… тотчас по возвращении в Новоспасское (то есть спустя всего три месяца по приезде в Россию) наш композитор подал прошение о заграничном паспорте. Биографы обходят молчанием это не особенно понятное обстоятельство, и автобиография также не дает никаких объяснений такой поспешности, а между тем она могла бы навести на размышления… Неужели «дым отечества» только казался приятным из прекрасного далека? Но Глинка (по крайней мере в автобиографии) не жалуется на свои русские впечатления этого периода. Или и в самом деле русским художникам удобнее изображать Россию из-за границы и наш композитор, обновив свои впечатления, захотел обработать их вдалеке? Может быть также, что решение Глинки вызвано было его постоянной страстью к передвижениям и путешествиям. Так или иначе, вопрос этот, за недостатком достоверных объяснений, должен остаться открытым.
Как бы то ни было, в августе паспорт был выдан, и Глинка выехал из Новоспасского на Берлин, куда, однако, не доехал по не зависящим от него обстоятельствам. К числу этих обстоятельств относится то, что проездом в Берлин он должен был побывать в Петербурге, где в то время жила его мать и одна из сестер. Дамы проживали у родственника семейства Глинок, Алексея Степановича Стунеева. Здесь же должен был остановиться наш композитор, и первое, что он увидал там, была молодая, хорошенькая девушка, также родственница Стунеевых. Звали ее Марья Петровна Иванова.
Здесь, может быть, кстати будет напомнить читателю, что у Глинки было мягкое сердце, доступное всяким нежным влияниям, а впечатления, производимые на него дамами, были очень часто неотразимы. У Марьи Петровны же кроме молодости и миловидности была еще некоторая врожденная грация, как это сейчас же заметил композитор, и потому не нужно уверять читателя, что он скоро увлекся этой «врожденной грацией» и миловидностью.
Карета, которую заботливая Евгения Андреевна, матушка Глинки, купила для сына, боясь, как бы не повредила ему на пути в Берлин осенняя сырость, – эта карета уже давно стояла готовая к путешествию, но только сам путешественник не был готов к нему. Он не спешил с отъездом и очень зажился у А. С. Стунеева, который, кстати сказать, был страстный любитель музыки. Да, он чрезвычайно любил музыку вообще и в особенности романсы, а романсов тогда обращалось в публике как-то особенно много, потому, быть может, что писали их во множестве даже и те любители, которым лучше было бы совсем не писать никакой музыки. Стунеев же пел обыкновенно не только сам мотив романса, но и все слова его, то есть часто длиннейшее стихотворение. И «когда, бывало, – говорит Глинка, – Алексей Стунеев сядет в свободный час за фортепиано и возьмется за романсы, то начнет петь один за другим по порядку, не пропуская ни одного куплета, хотя бы их было множество. Мы с Марьей Петровной пользовались его увлеченьем и усердно шушукали, сидя на софе, между тем как Стунеев приходил более и более в восторг…» Но здесь мы прерываем цитату для следующего маленького отступления: не кажется ли читателю очень правдивой и характерной эта вполне отечественная сценка? Настоящий музыкант сидел на софе и «усердно шушукал» с Марьей Петровной, более всего наблюдая, чтобы певец как-нибудь не обернулся в сторону влюбленных, а восторженный дилетант, пораженный музыкальным аффектом, в то же время выходил из себя, чтобы вернее изобразить глубокий драматизм исполняемого романса. Все средства были в ходу: и голосовые, и фортепианные; педалью особенно злоупотреблялось, а низкие ноты начинали производить впечатление действительно пугающее, так что за исполнителя становилось страшно… Теперь представьте, что должен был думать в это время настоящий музыкант, особенно если принять во внимание, что вся энергия певца, все его душевные силы употреблялись на воспроизведение какого-нибудь наивнейшего образчика музыкальной лирики тридцатых годов, когда Гурилев, Варламов и немногие другие были последним словом этой лирики, когда все остальное было еще гораздо ниже и Гурилева, и Варламова! Мы задаем себе вопрос, что должен был в это время думать и чувствовать настоящий музыкант, сидевший с Марьей Петровной на софе?..
Однако мы уже сказали, о чем он в это время думал. Он зорко наблюдал, как бы вдохновенный певец не обернулся в сторону софы. «Я признаюсь в плутовстве своем, – говорит Глинка. – Хотя он (А. С. Стунеев) пел нещадно в нос и выговаривал слова топорным образом, я не только поощрял его к пению, но даже и разучивал с ним новые романсы». (А их, как сказано, было тогда очень много.)
Но оставим пока в стороне личную жизнь Глинки и посмотрим, что происходило в то время вокруг него. Надо помнить, что весною 1834 года в Россию приехал не какой-нибудь неизвестный музыкант-авантюрист, а уже хорошо знакомый русской публике и даже знаменитый композитор М. И. Глинка. Всем интересующимся музыкою были тогда известны его романсы (особенный фурор произвел тогда московский романс «Не называй ее небесной», упрочивший за Глинкой славу неподражаемого романсиста). Известна была его итальянская музыка, достаточно обильная; известна была, наконец, и сама личность его, возбуждавшая во всех одни только симпатии. И вот нашего композитора стали посещать всевозможные дилетанты и любители музыки. Посещений этих было так много и они надоедали так сильно, что обстоятельство это Глинка счел нужным отметить даже в своей автобиографии.
Большинство посетителей, как мы сказали, были скучны и только надоедали; но среди них попадались иногда и люди совсем других свойств. Так, пришел однажды маленького роста человек, сначала произведший на Глинку одно только отрицательное впечатление. В автобиографии последний рассказывает о нем несколько насмешливо. Но когда наш композитор поближе познакомился с ним, то нашел, что под смешной наружностью маленького человека скрывался великий музыкальный талант. Посетитель этот был Александр Сергеевич Даргомыжский. В самом деле, этот человек являлся в то время едва ли не единственным русским ценителем, могшим правильно определить значение и величие нашего композитора…
Между тем сам Глинка, несмотря на блаженные ощущения счастливого жениха, тогда овладевшие им всецело, не переставал работать. Около этого времени, то есть зимою 1834 года, был написан романс «Инезилья» (слова Пушкина) и другой, имеющий большое биографическое значенье, – «Только узнал я тебя».
Этот последний романс, по собственным словам Глинки, имел в виду невесту композитора, г-жу Иванову, потому что, как говорит он сам, «склонность его к Марье Петровне нечувствительно усиливалась».
Но тут мы позволим себе небольшое лирическое отступление.
«Только узнал я тебя»… О Боже!.. Подумать только, до какой степени властны иногда пустые миражи над душой человека, над светлой душою и ясным умом даже великого человека! Подумать только, как иногда совершенное ничто способно отуманить глубокий ум и чистое, искреннее сердце! «Только узнал я тебя»… Какою глубокой, скорбной иронией должны были звучать для автора романса лет через пять после женитьбы эти страстные слова любви! Как должен был жалеть бедный маэстро о том, что он в свое время так увлекся чувством, которого не стоила его нареченная невеста. Подумайте, читатель, что через несколько лет после женитьбы несчастный композитор должен был выслушивать от своей жены упреки между прочим за то, что «он изводит слишком много нотной бумаги»!..
Но все это случилось потом, а пока, то есть зимою 1834/35 года, Глинка чувствовал себя совершенно счастливым и как жених, и еще более как автор, в душе которого нарождалось одно из величайших творений русской музыки. Создание это было совершенно оригинально, совсем не похоже на все то, что писалось тогда на Руси; оно было ново, прекрасно, истинно велико… Мы говорим об опере «Жизнь за Царя».
Глава V. Опера «Жизнь за царя»
Литературные вечера у Жуковского —Барон Розен. – Работа над оперой «Жизнь за Царя». – Женитьба, – Жизнь в Новоспасском. – Возвращение в Петербург. – Постановка «Жизни за Царя» на сцене.
Той же зимой 1834/35 года Глинка возобновил свои прежние литературные знакомства, у Жуковского, проживавшего тогда уже в Зимнем дворце, еженедельно собирались представители литературы и музыки, из числа которых композитор упоминает о Пушкине, Гоголе, кн. Вяземском, Одоевском, гр. Виелъгорском и пр. На этих-то вечерах постоянным гостем был и наш тогда уже очень известный маэстро. И там Глинка сообщил однажды некоторым членам этого избранного кружка о замышляемой им опере и о новых началах, какие думал он положить в основу произведения. Весь кружок приветствовал Глинку самым сердечным образом. Эти лучшие представители искусства, таким образом, поняли и оценили важность и значение первого образца новой, истинно русской музыки, притом даже до появления его в свет… Но как редко – и зачем это редко! – выпадает такое счастье на долю всякого рода новаторов?
Итак, проект нашего композитора был принят и, так сказать, одобрен на вечерах в Зимнем дворце. Затем Жуковский предложил Глинке сюжет «Ивана Сусанина» и даже собирался сам писать слова оперы, чего ему, однако, не удалось сделать к большому сожалению всех, кто понимает и любит музыку оперы «Жизнь за Царя». Как бы то ни было, в конце концов случилось так, что русские слова новой русской оперы попали в руки барона Розена, усердного литератора из немцев, который, по собственным его словам, умел сочинять «самалучший поэзия». Надо, впрочем, сказать, что этот барон оказался во многих отношениях довольно пригоден Глинке, ибо мог писать стихи каких угодно размеров, в каком угодно количестве и поспевал всегда к заказанному сроку. Такие качества, говорим мы, оказались полезными для композитора, потому что в это время вдохновение вспыхнуло в нем необыкновенно ярко и теперь затопляло его воображение необыкновенным обилием тем. Тогда, покинув своего барона, музыкант принялся писать без слов, так что бедному немцу пришлось догонять Глинку и уже потом приделывать слова к готовой музыке. «Барон Розен, – говорит Глинка, – был на это молодец; закажешь, бывало, столько-то стихов, такого-то размера, двух-, трехсложного и даже небывалого – ему все равно; придешь через день, уж и готово». Правда, тут случалось иногда, что мысль и даже размер не подходили к музыке и не согласовывались с нею; тогда между музыкантом и либреттистом возгорался ожесточенный спор, причем «поэтический» немец проявлял необыкновенное упорство. Каждый свой стих он отстаивал с необыкновенной энергией и на все возражения Глинки отвечал: «Вы не понимает, это самалучший поэзия…» Но, быть может, читатель заметил, что описываемые сцены начинают принимать у нас несколько балаганный характер. Увы! Бее описываемое, к сожалению, происходило в действительности. Да, трижды увы, но все-таки приходится признать, что именно так писалась первая настоящая русская опера, драгоценный залог будущего развития национальной русской музыки. Мы берем наши смешные картинки из первых рук, то есть из собственноручных записок Михаила Ивановича Глинки, – так он рассказывает все эти печальные курьезы.
Но оставим барона сочинять его стихи (в течение двух месяцев, то есть за март и апрель 1835 года, он успел изготовить слова первых двух актов оперы) и возвратимся теперь к ни в чем не повинному Глинке.
Зима 1834/35 года проходила, композитор работал над своей оперой со всем упорством страсти. Начал он так, как, разумеется, ни один автор не начинает, именно с увертюры, и очень быстро написал ее для фортепиано в четыре руки. Инструментовка также не заставила себя ждать. А затем вдохновение уже положительно овладело им. Темы разных мест оперы приходили ему в голову одна за другою совсем готовые, часто уже прямо отлитые в контрапунктические формы. Оставалось только записывать, и при этом нужно было торопиться, потому что наплыв новых идей переполнял возбужденное артистическим восторгом воображение композитора. Это было не просто творчество, это была какая-то лихорадка творчества, и немудрено, что бедный барон Розен не поспевал за таким порывистым клиентом.
Для Глинки это была вообще очень бурная зима. К интересам искусства примешивались у него интересы все возрастающей любви к Марье Петровне Ивановой. Живя в одном семействе Стунеевых, влюбленные, естественно, всё более сближались, а пылкий артист идеализировал возлюбленную без милосердия. Теперь ее личность сливалась для него с поэтическими грезами из области музыки. Выше мы уже говорили о романсе «Только узнал я тебя», где всецело имелась в виду Марья Петровна. Теперь, под впечатлением ее же личности, так произвольно опоэтизированной влюбленным Глинкою, писалась и опера «Жизнь за Царя», где многие номера, без сомнения, вдохновлены ею. Ею, говорим мы, но, может быть, вернее было бы сказать не ею, а тем фантомом, который представлялся очарованным глазам композитора вместо действительно существовавшей г-жи Ивановой. Потому что в действительности она была совсем не пара увлекающемуся, идеальному поэту; «она была плохая музыкантша», – говорил впоследствии бедный Глинка, заметивший это обстоятельство, увы, слишком поздно. «Она была плохая музыкантша»… Подумайте, читатель, как много горечи и грусти содержат эти немногие слова в устах музыканта, дающего отзыв о любимой им женщине… Возвращаясь однажды из концерта, Глинка приехал домой очень потрясенный одной из дивных симфоний Бетховена; и потрясение его было так велико, что даже хладнокровная Марья Петровна встревожилась и спрашивала с участием: «Что с тобою, Мишель?» «Бетховен…» – мог только ответить взволнованный музыкант. «Что же он тебе сделал?» – продолжала она, и бедный Глинка принужден был объяснять, что ему сделал тронувший его до слез Бетховен! Она была плохая музыкантша. Но всем давно известно, что влюбленные вообще и влюбленные артисты в особенности бывают слепы. Известно также, что браки артистов почти всегда бывают неудачны; досадно только, зачем это действительно случается так почти всегда и зачем это случилось с нашим бедным композитором. Расскажем, однако, как все это произошло.
Дождавшись годовщины смерти отца, Глинка написал письмо в деревню, к своей матушке, прося благословения на брак с девицею Марьей Петровной Ивановой. Ответ был получен благоприятный, и сейчас же наш влюбленный сделал официальное предложение, которое, разумеется, и было принято.
Весенние месяцы этого года прошли в неизбежных ухаживаньях, причем в записках Глинки мы читаем: «Минута без невесты моей казалась мне невыносимою, и я действительно чувствовал высказанное в Andante „Не томи, родимый“.» Таким образом, в апреле 1835 года наш композитор уже был женат, – времени влюбленные, как видно, даром не теряли.
В мае Глинка уехал с любимой женою в деревню и там, за работой, в кругу семьи провел действительно счастливо три летних месяца. «Ежедневно утром, – говорит он, – садился я за стол в большой и веселой зале, в Новоспасском нашем доме… Сестры, матушка, жена – одним словом, вся семья там же копошилась, и чем живее болтали и смеялись, тем быстрее подвигалась моя работа» и пр. Таким образом, все шло хорошо сначала. Но… но едва ли дольше трех месяцев продолжалось счастливое супружество нашего композитора. Осенью Глинка возвратился с семейством в Петербург; здесь к нему пришел однажды приятель его Степанов и стал поздравлять приехавшего друга с семейным счастьем. Тогда бедный муж отвечал: «Искренне скажу спасибо, когда ты поздравишь меня через десять лет».
И он, быть может убегая от надвигавшейся семейной грозы, еще с большим жаром отдался своему любимому труду.
Работа подвигалась успешно и замечательно быстро. «Всякое утро, – говорит Глинка, – сидел я за столом и писал по шести страниц мелкой партитуры… Я мало принимал участия во всем меня окружавшем. Я весь был погружен в труд, и хотя уже много было написано, оставалось еще много соображать, а эти соображения требовали немалого внимания». О сцене Сусанина в лесу с поляками Глинка рассказывает так: «Я писал зимою (1835/36 года); всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто читал с чувством вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у самого меня становились дыбом и мороз подирал по коже».
Наконец к весне 1836 года опера «Жизнь за Царя» была окончена. Частными средствами в доме кн. Юсупова устроена была оркестровая репетиция первого акта. Оркестр был, правда, довольно плох, хоров также не исполняли; однако первый акт оказался, по мнению самого композитора, хорош, инструментовка также удовлетворяла его. Но вслед за тем начались утомительные хлопоты о постановке оперы на сцене – испытание, которое судьба сулила, по-видимому, всем оперным композиторам. Директор театров А. М. Гедеонов почему-то не выказывал никакой готовности к принятию оперы на казенную сцену. А между тем музыка нашего композитора в то время была уже достаточно прославлена и имя Глинки не могло, по-видимому, оставаться неизвестным директору театров. Уже, так сказать, по долгу службы Гедеонов должен был знать это имя; но он тем не менее не решался принять оперу на сцену. Очень может быть, что тут следует искать что-нибудь помимо простого непонимания, а с другой стороны, кто не знает про мытарство авторов при помещении своих произведений – история старая и вечно повторяющаяся, да едва ли и не до сего дня.