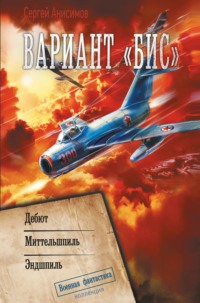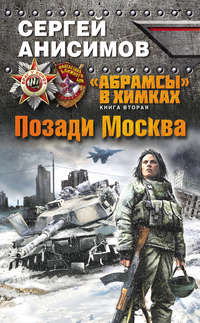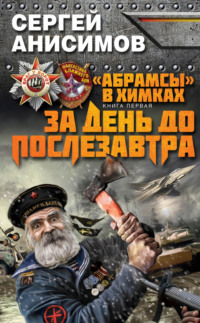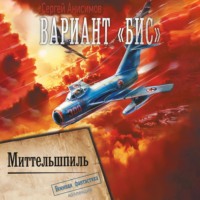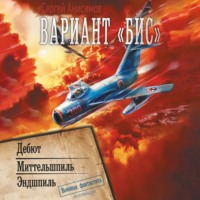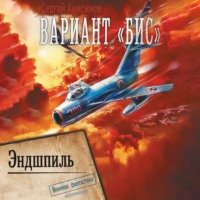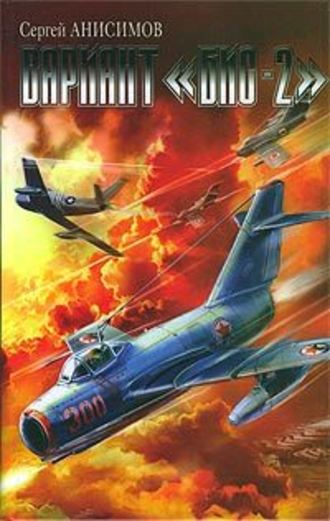
Год мертвой змеи
– Нет, – комполка отрицательно покачал головой. – Второе звено поведет его командир, старший лейтенант Александров. Он отличный летчик, я не сомневаюсь в нем ни на секунду.
– Да я тоже не сомневаюсь, – пожал плечами майор, – но...
Командир полка смерил его тяжелым взглядом: настаивая на своем, Николай Скребо заходил чуточку слишком далеко. Тот этот взгляд интерпретировал совершенно правильно, поэтому опустил глаза и замолчал.
– Вот так, – завершил «обсуждение» Марченко. – Значит, решено.
Как любой нормальный мужчина, он испытывал удовлетворение от того, что способен внимательно и заинтересованно выслушать всех и поступить после этого именно так, как сочтет нужным. Такая возможность предоставлялась не слишком часто даже в авиации, но тактические вопросы полкового уровня были в его компетенции, и если отдаваемые им приказы не являлись «преступными», как невнятно обобщалось в Уставе, оспорить их можно было только после исполнения.
К вечеру этого же длинного дня очередной прибывший из штаба корпуса офицер передал адресованные майору пакеты – опоздавшие на полдня письменные приказы, подписанные начальником штаба всего 64-го истребительного авиакорпуса. «Оказывать всемерную помощь», «приложить все усилия для успешного выполнения» и так далее. Второй комплект подобных же расплывчатых, ничего конкретного не содержащих приказов был подписан командиром 32-й ИАД Гроховецким. Третий – для разнообразия состоящий всего из одного наполовину чистого листа, – главным военным советником СССР при КНА генерал-лейтенантом В. Н. Разуваевым, то есть тем, кто по должности был выше даже самого командующего корпусом, находящегося точно в таком же воинском звании.
Никакого практического значения эти приказы не имели, но корпусной штабист, опять в ранге майора, провел в полку свыше часа, весьма внимательно присматриваясь к тому, как летчики всех трех эскадрилий готовятся к предстоящим утром и в последующий день вылетам, работая с документами и тактическими схемами. Кивнув вышедшим проводить его Скребо и ВСС полка, майор счел нужным «выразить удовлетворение» увиденным и пожелал полку удачи с таким намеком в голосе, что вернувшийся с мороза Аслан уверенно высказался верхушке комсостава в том смысле, что если завтра над линией фронта их не встретит 51-е авиакрыло ВВС США в полном составе, то это его удивит до самых пальцев ног.
Отупев от разговоров и обсуждений, да и от всего остального тоже, Олег машинально посмотрел вниз. Это вызвало у Аслана такой приступ хохота, от которого он не мог отойти минут пять, пока не выпил, лязгая зубами, пару стаканов воды из графина с обколотой крышкой, исполняющего роль груза на стопке уже проработанных им мелкомасштабных карт местности. Нервы. Он волновался и сам, но сам себя уговаривал, что ничего необычного не происходит, волнение нужно себе простить, а не переживать по его поводу. Хвастаться стальными, несгибаемыми нервами – перед кем? Те, кто идет в бой вместе с ним, и те, кто остается на земле в качестве «запасных игроков», в той роли, которая отводилась ему всего несколько недель назад, – те понимают все. А те, кто понимать не собираются, – перед ними выпендриваться незачем, они того не стоят.
Продолжая работать, продолжая делать то, что понимается под обязанностями штурмана истребительного авиаполка и действующего командира авиаэскадрильи, Олег смотрел вокруг, на людей. Кто-то разговаривал сам с собой, не зная, что на него смотрят. Двое старших лейтенантов из его восьмерки, которым предстояло прикрывать военно-морскую базу Йонгдьжин и отход в нее корейского сторожевика, разложили перед собой на столах половину его коллекции карт восточного побережья Корейского полуострова. Карты покрывали все пространство от острова Майянг и аж до Улчина, и теперь офицеры методично проверяли друг у друга основные ориентиры на всех 300 с лишним километрах береговой черты. У одного из них почти не было голоса, и Олег подумал, что если парень не справится с собой, то в завтрашнем вылете ему может прийтись тяжело.
Командир 1-й эскадрильи, идущий в первый послезавтрашний вылет на прикрытие штурмового удара и уже сейчас нервничающий от этого значительно более нормального, натаскивал своих ребят из третьего звена по тактике атаки наземных целей. Увы, как подавляющее большинство старших командиров в дивизии, он не был фронтовиком в значении «воевал в Отечественную», а «разгрома милитаристской Японии» в этом отношении было мало. Как это делается, он знал неплохо, но к сожалению, в основном лишь в теории.
– Главное – не торопитесь, – услышал Олег. – Ни один наземный объект никуда от самолета деться не может. Пушка под землю не зароется, а грузовик в Пусан[84] не уедет. Танк вам не сжечь, а пехота... Это уже не ваша забота. Из «МиГ-15» по пехоте поливать – это, я бы сказал, неуважение к техническому ресурсу.
Кто-то из молодых, переоценивающих свои снайперские способности, возразил, но комэск сравнял его с землей несколькими уверенными фразами, и Олег подумал, что майор зря не берет его самого в этот вылет – пусть даже собственным ведомым. Если ты никогда в жизни не стрелял по чему-нибудь, что стоит на земле, то это может быть непросто, а уж тем более в зимних утренних сумерках. С другой стороны, если им действительно не ставится задача во что-то попасть, то это неважно.
В любом случае, подождав, пока комэск закончит внушение, он подошел поближе и выдал несколько основанных на собственном богатом опыте указаний о том, когда именно пора прерывать заход.
– Если ты думаешь «Ну хоть еще секундочку!» – значит, выводить уже и поздно, – как можно более сурово заметил он тому старлею, который считал себя очень метким. – А если бы ты знал, сколько я видел воткнувшихся в землю на проезде, и что от них остается, ты бы так лицо не морщил сейчас на мои слова. Нам и ты нужен, и твоя машина: завтра каждый истребитель будет на счету. Имей это в виду, когда будешь трястись от восторга, полосуя двадцатитрехмиллиметровками какую-нибудь драндулетину. Понял?
– Да все я понял, товарищ подполковник... – начал было парень, но Олег резко оборвал его – при зримом, между прочим, одобрении комэска.
– Не «да все я понял», а «так точно!». Повторить!
– Так точно, товарищ подполковник, – уже совершенно другим тоном ответил старлей. На его возможную обиду Олегу было наплевать – он не для того столько лет учился на крови и смертях своих боевых товарищей, чтобы забыть все это ради самоуважения одного зеленого пилота.
– Нам в училище преподавали тактику штурмовых ударов. На полигоне мы тоже много работали – и при учебе, и в запасном полку, и в нашем уже. Я хорошо стреляю!
– Да, я знаю, – не моргнув глазом, соврал Олег. – Но стрельба по земляному кругу с меловым крестиком или по солярной бочке на холме – это полигон. Бочка не стреляет в тебя, а завтра в вас будет палить все, что имеет ствол длиннее пистолетного. Это страшно, а если кто-то тебе говорил обратное – так это он тебя обманул. Поэтому не вывести машину вовремя из-за растерянности или, наоборот, азарта – проще простого. Да и защищен «МиГ», ты знаешь, как... Конечно, он живуч, но... У моей бабки в деревне курятник был лучше бронирован. В общем, чтобы я послезавтра не увидел тебя горящим, изволь все сказанное мной и своим комэском осознать и запомнить. Теперь понял?
– Так точно, – не ошибся старлей на этот раз.
– Тогда молодцом. Сказанное относится и ко всем остальным присутствующим...
Встав, Олег оглядел немногочисленных летчиков эскадрильи. Выглядели они не очень. Напряженно выглядели. Выпить бы всем по сто коньяка – и спать до утра. Но нельзя. Рука дрогнет в бою – и «аллес капут», как говорили у них десять лет назад. Значит, со своими нервами надо справляться самим.
С летчиками подполковник провел еще почти четверть часа – рассказывая, объясняя, внушая. Это, возможно, было многовато, но остановиться он не мог: во-первых, от этого становилось легче самому, а во-вторых, не потрать он эти минуты на бесполезные на взгляд стороннего человека фразы о том, какие они на самом деле хорошо подготовленные, обстрелянные, умелые воздушные бойцы – явно лучше многих, кто может завтра пересечься с ними в воздухе над побережьем и линией фронта, – не сделай Олег этого, он потом корил бы себя за все паршивое, что могло произойти.
А произойти могло всякое: как любой реалист, подполковник Лисицын знал это отлично. Полк в полном составе мог сгореть еще на земле – на этом самом поле, находящемся на суверенной территории Китайской Народной Республики, в полусотне километров от настоящей, «официальной» войны. Да и в сотнях километров от нее может случиться что угодно. Американцы наносят штурмовой удар прямо по советской территории, по аэродрому Сухая Речка под Владивостоком, где базируется 821-й ИАП, и потом очень извиняются за произошедшее, и даже наказывают летчиков «за самоуправство». Палубные «Пантеры» с авианосца «Орискани» атакуют звено «МиГ-15бис» из 781-го ИАПа 5-го ВМФ с советскими опознавательными знаками над нейтральными водами, там же, в районе Владивостока[85] – и позднее просто заявляется: «Было сочтено, что они могли представлять угрозу». Трое погибших...
У ребят не было никаких шансов, потому что они не считали, что находятся на войне. А вот здесь, в Аньдуне, таких иллюзий нет, здесь это помнят всегда. В том числе и потому, что уже не раз дрались за небо над собственным аэродромом. И знают, что маскировочные сети – плохая защита от пуль американских крупнокалиберных пулеметов, – оружия отличного во всех отношениях, кроме собственно того, что оно стреляет в тебя.
Потом был ужин – более вкусный, чем обычно, потому что готовили его, уже зная, что полк начинает боевую операцию, не сравнимую со всем, что было раньше. Сидя за столом рядом со своими, на обычном месте между двумя капитанами 2-й эскадрильи: Потаповым и Баклановым, Олег ковырял в тарелке без всякого удовольствия. Можно было не сомневаться, что блюда проверили и фельдшер, и военврач, и командир полка, потому что отрава в еде была еще одним способом выбить полк из строя до взлета. В «ту» войну, да и после нее, летчики не раз гибли от диверсий – между прочим, именно поэтому личному составу дислоцирующихся в Прибалтике, Венгрии и Польше частей строго воспрещалось покупать продукты с рук у местного населения. Олег помнил нашумевшую историю с гибелью в 1945 году, кажется, в Лиепае, группы летчиков-штурмовиков (включая по крайней мере одного Героя Советского Союза), купивших на рынке копченых миног. Но в Прибалтике подобный приказ отменили уже в 1949-м, а в Польше он вроде бы действует и до сих пор...
Здесь же, в Китае, несмотря на хваленые азиатские традиции, нравы были несколько попроще. Тут, скорее, можно было опасаться брошенной в окно гранаты, нежели цианида в гречневой каше со свининой. Но все равно – береженого бог бережет, и если полковой доктор до сих пор жив, значит, он знает свое дело. А то, что еда не лезет в горло, не волнует абсолютно никого – чтобы не отключиться на перегрузках, летчики должны в любом случае питать свое тело углеводами и белками. Это как топливо. Оно может быть разным: сначала бензин, теперь керосин (а бывали самолеты, летавшие и на дизелях). Но у людей свое топливо, и как бы тебе ни было паршиво, чтобы взлететь, надо заставить себя проглатывать одну ложку за другой.
Потом, после позднего ужина, опять были карты, затем снова штаб. И снова «потом» – 2-я эскадрилья, уже прошедшая предварительный инструктаж и «накачку» вместе с остальными, но все равно ставшая объектом его очередного словесного поноса. Понимая, что перебарщивает с разговорами, Олег с трудом заставил себя прекратить нотации и распустил летчиков спать.
Это был приказ. Подъем назначен на 4 часа утра, а невыспавшийся летчик-реактивщик – это почти готовый покойник, поэтому долгих разговоров после отбоя не было. Улегшись в длинной, на 12 комфортных коек комнате, окна которой были глухо оклеены тканью, и выключив единственную имеющуюся тут лампу, летчики почти мгновенно заснули. Послушав с минуту их разнокалиберный молодецкий храп, Олег поднялся с поставленного у двери невысокого табурета, на который на минуту присел, чуть сам не заснув, и осторожно вышел.
– Ну что твои? – спросил он Виктора Семёнова, комэска-3, до сих пор сидящего над картами с карандашом в зубах. Это был единственный комэск в полку, имевший звание майора.
– Ничего... – блеклым голосом отозвался тот. – Готовы, вроде. Но настроение у всех скачет. То «Всех на тряпки порвем. Где вы, суки?!», а то «Что-то мне грудь давит...». Как новички, ей-богу.
– Не новички, – подтвердил Олег. – Но мои почти так же. Ладно. Небо покажет.
– Да, – кивнул комэск. – Это так. Всегда так было, и всегда будет...
– Еще раз пройдемся? – предложил ему Олег, кивнув на разложенную карту, наискосок прочерченную твердыми карандашными линиями – план на завтра и на то же четвертое число. Положенные набок незавершенные восьмерки обозначали зоны барражирования – как над Йонгдьжином, так и в море в двух десятках километров от него. В последнем случае это была условность: с какой бы черепашьей скоростью ни полз корейский сторожевик, фотография которого заставила бывшего морского летчика и кавалера ордена Ушакова 2-й степени брезгливо сморщиться, он не будет стоять на месте. Отсюда – вычерченные азимуты на несколько непрерывно работающих радиомаяков становились почти бесполезны.
– Спасибо, – согласился капитан. – Надо, наверное. Минут десять или пятнадцать – и все, ладно?
Через двадцать минут пришел командир полка – довольный, злой, со щеками, пылающими от мороза: проверял охрану аэродрома. Помня, что новые самолеты могут привлечь внимание слишком многих – в том числе и базирующихся на это же поле китайцев, майор выгнал к самолетам всех бойцов ИАС[86] и БАТО, кто не был занят собственно техническим обслуживанием истребителей и летного поля.
Вдобавок к караулам зенитчиков он создал достаточно плотный внутренний периметр противодиверсионной обороны. «Большой», то есть внешний, был в Аньдуне постоянным, его основу составляли китайские бойцы, – но в последние дни их усилили еще и дополнительно. Командир пополнения, явившись представиться утром, произвел весьма благоприятное впечатление на всех, кроме военпереводчика. У китайского офицера, невысокого крепыша с неожиданно ярко-рыжим цветом волос, не хватало половины передних зубов, выбитых то ли пулей, то ли ударом вражеского приклада, и переводить его речь было тому, наверное, не в радость.
– Спать, – приказал командир полка всем офицерам, кто еще работал, пытаясь доделать никогда не кончающиеся мелочи, относящиеся к висящему над всеми завтрашнему дню. – Всем спать, подъем отменен не будет. Кто знает, когда завтра уснем, ребята...
Олег едва не сплюнул на пол, раздосадованный оговоркой командира. Майор Скребо, стоящий за его правым плечом со сложенной картой в руках, владел собой чуть хуже и поэтому грязно и с чувством выругался, отгоняя неудачу. Примерно также, только пооднообразнее, ругался командир китайского авиаполка – явно старавшийся, чтобы они с Владленом чувствовали себя, как дома.
Похоже, спать не хотелось никому, но это значения не имело. Сон – это тоже вид топлива для людей.
Ни один нормальный боевой летчик не бреется утром. В умывальной душевой комнаты, где горячая вода имелась круглосуточно, у висящего на стене надтреснутого зеркала столкнулись сразу трое майоров, включая командира 3-й эскадрильи, а также подполковник Лисицын.
– Удачи нам всем, – негромко произнес Олег, оказавшийся последним в очереди. Глядя в зеркало, он провел по тщательно выбритому лицу мокрой пятерней и с чувством стряхнул холодные капли на пол, в сторону.
Ну, вот и все на сегодня. Перед тем как войти в затемненную комнату, наполненную дыханием нескольких спящих мужчин, Олег посмотрел на часы. Стрелки показывали без одной минуты полночь.
Узел 6.2
2-3 марта 1953 года
День был паршивым с самого начала. Дело было даже не в жестоком осте, гнавшем по морю тяжелые волны, украшенные пенными гребешками, – ходившего в Атлантику моряка ветром не удивишь. Дело было в том поганом предчувствии, которое мучило Алексея с самого утра. Поставленные командованием задачи не подлежали обсуждению, но вот почему корейцы не способны защитить свой единственный на этом побережье минный заградитель специальной постройки от способного угробить его похода, не имеющего отношения к прямому назначению корабля, он искренне не понимал.
Флаг-минер обладал достаточно высоким рангом, чтобы выйти на командующего ВМФ KНA напрямую – в конце концов, флот у КНДР был настолько микроскопическим, что каждую лохань требовалось беречь, как зеницу ока, но ничего не произошло. Флагманский минер, благосклонно напутствовав военсоветника Вдового, укатил в Пхеньян на второй день после успешной операции – то есть похода, закончившегося благополучным возвращением минзага в Йонгдьжин. Алексей и переводчик Ли остались, и состоявшаяся в ночь с 24 на 25 февраля следующая оборонительная минная постановка прошла так же без сучка, без задоринки. Результатом этих двух боевых выходов стало 28 выставленных на коммуникациях мин, причем командир минзага ни капли не сомневался, что драгоценные «КБ» были выставлены им в нужных точках и с абсолютно верными установками глубин.
К утру 26 февраля пришедшая в Йонгдьжин баржа доставила первую порцию давно обещанных минных защитников, и в третий боевой поход «Кёнсан-Намдо» (это название советский военсоветник все-таки сумел заставить себя запомнить) взял их все. Алексей надеялся, что походы, каждый из которых стоил ему, остававшемуся на берегу, года жизни, имеют какой-то смысл, что американцы и лисынмановцы теряют на выставленных минах баржи, что появившиеся в этих водах минные защитники осложняют их траление – но точно ничего известно не было. Увы, в минной войне это нормально.
В столовой ВМБ Йонгдьжин, такой же совместной для комсостава и матросов, как и поразившая в свое время его воображение столовая в Нампхо, висел красочный плакат «Гибель тральщика интервентов» с крупным блоком текста. Изнывая от напряжения в ожидании возвращения «Кёнсан-Намдо» из третьего похода, Алексей заставил Ли перевести ему текст с начала и до конца и остался разочарованным. В тексте было слишком много деталей для того, чтобы он был правдой: в то, что на «Магпи» (как изображенный тральщик назывался, судя по названию, жирно выписанному на его пылающем борту латинским шрифтом) американцы могли потерять почти две трети экипажа, он почему-то не слишком поверил. Плакат был старым, а на заре этой войны корейцы не слишком утруждали себя доказательствами: присвоение в 1950 году первого в корейском флоте звания Героя Корейской Народно-Демократической Республики командиру отряда «морских охотников», якобы потопивших в одном бою аж два американских эсминца, широко освещавшееся в советских газетах, не вызвала на советском флоте ничего, кроме усмешек. Чем может «морской охотник» потопить или даже повредить эсминец? Передовой марксистско-ленинской философей? Беззаветной преданностью делу освобождения юга страны от иноземных захватчиков и их приспешников, предателей-лисынмановцев? Этого, к сожалению, мало – а то бы дно вокруг корейских берегов давно стало бы звенящим от обилия мертвых стальных остовов вражеских кораблей.
– Товарищ военный советник...
Угу, это товарищ Ли. После того, как Алексей утром огрызнулся на него несколько раз подряд, переводчик разумно куда-то делся и появился только к середине дня, когда капитан-лейтенант советских ВМФ Вдовый был по локоть вымазан неотмываемой с кожи зимней оружейной смазкой и уже почти дословно понимал, что ему говорит такой же измазанный матрос-кореец, с которым они на двоих перебирали механику 45-миллиметрового полуавтомата. В качестве зенитной пушки этот полуавтомат, представляющий собой развитие танкового орудия, был полным убожеством. В советском флоте он, за редкими исключениями, вроде старых и учебных подводных лодок, вооруженных ледоколов и нескольких не выведенных еще из состава флота импровизированных сторожевиков, уже повсеместно снимался с кораблей, но для Кореи он был почти неплох.
Произведенная где-то в промежутке между 1935-м (до этого полуавтоматики на установке не было) и 1947 годом (когда он превратился из «21-К» в «21-КМ», отличающуюся рядом характерных деталей) 45-миллиметровка была Алексею отлично знакома. Во всяком случае, такая установка достаточно проста и надежна в эксплуатации, и к ней было полно снарядов: не нужных уже в таких количествах Советской Армии и потому потоком идущих в Корею. Практическая скорострельность пушки большой роли не играла: двух имеющихся на минзаге установок вполне хватало отпугнуть какой-нибудь патрульный катер, а попасть из них в атакующий самолет в любом случае можно было только случайно. Алексей искренне предпочел бы еще один спаренный «ДШК» вдобавок к имеющейся одноствольной установке – но дареному коню в зубы не смотрят ни на Руси, ни в Корее.
– Явился! – демонстративно радостно поприветствовал он переводчика. – Это замечательно. Что делает товарищ Чен?
– Товарищ флагманский минер находится в Пхеньяне.
Если Ли и пытался изобразить ответную иронию, то это у него не получилось. А может, он просто иронии и не понял – хотя то, что флаг-минер находится в 350 километрах от места, где вот-вот будут гробить лучший боевой корабль флота с достаточно опытным уже экипажем, должно было касаться его в первую очередь.
– Ладно, – махнул Алексей грязной ладонью, едва сдерживаясь, чтобы не потереть лицо, стянутая ветром кожа которого отчаянно чесалась. – Переведи этому парню, что пора заканчивать, я уже замерз как собака.
Китаец с полминуты помолчал, переваривая идиому, потом, глядя в небо, произнес неожиданно длинную фразу на корейском. Матрос, выслушав, захихикал, а потом, как ребенок, изобразил собачий лай.
Bo-во, – подтвердил Алексей. Половину кожи оставили на железе Давай, заканчиваем.
Отогрев пальцы дыханием, он помог матросу закончить сборку, не обращая внимания на мнущеюся позади и явно тоже мерзнущего переводчика. Вытирая руки давно намасленной и плохо мнущейся на морозе ветошью, оба улыбнулись друг другу. Сзади подошел командир минзага, в своей вечной ушанке с вырезанной из монетки медной звездочкой по центру.
– Большое спасибо, товарищ, – перевел Ли. – На испытаниях из этой пушки дважды были... осечки.
Последнее слово переводчик произнес с некоторым сомнением, но Алексей кивнул, и тот тоже кивнул в ответ, успокоенный. Грамматика в прозвучавшей фразе несколько хромала, но поскольку смысл все равно был понятен, то обращать на это внимание Алексей не стал, хотя Ли обычно такое только приветствовал. Немножко пообсуждав поведение полуавтомата и выдав обоим корейцам несколько полученных еще в училище советов по его боевому применению, капитан-лейтенант замерз окончательно; и окончание разговора пришлось скомкать. Алексею показалось, что Ли тайком ухмыльнулся, но мерзнущий в Корее русский человек – это действительно было забавно, поэтому он не обиделся.
К четырем часам дня, потратив целых двадцать минут на достаточно скромный обед, вкуса которого он просто не осознал, Алексей вернулся к «сараю», под который был замаскирован минзаг. Итак, минной постановки сегодня ночью не будет. Это, разумеется, плохо. Будет отдых. Возможно, какая-то полезная черта в происходящем есть, потому что если там, где мины ставили уже трижды, за последнюю неделю кто-то подорвался, или хотя бы если новые минные банки обнаружены противником при профилактическом тралении, несколько последующих дней каждый задрипанный сторожевик будет смотреть в оба в надежде обнаружить наглый минный заградитель.
«Эх, эсминец бы сюда», с завистью подумал Алексей, с болью разглядывая убогий «Кёнсан Намдо». Название было смешным: наверняка корейские моряки испытывали острое удовольствие, назвав свой корабль в честь одной из самых южных провинций будущей Объединенной Кореи – оккупированной сейчас врагом, но все равно считающейся своей, родной землей. Надо признать, такие мелочи им всегда хорошо удавались. Но, как всегда, этого было маловато, чтобы победить.
Подняв голову, Алексей посмотрел в море. Море было не то, другое, но выглядело оно точно так же, как море, омывающее западное побережье полуострова, где держались советские корабли. «Москва» – красивейший, великолепно вооруженный и быстроходный линейный крейсер, а с ним два легких крейсера и еще несколько боевых единиц. Как «Москва» бронирована, Алексей точно не знал, но предполагал, что не меньше, чем его родной «Кронштадт». Служить на «Москве» было бы здорово – под защитой брони и могучих корабельных орудий, в окружении своих, советских людей, под командой самого Москаленко, держащего на линейном крейсере вице-адмиральский флаг. Но эскадра была далеко, и ей почти наверняка не было никакого дела до судьбы советского капитан-лейтенанта, «советующего» корейцам, как обслуживать мины заграждения, как правильно устанавливать их на вражеских коммуникациях и у собственных берегов, как не попасть в объектив вражеского авиаразведчика или в прицел штурмовика или бомбардировщика, а также все остальное, что относится к его профессиональным обязанностям. И даже свыше того – от проводимых через переводчика политинформаций среди матросов и бойцов подразделений береговой обороны и до помощи с переборкой узлов сделанной на расположенном где-то в глубине Союза «заводе № 8» 45-мм морской пушки.