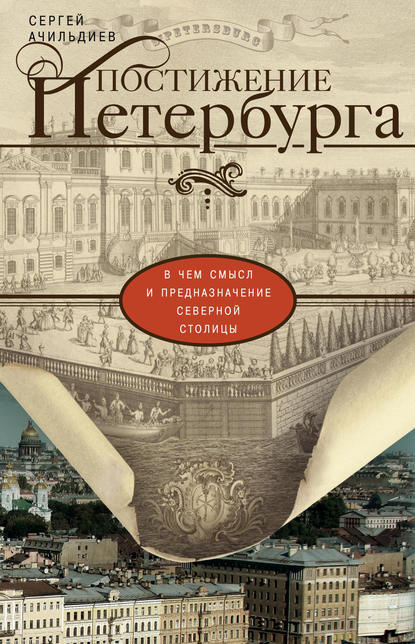По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Допустим, Пётр 16 мая и вправду участвовал в основании города. Но тогда закладка крепости наверняка ознаменовалась бы «праздничным шумом, весельем, торжественными тостами, шутками, пушечной и ружейной пальбой», которые царь – в этом Александр Шарымов совершенно прав – действительно любил. Между тем ни документальных свидетельств, ни даже легенд об этом не существует. Зато хорошо известно, что 29 июня, когда в день святых Петра и Павла на острове был заложен храм обоих апостолов, торжества и вправду состоялись, в частности «был отправлен банкет уже в новых казармах» [34. С. 11].
На самом деле нет ничего противоестественного в том, что 16 мая Пётр находился в Лодейном Поле, а значит, своими руками «царствующий град» не основывал. Ведь ни о каком городе, а тем более о новой столице, он тогда ещё не помышлял, речь шла, повторяю, только о крепости. А также о возможной царской резиденции. 7 мая канцлер Фёдор Головин направил письмо послу при польском дворе, и тот, на основании этого послания, известил местный дипломатический корпус, что «царское величество… в нынешнем времяни от неприятеля немалую крепость взял и порт на Балтийском море… где ещё может (курсив мой. – С. А.) заложить и свою монаршескую резиденцию, чего ради его государство лутчие будет иметь с их государствы торги и корешпонденцию» [8. С. 280].
И по поводу того, в какой день новый город получил своё имя, долгое время тоже не было ясности. В уже упоминавшемся «Журнале, или Поденной записке.» говорилось: «…в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость заложена и именована Санктпетерсбург». Да и один из сподвижников царя Феофан Прокопович в «Истории Петра Великого» писал: «Когда же заключён был совет быть фортеции на упомянутом островку и нарицати ея оной именем Петра Апостола Санктпетербург». В 1885 году П.Н. Петров, автор «Истории Санкт-Петербурга», первым усомнился в этой дате наименования новорождённого града. «Он вообще заявил, что город основан не 16 мая, а 29 июня, и именно с этого дня нужно вести отсчёт его истории, – пишет один из самых глубоких современных исследователей первого века жизни северной столицы Евгений Анисимов и объясняет: – Петров сделал столь неожиданный для многих вывод потому, что в исторических документах до 29 июня название города не упоминается вовсе, и только с Петрова дня, когда митрополит Новгородский Иов освятил деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на Заячьем острове, в документах появляется название “Санкт-Петербург"» [6. С. 38–39]. Той же версии придерживается и сам Евгений Анисимов: «Мне кажется, что нужно различать закладку крепости и её освящение. Закладка была делом чисто техническим, менее значимым, чем её освящение. Точно известно, что Петра I не было при основании форта Кроншлот в 1703 г., а потом крепости и города Кронштадт в 1720 г. Примечательно, что оба раза при закладке отсутствовало и духовенство, непременно участвовавшее во всех государственных торжествах в России. Но зато царь счёл для себя обязательным прибыть к моменту освящения церкви в 1720 г. в новооснованной Кронштадтской крепости в присутствии духовенства» [6. С. 41].
Подтверждением таких выводов могут служить документы почтового ведомства. «…На письме от 18 июня этого года, посланном Ф. М. Апраксиным Петру I к берегам Невы, имеется помета: “Принета с почты в новозастроенной крепости, июня 28 день 1703-го”. Назавтра, в день тезоименитства царя, произошло торжественное освящение возведённой из дерева и земли крепости “с приличной событию церемонией”, а 30 июня письмо Т.Н. Стрешнева из Москвы было помечено: “Принето с почты в Сант-Питербурхе, июня 30 день 1703-го”» [24. С. 62]. И ещё один аргумент: «…в петровское время среди “праздничных и викториальных дней, которые повсегодно празнуемы бывают”, день основания Петербурга никогда не значился» [28. С. 294–295].
…Итак, в мае основали крепость, а в июне она уже получила статус города. Но недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. Спустя ещё год с небольшим, 28 сентября 1704-го, в одном из писем к Александру Меншикову Пётр вдруг заявляет: «…чаем, аще Бог изволит, в три дни или четыре быть в столицу (курсив мой. – С. А.) Питербурх» [8. С. 284]. Когда именно, при каких обстоятельствах, по какой причине и кто именно нарёк Санкт-Петербург столицей – обо всём этом история хранит молчание.
Однако назвать едва начавшуюся стройку столицей легко. Гораздо труднее сделать её столицей на деле. Царская семья впервые появилась в Петербурге только в 1708 году, но приезжала сюда лишь на время, живя большую часть времени в Москве и её окрестностях. Да и самого двора, в его допетровском и послепетровском понимании, в Петербурге не было. Петра и Екатерину, бывшую «ливонскую пленницу», окружала прислуга, необходимая в походных условиях, которые, в общем-то, и были характерны для первых, по крайней мере, десяти лет строящегося города.
Принято считать, что Петербург стал официальной столицей в 1712 году, когда в своём любимом «парадизе», а не в Москве, как предписывала традиция, Пётр сыграл пышную свадьбу с Екатериной. И на церемонии вынуждены были присутствовать все члены царской фамилии, а также дипломатический корпус. Кроме того, в том же году по приказу Петра на берега Невы переехал Правительствующий сенат, высший орган государственной власти. «До этого пребывание Петра на берегах Невы в официальных документах именовалось “походом", – отмечает Евгений Анисимов. – Так назывался любой выезд царя из Кремля ещё в допетровскую эпоху. “Поход” затянулся на многие годы, и только в 1712 г. упоминание о “походе” исчезает из официальных документов» [6. С. 87].
Параллельные заметки. Парадокс, но всегда, вплоть до 1918 года, Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи лишь де-факто, а не де-юре. Москва неизменно оставалась «царствующим градом». Неслучайно все императоры после Петра продолжали венчаться на царство именно в Первопрестольной.
И это ещё одна загадка: отчего Пётр не озаботился юридическим оформлением такого важного в государственной жизни события, как смена столицы? Может, при своём царском всемогуществе не считал это таким уж нужным? Мол, к чему переводить бумагу, если достаточно одного государева слова, подкреплённого угрозой ссылки или батогов? Ведь все прекрасно знали, как умел Пётр карать непокорных: чуть что – в пыточную, а оттуда – в Сибирь, на галеры или прямо на небеса. А может, во множестве забот и дел царю просто не достало времени на юридические формальности?
Энергии, властных полномочий и забот у Петра и вправду хватало с лихвой. Однако в данном случае и то и другое никак нельзя признать достоверными причинами. Пётр I, хотя и писал, как известно, с чудовищными ошибками, на ниве сочинения указов страдал острой формой графомании. В течение своего 36-летнего правления он собственноручно настрочил свыше 20 тысяч (!) указов. В среднем – почти по два указа в день. Причём многие были откровенно абсурдны и касались таких мелких деталей в жизни миллионов подданных, о которых впору заботиться не главе огромного государства, а деревенскому старосте.
И тем не менее столь важное событие, как перенос столицы из Москвы на невские берега, ни указа, ни иного письменного распоряжения так и не удостоилось. Возможно, истинная подоплёка этого казуса в том, что Пётр принадлежал к тому большинству в длинной череде российских правителей, которые считали, что для нашего отечества закон – деталь не обязательная, а в иных случаях и вовсе лишняя?..
* * *
В дельте Невы люди селились с незапамятных времён. И всегда маленькими деревушками. Местный климат был слишком суров, чтобы кто-то по собственной воле захотел тут образовать крупное поселение. 60-я параллель – это севернее Магадана и Новосибирска, всего на два градуса южнее Якутска. Современные учёные считают 60-ю параллель критической для существования человека. Ещё до основания Петербурга о здешнем климате говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией» [36. С. 226]. Да и лес был далеко не парковый, к которому мы привыкли теперь, а настоящие таёжные дебри. Неслучайно Великий Новгород, которому устье Невы принадлежало на протяжении шести столетий, не предпринял ни одной попытки основать здесь город или хотя бы крепость.
Только шведы в XVI веке отважились поставить при впадении реки Охты в Неву крепость Ниеншанц, рядом с которой вскоре появился городок Ниен, разросшийся к началу XVIII века до четырёхсот домов. Но это всё же на почтительном расстоянии от невского устья.
К тому же чухонцы, славяне, шведы – все, жившие здесь, отлично знали, что такое внезапные и сокрушительные невские наводнения. Ещё в одной из древних новгородских писцовых книг упоминалось, как в 1541 году у некоего «Васюка с братией», обитавших «на устье Невы-реки», «дворы и землю море взяло и песком заскало» [13. С. 33]. Сейчас, через три с лишним сотни лет после основания Петербурга, культурный слой в городе значительно поднялся, многие реки, речушки и протоки давно засыпаны и вместо былых ста с лишним островов осталось всего чуть более сорока. Если в первом десятилетии прошлого века Нева выходила из берегов, когда вода поднималась минимум на полтора метра, в XIX веке – чуть менее, чем на метр, то в начале XVIII столетия достаточно было всего 40 сантиметров, и вся территория нынешнего исторического Петербурга превращалась в одно сплошное болото, а то и в настоящее море [36. С. 330].
Ганноверский резидент в России (1714–1719) Фридрих-Христиан Вебер в книге «Преображённая Россия» писал: «Прежние обитатели сей местности никогда не хотели строить настоящие дома на реке Неве в месте расположения нынешнего Петербурга. Вместо домов они поставили только несколько убогих рыбачьих хижин, которые, как только опыт подскажет приближение наводнения, – быстро разбираются» [13. С. 33–34]. После этого разобранная хижина превращалась в плот, который накрепко привязывали к одному из деревьев, а сами аборигены садились в лодки и отправлялись вверх по течению Невы, чтобы переждать разгул стихии в безопасном месте. Когда вода спадала, люди возвращались, и плоты вновь превращались в хижины. Не мог же царь не ведать того, что знает даже иностранный посол!
Впрочем, если Пётр при всём его упрямстве не хотел верить местным жителям, Нева сама не замедлила дать ему наглядное доказательство своего буйного нрава. После августовского наводнения 1703 года в октябре 1705-го разразилось ещё одно. А в сентябре 1706-го – третье: в царских «хоромах» на Петербургской стороне вода стояла на 21 дюйм выше пола, то есть больше, чем на полметра! Всего, по словам летописца петербургских наводнений П. Каратыгина, при жизни Петра юный город пережил десять приступов водной стихии [4. С. 304].
Одновременно с природными свидетельствами того, что нельзя здесь возводить столицу, грянули геополитические. Северная война ещё только разгоралась, и было совершенно неизвестно, какая судьба ожидает Россию с её плохо подготовленной армией и отчаянной нехваткой кадровых, профессиональных командиров. Уже в ближайшие несколько лет после основания Петербурга шведы предприняли шесть попыток отвоевать невские берега обратно [27. С. 70–73]. В июне 1704-го шведским полкам удалось выйти сперва на Каменный остров, а затем к Ниеншанцу. Следующим летом они вновь явились на Каменный остров и даже «заложили на правом берегу Малой Невки батарею, сосредоточив тут свои силы…» [6. С. 71]. Тем летом, по оценке Евгения Анисимова, положение было настолько серьёзно, что «судьба Петербурга повисла на волоске» [6. С. 74]. В последующие годы вновь «несколько раз обстановка вокруг Петербурга становилась критической. Шведы пробовали выбить русских из устья Невы согласованными ударами с суши (с севера и востока) и с моря.» [6. С. 71].
К счастью, все атаки удалось отбить. Но разве это не служило подсказкой: столицы не ставят у самой границы государства! А по сути, вообще за рубежом, ведь невское устье официально стало российской территорией только по Ништадтскому миру, который был подписан в августе 1721 года, через 18 лет после основания Петербурга.
Параллельные заметки. На протяжении последних двух столетий Россия участвовала в трёх тяжелейших войнах: Отечественной 1812 года, а также Первой и Второй мировых. И все три раза возникала реальная угроза захвата Петербурга иноземцами.
«До прибытия неприятеля в Петербург дней двадцать необходимо пройдёт, – писал император Александр I председателю Государственного совета и незадолго до того учреждённого Совета министров фельдмаршалу Николаю Салтыкову. – За это время надо подготовить и осуществить эвакуацию (на север, в Архангельск и в Казань) государственных учреждений с их архивами, дворцовых драгоценностей и художественных сокровищ Эрмитажа, восковой фигуры Петра из Кунсткамеры и петровских подлинных вещей из “домика” и Монплезира, редчайших книг из Публичной библиотеки, важнейших церковных ценностей, мраморных статуй из Таврического дворца, “Минералогического кабинета” Горного института, воинских трофеев – короче, драгоценностей, с которыми не хотим расставаться». Кроме того, предполагалось подготовить к эвакуации два памятника Петру I и памятник Суворову, а также Сестрорецкий оружейный завод вместе с его ведущими мастерами [9. С. 282].
Во второй раз, в 1914 году, уже не только готовились к эвакуации, но и вывозили ценности: книги, многие музейные шедевры, прежде всего из Эрмитажа… В третий, накануне ленинградской блокады, – пытались отправить в безопасные районы всё, что есть ценного в городе: наиболее значимые произведения искусства, промышленное и научное оборудование… Летом 1941 года из Ленинграда на восток вывезли 92 института (не считая специальных научно-исследовательских), 86 промышленных предприятий, часть собраний крупнейших музеев…[19. С. 94–95]. Тем не менее 8 сентября, в день начала блокады, в осаждённом городе оставались два с половиной миллиона мирных граждан и тысячи тонн так и не отправленных ценностей.
Конечно, в ходе этой третьей эвакуации имели место серьёзные, порой преступные просчёты, о чём речь ещё впереди, но главный просчёт был допущен намного раньше, в начале XVIII века, когда царь основал новую столицу на самом краю страны. И если за всю историю Петербурга-Петрограда-Ленинграда ни разу нога врага не ступала на его территорию, то причиной тому или счастливая игра исторического случая, как это произошло в 1812 году, или результат беспримерной стойкости защитников города и его жителей, как это было в 1941–1944 годы.
Все и всё были против замысла Петра. На огромной стройке постоянно не хватало материалов и специалистов. А главное – продовольствия. Окружающие скудные и малонаселённые земли не могли прокормить городских строителей. Едва ли не весь провиант приходилось завозить из других губерний, при почти полном отсутствии дорог, особенно по весенней и осенней распутице, а потому обходилось это втридорога. «По отзыву англичанина Дж. Перри, из-за плохих дорог стоимость продуктов в Петербурге возрастала в 3–4 раза, а что касается фуража для лошадей – то и в 6, и в 8 раз» [3. С. 74].
Ф.-Х. Вебер писал: «Если бы продовольствие, особенно муку, сюда не привозили из Новгорода, Пскова и Москвы и даже из Казанского царства – это всё зимой доставляют на многих тысячах саней за 200–300 миль, а летом водой по реке Волхов и Ладожскому озеру, также по озеру Онега и реке Свирь (тоже через Ладожское озеро), – то не только Петербург, но и часть края вымерла бы от голода» [10. С. 118]. Даже после смерти Петра власти Петербурга ещё долго вынуждены были контролировать цены на продукты питания. Полиции вменялось в обязанность следить, чтобы до полудня торговля шла исключительно по твёрдым ценам (дабы «обывателям можно тою покупкою без повышения цен удовольствоваться»), и только после полудня – по свободным. Такой порядок сохранялся в городе и в XIX столетии [35. С. 7].
Люди знатного рода не желали перебираться на север, потому что на болоте живут лишь кикиморы, лешие да прочая нечисть. Кроме того, переезд в новую столицу «на вечное жительство» означал сильный удар по карману, а также разрыв всех житейских связей. Если б ещё можно было поселиться в этом самом Петербурге, а потом время от времени ездить на побывку на старое место, но ведь «обязанные селиться в столице не только не могли жить в других городах, но даже и отлучаться из города на долгое время было запрещено» [39. С. 38]. И нет ничего удивительного, что, хотя из Петербурга год за годом рассылались по всей стране указы, предписывающие лицам боярских и дворянских фамилий срочно прибыть на берега Невы, никто в путь не спешил.
Вот всего один пример того, как привилегированный класс относился к перспективе петербургского житья при Петре. Даже «на повторные запросы Сената 1715, 1716 и 1717 годов сибирскому губернатору Гагарину по поводу того, что до сих пор “царедворцы к Санкт Питербурху не высланы и не построились”, ответом из Сибири было полное молчание. Ему и другим губернаторам писали из столицы в январе 1717 года, что “люди” (то есть слуги) тех, кто не построился, будут держаться за караулом, пока их хозяева не явятся в канцелярию Сената. Если же и это не возымеет действия, то “отписать их имущество бесповоротно”. В случае смерти кого-то из внесённых в списки их должны заменить наследники. Наконец, в 1718 году от Гагарина в Сенат поступил ответ, что “царедворцев”, которые были бы “не у дел”, в Сибирской губернии не имеется и высылать в Петербург некого» [20. С. 23].
Шляхетство всеми силами уклонялось от «вечного житья» в новой столице. «…В 1720 г. из списка в 703 человека, определённых в “парадиз”, 17 процентов (122 человека и 124 имени) числились в графе “В Сенате приезду своего не объявили, и ныне, где они, того не ведома” По социальному составу это были: 2 боярина, 2 окольничих, 3 думных дворянина, 5 стольников комнатных, 58 царедворцев, 2 ландрихтера, а также вдовы и дети умерших дворян. Все они просто сбежали от возможности пополнить ряды обитателей рая-“парадиза”» [3. С. 112].
Для купцов освоение новой столицы и вовсе грозило катастрофой. Дом, имение ещё можно продать, но куда девать уже налаженное дело? Оставить кому-то из родственников, сбыть конкурентам? И на какие капиталы заводить новое «кумпанство», которое к тому же неизвестно когда принесёт барыши на голом-то месте?
Не хотели жить в новой столице также ремесленники. «В 17101711 гг. в Петербург следовало “поставить" “на вечное жильё” 4720 мастеровых разных специальностей. Из доношения УА. Синявина от 6 июня 1712 г. следует, что прибыло в город всего 2210 человек, из которых сбежало 365, умер 61 и оказалось “дряхлыми за старостью” 46 человек. Дополнительно вышедшие указы также не были выполнены, и власти набрали нужное число мастеровых – 262 человека – из рекрутов» [3. С. 110].
Дело было не только в неимоверных трудностях, связанных с переездом и обустройством на новом месте. Никто не знал, чем обернётся государева блажь после его смерти – а ну как следующий царь откажется от петербургской затеи и вернётся в Белокаменную? Основатель новой столицы и сам предвидел эту возможность. «Знаю, – говорил Пётр I противникам своего дела, – что вы чувствуете отвращение к Петербургу, я помру, и возвратитеся в вашу любезную Москву…» [18. С. 343].
Параллельные заметки. Поначалу так и вышло. После недолгого правления Екатерины I на царство заступил внук первого императора Пётр II, которому в ту пору ещё не сравнялось 12 лет. Испанский посол в Петербурге герцог Лирийский доносил своему королю: «Юный монарх… ненавидит морского дела и окружён русскими, кои, не терпя отдаления своего от родины, всегда толкуют ему ехать в Москву, где жили его предки…» [25. С. 197]. Одним из таких близких советчиков был князь Дмитрий Голицын, убеждавший юного царя, что Петербург – ««охваченная гангреной конечность, “которая должна быть отсечена, дабы не заразилось от неё всё тело”» [14. С. 35].
В конце концов, Пётр II, всего через три года после смерти Петра I, изрёк: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», – и 9 января 1728 года весь двор вслед за малолетним государем с радостью потянулся в Первопрестольную. Уехали все высшие должностные лица, даже обер-полицмейстер, вместо которого в Петербург был назначен воевода, как в обычный провинциальный город.
Брошенная новая столица быстро приходила в запустение: улицы и площади зарастали травой, недостроенные здания ветшали под ударами сырого ветра, снега и дождя, банды мародёров грабили то, что ещё было в опустевших домах… Оставленные «на хозяйстве» чиновники с прискорбием доносили, что сваи и щиты, коими были укреплены берега рек и каналов, неудержимо разрушаются ««и от того каналы заносит, и в тех местах тако ж и по берегу Невы реки, при обывательских домах берега и мосты весьма попортились… и от такой долговременной непочинки пришли оные каналы и речки в такую худобу, что занесло землёю в половину, от чего проход и мелким судам весьма с трудностью» [17. С. 73–74].
Правда, 17 июля 1729 года, за полгода до смерти Петра II, был издан указ, ««по которому заселение Петербурга опять сделалось поголовным налогом: велено было немедленно выслать на бессрочное житьё в Петербург всех выбывших из него купцов, ремесленников и ямщиков, с их семействами; а за неисполнение или медленность повелено было отбирать всё имение и ссылать вечно на каторгу» [34. С. 89–90]. Однако, как пишет Михаил Пыляев, ««эти строгие меры не привели ни к чему, народ тяготился житьём в Петербурге…» [34. С. 90]. Впрочем, нежелание возвращаться в Петербург объяснялось не только этим. Страна, разорённая правлением Петра I, стонала под бременем чиновников, непомерных расходов на армию, да ещё и возведения новой столицы. Неслучайно члены Верховного тайного совета во главе с князем Дмитрием Голицыным, которые после смерти Петра II попытались ограничить самодержавную власть, при определении ближайших наиболее важных государственных задач предусматривали вернуть столицу обратно в Москву.
Петербург вновь обрёл столичную функцию лишь после того, как вступившая на престол Анна Иоанновна сама перебралась на невские берега. «Считается, что одной из причин, побудивших Анну Иоанновну переехать в Петербург, стало неприятное путешествие, случившееся зимой 1731 года, – рассказывает писатель Яков Длуголенский. – Императрица – с челядью и придворными – возвращалась из подмосковного Измайлова, как вдруг часть дороги перед ними разверзлась, и первая карета (Анна была во второй) – вместе с лошадьми, кучером и форейтором – рухнула в образовавшийся провал. “Есть полное основание думать, – сообщал своему правительству французский дипломат Маньян, – что дело это было подготовлено заранее". Злоумышленников искали, но не нашли. Да и вряд ли они были, если вспомнить, как прокладывались и до сих пор прокладываются наши дороги: обвалы и провалы случаются по сей день, и виной тому – изумительная строительная неграмотность» [16. С. 43].
Даже если история с рухнувшей в провал дороги каретой всего лишь легенда, Анна и без того прекрасно знала, что в Москве у неё немало противников, которые считают её, а тем более любимого ею Бирона чужаками и ненавидят их обоих. ««В деле полковника Давыдова, начатом в Тайной канцелярии в 1738 году, упоминается интересная деталь – одной из причин переезда двора в Петербург был случайно подслушанный Анной и Бироном разговор гвардейцев, возвращавшихся после тушения пожара во дворце. Они, проходя под окнами царицы, говорили между собой о её временщике: “Эх, жаль, что нам тот, которой надобен, не попался, а то буде его уходили!”» [5. С. 428–429]. И когда Бурхардт Миних посоветовал вернуться в Петербург и заодно вернуть на невские берега столицу, императрица не могла не согласиться с этим предложением.
««Газета “Санкт-Петербургские ведомости” 17 января 1732 года сообщала: “Третьего дня ввечеру изволила Её Императорское Величество, к неизречённой радости здешних жителей, из Москвы счастливо сюда прибыть”. <…> В заброшенную столицу вновь перебрались двор, Кабинет министров, Сенат, Синод, коллегия, гвардия, дипломатический корпус» [16. С. 40]. Встречал царицу петербургский генерал-губернатор Миних. «По сторонам Большой першпективной дороги (будущего Невского проспекта) были выстроены войска и толпились любопытствующие обыватели…» [16. С. 41].
Несмотря на то что большинство его подданных всеми правдами и неправдами противилось царскому приказу ехать в Петербург, Пётр I был преисполнен решимости продолжать начатое строительство любимого детища. Его мечта о грандиозном городе, который должен затмить могуществом и красотой европейские столицы, была настолько неземной, что всё земное рядом с ней теряло всякий смысл. Царь упорно называл Петербург «парадизом» и в письмах не уставал повторять: «В раи Божии зла быти не может». А непокорных опять-таки бил указами, за неисполнение которых ослушники подвергались страшным пыткам и лютым казням; неслучайно Пушкин говорил, что Петровы указы «нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» [33. С. 11].
* * *
Итак, 16 мая 1703 года на Заячьем острове началось возведение крепости. Этот остров показался больше того, на котором стоял Ниеншанц, и удобней, поскольку был ближе к невскому устью, да вдобавок пушки с него могли держать под прицелом всю акваторию Невы.
Однако на поверку выяснилось, что Заячий остров не столь уж велик. «Современные архивные изыскания и археологические раскопки показали, что на том пространстве Заячьего острова, куда в первый раз высадился Пётр, поместились только Зотов, Головкин и Меншиков бастионы, а для остальных остров пришлось расширять. Когда с 1706 г. вместо земляных бастионов начали возводить каменные, линию южного берега отодвинули ещё дальше в Неву. В итоге центральный Нарышкин бастион фактически целиком построен за береговой чертой, то есть “в Неве”, а Трубецкой и Государев большей своей частью “вылезают" за линию бывшего Заячьего острова» [21. С. 200]. По меткому замечанию историка Евгения Анисимова, строящаяся «крепость напоминала порой севший на мель полузатопленный корабль» [6. С. 51]. Поэтому приходилось отвоёвывать у реки её пространство да к тому же наваливать камни и землю, чтобы повысить уровень островной почвы на несколько метров.
К тому же дальность Ниеншанца от моря не так уж огромна – между Заячьим островом и Охтинским мысом всего несколько межевых вёрст, то есть пять-семь километров. Поэтому логичнее было ставить Петропавловскую крепость именно там, где располагался Ниеншанц, а заодно и город начинать рядом. В этом месте и болот нет, и земля выше, и наводнения не так опасны. Начальник Санкт-Петербургской археологической экспедиции Пётр Сорокин отмечает, что Ниеншанц был расположен очень удобно: это «сухое возвышенное место с хорошей гаванью для стоянки судов могло использоваться купцами и путешественниками. Сам же мыс, защищённый с трёх сторон водными преградами, можно было легко укрепить, тем более что единственный подход к нему по суше – с юга был покрыт заболоченным лесом. <…> Судя по планам XVII в., устье Охты в то время было метров на 10 шире, чем сейчас, и его ширина достигала 45 м» [38. С. 20].
Кроме всего прочего, и расчёт на то, что из крепости с Заячьего острова можно будет контролировать вход в Неву, тоже сомнителен. «…Наши северные реки на добрых пять месяцев замерзают, и так бывает ежегодно, – указывает историк Георгий Прошин. – Обороноспособность крепостей снижается. неприступной крепость становилась два раза в год: в начале зимы, в пору ледостава, и весной, в ледоход. Неприступной для врагов. Для своих тоже» [32. С. 313]. Г. Прошин делает однозначный вывод: «Ниеншанц перекрывает Неву много надёжнее. Нева против шведской крепости течёт в одном русле. Оно в этом месте узкое, значительно более сильное, чем против Петропавловской крепости; обстрел проходящих, преодолевая встречное течение, кораблей возможен с трёх бастионов (как и на Петропавловской крепости), и это стрельба в упор… Собственно, если бы шведам удалось осадить Петропавловскую крепость, то они спокойно могли бы проводить корабли в Ладогу, не опасаясь обстрела с бастионов. На Неве существовал ещё один фарватер» [32. С. 316].
Кстати, на том самом знаменитом военном совете никто не одобрил выбор царя, и Пётр просто приказал возводить крепость на Заячьем острове.
Параллельные заметки. Петропавловская крепость никогда не участвовала в сражениях. Её предназначение оказалось совсем иным. Прежде всего, она стала политической тюрьмой: в Европе, да нередко и в России, её так и называли – «русской Бастилией».
Считается, будто первым политическим узником стал цесаревич Алексей, сын Петра I. Но это не так. ««Здесь, по сведениям… Берхгольца, <ещё раньше> сидели пленные шведские офицеры. В 1717 г. сюда для расследования привезли 22 моряков с погибшего корабля “Ревель”, здесь же содержали участников так называемого “Бахмутского дела” о похищении казённых денег. Из политических узников Петропавловской крепости первым стал, по-видимому, племянник Мазепы Андрей Войнаровский, схваченный русскими агентами в 1717 г. на улице Гамбурга и тайно привезённый в Петербург и впоследствии ставший героем знаменитой поэмы Адама Мицкевича. Перед тем как сгинуть в Сибири, Войнаровский просидел в крепости пять лет» [6. С. 202–203]. А уж после того как весной 1718 года в крепость переехала Тайная канцелярия, Петропавловка стала главной в стране следственной тюрьмой политического сыска [7. С. 122].
И Петропавловский собор, расположенный в крепости, никогда не был ни кафедральным, ни придворным и даже не имел своего прихода. Он стал уникальным в своём роде храмом-усыпальницей. Причём опять-таки первым здесь был погребён не Пётр I, как многие считают. За десять лет до этого, «когда строительство собора ещё только начиналось, осенью 1715 года в полу соборной колокольни была погребена 21-летняя кронпринцесса Софья-Шарлотта, жена цесаревича Алексея; в том же году – годовалая дочь Петра, Маргарита. В 1716 году “у Петра и Павла" перезахоронили вдову брата Петра, Ивана Алексеевича, Марфу Матвеевну. В июне 1718 года рядом со своей женой был погребён царевич Алексей Петрович» [9. С. 419].
Маркиз Астольф де Кюстин, автор знаменитой книги «Николаевская Россия», со свойственной ему едкой наблюдательностью заметил: «…в петровской цитадели покоятся останки императоров и содержатся государственные преступники: странная идея – чтить таким образом своих покойников» [1. С. 66].
* * *
На самом деле нет ничего противоестественного в том, что 16 мая Пётр находился в Лодейном Поле, а значит, своими руками «царствующий град» не основывал. Ведь ни о каком городе, а тем более о новой столице, он тогда ещё не помышлял, речь шла, повторяю, только о крепости. А также о возможной царской резиденции. 7 мая канцлер Фёдор Головин направил письмо послу при польском дворе, и тот, на основании этого послания, известил местный дипломатический корпус, что «царское величество… в нынешнем времяни от неприятеля немалую крепость взял и порт на Балтийском море… где ещё может (курсив мой. – С. А.) заложить и свою монаршескую резиденцию, чего ради его государство лутчие будет иметь с их государствы торги и корешпонденцию» [8. С. 280].
И по поводу того, в какой день новый город получил своё имя, долгое время тоже не было ясности. В уже упоминавшемся «Журнале, или Поденной записке.» говорилось: «…в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость заложена и именована Санктпетерсбург». Да и один из сподвижников царя Феофан Прокопович в «Истории Петра Великого» писал: «Когда же заключён был совет быть фортеции на упомянутом островку и нарицати ея оной именем Петра Апостола Санктпетербург». В 1885 году П.Н. Петров, автор «Истории Санкт-Петербурга», первым усомнился в этой дате наименования новорождённого града. «Он вообще заявил, что город основан не 16 мая, а 29 июня, и именно с этого дня нужно вести отсчёт его истории, – пишет один из самых глубоких современных исследователей первого века жизни северной столицы Евгений Анисимов и объясняет: – Петров сделал столь неожиданный для многих вывод потому, что в исторических документах до 29 июня название города не упоминается вовсе, и только с Петрова дня, когда митрополит Новгородский Иов освятил деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на Заячьем острове, в документах появляется название “Санкт-Петербург"» [6. С. 38–39]. Той же версии придерживается и сам Евгений Анисимов: «Мне кажется, что нужно различать закладку крепости и её освящение. Закладка была делом чисто техническим, менее значимым, чем её освящение. Точно известно, что Петра I не было при основании форта Кроншлот в 1703 г., а потом крепости и города Кронштадт в 1720 г. Примечательно, что оба раза при закладке отсутствовало и духовенство, непременно участвовавшее во всех государственных торжествах в России. Но зато царь счёл для себя обязательным прибыть к моменту освящения церкви в 1720 г. в новооснованной Кронштадтской крепости в присутствии духовенства» [6. С. 41].
Подтверждением таких выводов могут служить документы почтового ведомства. «…На письме от 18 июня этого года, посланном Ф. М. Апраксиным Петру I к берегам Невы, имеется помета: “Принета с почты в новозастроенной крепости, июня 28 день 1703-го”. Назавтра, в день тезоименитства царя, произошло торжественное освящение возведённой из дерева и земли крепости “с приличной событию церемонией”, а 30 июня письмо Т.Н. Стрешнева из Москвы было помечено: “Принето с почты в Сант-Питербурхе, июня 30 день 1703-го”» [24. С. 62]. И ещё один аргумент: «…в петровское время среди “праздничных и викториальных дней, которые повсегодно празнуемы бывают”, день основания Петербурга никогда не значился» [28. С. 294–295].
…Итак, в мае основали крепость, а в июне она уже получила статус города. Но недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. Спустя ещё год с небольшим, 28 сентября 1704-го, в одном из писем к Александру Меншикову Пётр вдруг заявляет: «…чаем, аще Бог изволит, в три дни или четыре быть в столицу (курсив мой. – С. А.) Питербурх» [8. С. 284]. Когда именно, при каких обстоятельствах, по какой причине и кто именно нарёк Санкт-Петербург столицей – обо всём этом история хранит молчание.
Однако назвать едва начавшуюся стройку столицей легко. Гораздо труднее сделать её столицей на деле. Царская семья впервые появилась в Петербурге только в 1708 году, но приезжала сюда лишь на время, живя большую часть времени в Москве и её окрестностях. Да и самого двора, в его допетровском и послепетровском понимании, в Петербурге не было. Петра и Екатерину, бывшую «ливонскую пленницу», окружала прислуга, необходимая в походных условиях, которые, в общем-то, и были характерны для первых, по крайней мере, десяти лет строящегося города.
Принято считать, что Петербург стал официальной столицей в 1712 году, когда в своём любимом «парадизе», а не в Москве, как предписывала традиция, Пётр сыграл пышную свадьбу с Екатериной. И на церемонии вынуждены были присутствовать все члены царской фамилии, а также дипломатический корпус. Кроме того, в том же году по приказу Петра на берега Невы переехал Правительствующий сенат, высший орган государственной власти. «До этого пребывание Петра на берегах Невы в официальных документах именовалось “походом", – отмечает Евгений Анисимов. – Так назывался любой выезд царя из Кремля ещё в допетровскую эпоху. “Поход” затянулся на многие годы, и только в 1712 г. упоминание о “походе” исчезает из официальных документов» [6. С. 87].
Параллельные заметки. Парадокс, но всегда, вплоть до 1918 года, Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи лишь де-факто, а не де-юре. Москва неизменно оставалась «царствующим градом». Неслучайно все императоры после Петра продолжали венчаться на царство именно в Первопрестольной.
И это ещё одна загадка: отчего Пётр не озаботился юридическим оформлением такого важного в государственной жизни события, как смена столицы? Может, при своём царском всемогуществе не считал это таким уж нужным? Мол, к чему переводить бумагу, если достаточно одного государева слова, подкреплённого угрозой ссылки или батогов? Ведь все прекрасно знали, как умел Пётр карать непокорных: чуть что – в пыточную, а оттуда – в Сибирь, на галеры или прямо на небеса. А может, во множестве забот и дел царю просто не достало времени на юридические формальности?
Энергии, властных полномочий и забот у Петра и вправду хватало с лихвой. Однако в данном случае и то и другое никак нельзя признать достоверными причинами. Пётр I, хотя и писал, как известно, с чудовищными ошибками, на ниве сочинения указов страдал острой формой графомании. В течение своего 36-летнего правления он собственноручно настрочил свыше 20 тысяч (!) указов. В среднем – почти по два указа в день. Причём многие были откровенно абсурдны и касались таких мелких деталей в жизни миллионов подданных, о которых впору заботиться не главе огромного государства, а деревенскому старосте.
И тем не менее столь важное событие, как перенос столицы из Москвы на невские берега, ни указа, ни иного письменного распоряжения так и не удостоилось. Возможно, истинная подоплёка этого казуса в том, что Пётр принадлежал к тому большинству в длинной череде российских правителей, которые считали, что для нашего отечества закон – деталь не обязательная, а в иных случаях и вовсе лишняя?..
* * *
В дельте Невы люди селились с незапамятных времён. И всегда маленькими деревушками. Местный климат был слишком суров, чтобы кто-то по собственной воле захотел тут образовать крупное поселение. 60-я параллель – это севернее Магадана и Новосибирска, всего на два градуса южнее Якутска. Современные учёные считают 60-ю параллель критической для существования человека. Ещё до основания Петербурга о здешнем климате говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией» [36. С. 226]. Да и лес был далеко не парковый, к которому мы привыкли теперь, а настоящие таёжные дебри. Неслучайно Великий Новгород, которому устье Невы принадлежало на протяжении шести столетий, не предпринял ни одной попытки основать здесь город или хотя бы крепость.
Только шведы в XVI веке отважились поставить при впадении реки Охты в Неву крепость Ниеншанц, рядом с которой вскоре появился городок Ниен, разросшийся к началу XVIII века до четырёхсот домов. Но это всё же на почтительном расстоянии от невского устья.
К тому же чухонцы, славяне, шведы – все, жившие здесь, отлично знали, что такое внезапные и сокрушительные невские наводнения. Ещё в одной из древних новгородских писцовых книг упоминалось, как в 1541 году у некоего «Васюка с братией», обитавших «на устье Невы-реки», «дворы и землю море взяло и песком заскало» [13. С. 33]. Сейчас, через три с лишним сотни лет после основания Петербурга, культурный слой в городе значительно поднялся, многие реки, речушки и протоки давно засыпаны и вместо былых ста с лишним островов осталось всего чуть более сорока. Если в первом десятилетии прошлого века Нева выходила из берегов, когда вода поднималась минимум на полтора метра, в XIX веке – чуть менее, чем на метр, то в начале XVIII столетия достаточно было всего 40 сантиметров, и вся территория нынешнего исторического Петербурга превращалась в одно сплошное болото, а то и в настоящее море [36. С. 330].
Ганноверский резидент в России (1714–1719) Фридрих-Христиан Вебер в книге «Преображённая Россия» писал: «Прежние обитатели сей местности никогда не хотели строить настоящие дома на реке Неве в месте расположения нынешнего Петербурга. Вместо домов они поставили только несколько убогих рыбачьих хижин, которые, как только опыт подскажет приближение наводнения, – быстро разбираются» [13. С. 33–34]. После этого разобранная хижина превращалась в плот, который накрепко привязывали к одному из деревьев, а сами аборигены садились в лодки и отправлялись вверх по течению Невы, чтобы переждать разгул стихии в безопасном месте. Когда вода спадала, люди возвращались, и плоты вновь превращались в хижины. Не мог же царь не ведать того, что знает даже иностранный посол!
Впрочем, если Пётр при всём его упрямстве не хотел верить местным жителям, Нева сама не замедлила дать ему наглядное доказательство своего буйного нрава. После августовского наводнения 1703 года в октябре 1705-го разразилось ещё одно. А в сентябре 1706-го – третье: в царских «хоромах» на Петербургской стороне вода стояла на 21 дюйм выше пола, то есть больше, чем на полметра! Всего, по словам летописца петербургских наводнений П. Каратыгина, при жизни Петра юный город пережил десять приступов водной стихии [4. С. 304].
Одновременно с природными свидетельствами того, что нельзя здесь возводить столицу, грянули геополитические. Северная война ещё только разгоралась, и было совершенно неизвестно, какая судьба ожидает Россию с её плохо подготовленной армией и отчаянной нехваткой кадровых, профессиональных командиров. Уже в ближайшие несколько лет после основания Петербурга шведы предприняли шесть попыток отвоевать невские берега обратно [27. С. 70–73]. В июне 1704-го шведским полкам удалось выйти сперва на Каменный остров, а затем к Ниеншанцу. Следующим летом они вновь явились на Каменный остров и даже «заложили на правом берегу Малой Невки батарею, сосредоточив тут свои силы…» [6. С. 71]. Тем летом, по оценке Евгения Анисимова, положение было настолько серьёзно, что «судьба Петербурга повисла на волоске» [6. С. 74]. В последующие годы вновь «несколько раз обстановка вокруг Петербурга становилась критической. Шведы пробовали выбить русских из устья Невы согласованными ударами с суши (с севера и востока) и с моря.» [6. С. 71].
К счастью, все атаки удалось отбить. Но разве это не служило подсказкой: столицы не ставят у самой границы государства! А по сути, вообще за рубежом, ведь невское устье официально стало российской территорией только по Ништадтскому миру, который был подписан в августе 1721 года, через 18 лет после основания Петербурга.
Параллельные заметки. На протяжении последних двух столетий Россия участвовала в трёх тяжелейших войнах: Отечественной 1812 года, а также Первой и Второй мировых. И все три раза возникала реальная угроза захвата Петербурга иноземцами.
«До прибытия неприятеля в Петербург дней двадцать необходимо пройдёт, – писал император Александр I председателю Государственного совета и незадолго до того учреждённого Совета министров фельдмаршалу Николаю Салтыкову. – За это время надо подготовить и осуществить эвакуацию (на север, в Архангельск и в Казань) государственных учреждений с их архивами, дворцовых драгоценностей и художественных сокровищ Эрмитажа, восковой фигуры Петра из Кунсткамеры и петровских подлинных вещей из “домика” и Монплезира, редчайших книг из Публичной библиотеки, важнейших церковных ценностей, мраморных статуй из Таврического дворца, “Минералогического кабинета” Горного института, воинских трофеев – короче, драгоценностей, с которыми не хотим расставаться». Кроме того, предполагалось подготовить к эвакуации два памятника Петру I и памятник Суворову, а также Сестрорецкий оружейный завод вместе с его ведущими мастерами [9. С. 282].
Во второй раз, в 1914 году, уже не только готовились к эвакуации, но и вывозили ценности: книги, многие музейные шедевры, прежде всего из Эрмитажа… В третий, накануне ленинградской блокады, – пытались отправить в безопасные районы всё, что есть ценного в городе: наиболее значимые произведения искусства, промышленное и научное оборудование… Летом 1941 года из Ленинграда на восток вывезли 92 института (не считая специальных научно-исследовательских), 86 промышленных предприятий, часть собраний крупнейших музеев…[19. С. 94–95]. Тем не менее 8 сентября, в день начала блокады, в осаждённом городе оставались два с половиной миллиона мирных граждан и тысячи тонн так и не отправленных ценностей.
Конечно, в ходе этой третьей эвакуации имели место серьёзные, порой преступные просчёты, о чём речь ещё впереди, но главный просчёт был допущен намного раньше, в начале XVIII века, когда царь основал новую столицу на самом краю страны. И если за всю историю Петербурга-Петрограда-Ленинграда ни разу нога врага не ступала на его территорию, то причиной тому или счастливая игра исторического случая, как это произошло в 1812 году, или результат беспримерной стойкости защитников города и его жителей, как это было в 1941–1944 годы.
Все и всё были против замысла Петра. На огромной стройке постоянно не хватало материалов и специалистов. А главное – продовольствия. Окружающие скудные и малонаселённые земли не могли прокормить городских строителей. Едва ли не весь провиант приходилось завозить из других губерний, при почти полном отсутствии дорог, особенно по весенней и осенней распутице, а потому обходилось это втридорога. «По отзыву англичанина Дж. Перри, из-за плохих дорог стоимость продуктов в Петербурге возрастала в 3–4 раза, а что касается фуража для лошадей – то и в 6, и в 8 раз» [3. С. 74].
Ф.-Х. Вебер писал: «Если бы продовольствие, особенно муку, сюда не привозили из Новгорода, Пскова и Москвы и даже из Казанского царства – это всё зимой доставляют на многих тысячах саней за 200–300 миль, а летом водой по реке Волхов и Ладожскому озеру, также по озеру Онега и реке Свирь (тоже через Ладожское озеро), – то не только Петербург, но и часть края вымерла бы от голода» [10. С. 118]. Даже после смерти Петра власти Петербурга ещё долго вынуждены были контролировать цены на продукты питания. Полиции вменялось в обязанность следить, чтобы до полудня торговля шла исключительно по твёрдым ценам (дабы «обывателям можно тою покупкою без повышения цен удовольствоваться»), и только после полудня – по свободным. Такой порядок сохранялся в городе и в XIX столетии [35. С. 7].
Люди знатного рода не желали перебираться на север, потому что на болоте живут лишь кикиморы, лешие да прочая нечисть. Кроме того, переезд в новую столицу «на вечное жительство» означал сильный удар по карману, а также разрыв всех житейских связей. Если б ещё можно было поселиться в этом самом Петербурге, а потом время от времени ездить на побывку на старое место, но ведь «обязанные селиться в столице не только не могли жить в других городах, но даже и отлучаться из города на долгое время было запрещено» [39. С. 38]. И нет ничего удивительного, что, хотя из Петербурга год за годом рассылались по всей стране указы, предписывающие лицам боярских и дворянских фамилий срочно прибыть на берега Невы, никто в путь не спешил.
Вот всего один пример того, как привилегированный класс относился к перспективе петербургского житья при Петре. Даже «на повторные запросы Сената 1715, 1716 и 1717 годов сибирскому губернатору Гагарину по поводу того, что до сих пор “царедворцы к Санкт Питербурху не высланы и не построились”, ответом из Сибири было полное молчание. Ему и другим губернаторам писали из столицы в январе 1717 года, что “люди” (то есть слуги) тех, кто не построился, будут держаться за караулом, пока их хозяева не явятся в канцелярию Сената. Если же и это не возымеет действия, то “отписать их имущество бесповоротно”. В случае смерти кого-то из внесённых в списки их должны заменить наследники. Наконец, в 1718 году от Гагарина в Сенат поступил ответ, что “царедворцев”, которые были бы “не у дел”, в Сибирской губернии не имеется и высылать в Петербург некого» [20. С. 23].
Шляхетство всеми силами уклонялось от «вечного житья» в новой столице. «…В 1720 г. из списка в 703 человека, определённых в “парадиз”, 17 процентов (122 человека и 124 имени) числились в графе “В Сенате приезду своего не объявили, и ныне, где они, того не ведома” По социальному составу это были: 2 боярина, 2 окольничих, 3 думных дворянина, 5 стольников комнатных, 58 царедворцев, 2 ландрихтера, а также вдовы и дети умерших дворян. Все они просто сбежали от возможности пополнить ряды обитателей рая-“парадиза”» [3. С. 112].
Для купцов освоение новой столицы и вовсе грозило катастрофой. Дом, имение ещё можно продать, но куда девать уже налаженное дело? Оставить кому-то из родственников, сбыть конкурентам? И на какие капиталы заводить новое «кумпанство», которое к тому же неизвестно когда принесёт барыши на голом-то месте?
Не хотели жить в новой столице также ремесленники. «В 17101711 гг. в Петербург следовало “поставить" “на вечное жильё” 4720 мастеровых разных специальностей. Из доношения УА. Синявина от 6 июня 1712 г. следует, что прибыло в город всего 2210 человек, из которых сбежало 365, умер 61 и оказалось “дряхлыми за старостью” 46 человек. Дополнительно вышедшие указы также не были выполнены, и власти набрали нужное число мастеровых – 262 человека – из рекрутов» [3. С. 110].
Дело было не только в неимоверных трудностях, связанных с переездом и обустройством на новом месте. Никто не знал, чем обернётся государева блажь после его смерти – а ну как следующий царь откажется от петербургской затеи и вернётся в Белокаменную? Основатель новой столицы и сам предвидел эту возможность. «Знаю, – говорил Пётр I противникам своего дела, – что вы чувствуете отвращение к Петербургу, я помру, и возвратитеся в вашу любезную Москву…» [18. С. 343].
Параллельные заметки. Поначалу так и вышло. После недолгого правления Екатерины I на царство заступил внук первого императора Пётр II, которому в ту пору ещё не сравнялось 12 лет. Испанский посол в Петербурге герцог Лирийский доносил своему королю: «Юный монарх… ненавидит морского дела и окружён русскими, кои, не терпя отдаления своего от родины, всегда толкуют ему ехать в Москву, где жили его предки…» [25. С. 197]. Одним из таких близких советчиков был князь Дмитрий Голицын, убеждавший юного царя, что Петербург – ««охваченная гангреной конечность, “которая должна быть отсечена, дабы не заразилось от неё всё тело”» [14. С. 35].
В конце концов, Пётр II, всего через три года после смерти Петра I, изрёк: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», – и 9 января 1728 года весь двор вслед за малолетним государем с радостью потянулся в Первопрестольную. Уехали все высшие должностные лица, даже обер-полицмейстер, вместо которого в Петербург был назначен воевода, как в обычный провинциальный город.
Брошенная новая столица быстро приходила в запустение: улицы и площади зарастали травой, недостроенные здания ветшали под ударами сырого ветра, снега и дождя, банды мародёров грабили то, что ещё было в опустевших домах… Оставленные «на хозяйстве» чиновники с прискорбием доносили, что сваи и щиты, коими были укреплены берега рек и каналов, неудержимо разрушаются ««и от того каналы заносит, и в тех местах тако ж и по берегу Невы реки, при обывательских домах берега и мосты весьма попортились… и от такой долговременной непочинки пришли оные каналы и речки в такую худобу, что занесло землёю в половину, от чего проход и мелким судам весьма с трудностью» [17. С. 73–74].
Правда, 17 июля 1729 года, за полгода до смерти Петра II, был издан указ, ««по которому заселение Петербурга опять сделалось поголовным налогом: велено было немедленно выслать на бессрочное житьё в Петербург всех выбывших из него купцов, ремесленников и ямщиков, с их семействами; а за неисполнение или медленность повелено было отбирать всё имение и ссылать вечно на каторгу» [34. С. 89–90]. Однако, как пишет Михаил Пыляев, ««эти строгие меры не привели ни к чему, народ тяготился житьём в Петербурге…» [34. С. 90]. Впрочем, нежелание возвращаться в Петербург объяснялось не только этим. Страна, разорённая правлением Петра I, стонала под бременем чиновников, непомерных расходов на армию, да ещё и возведения новой столицы. Неслучайно члены Верховного тайного совета во главе с князем Дмитрием Голицыным, которые после смерти Петра II попытались ограничить самодержавную власть, при определении ближайших наиболее важных государственных задач предусматривали вернуть столицу обратно в Москву.
Петербург вновь обрёл столичную функцию лишь после того, как вступившая на престол Анна Иоанновна сама перебралась на невские берега. «Считается, что одной из причин, побудивших Анну Иоанновну переехать в Петербург, стало неприятное путешествие, случившееся зимой 1731 года, – рассказывает писатель Яков Длуголенский. – Императрица – с челядью и придворными – возвращалась из подмосковного Измайлова, как вдруг часть дороги перед ними разверзлась, и первая карета (Анна была во второй) – вместе с лошадьми, кучером и форейтором – рухнула в образовавшийся провал. “Есть полное основание думать, – сообщал своему правительству французский дипломат Маньян, – что дело это было подготовлено заранее". Злоумышленников искали, но не нашли. Да и вряд ли они были, если вспомнить, как прокладывались и до сих пор прокладываются наши дороги: обвалы и провалы случаются по сей день, и виной тому – изумительная строительная неграмотность» [16. С. 43].
Даже если история с рухнувшей в провал дороги каретой всего лишь легенда, Анна и без того прекрасно знала, что в Москве у неё немало противников, которые считают её, а тем более любимого ею Бирона чужаками и ненавидят их обоих. ««В деле полковника Давыдова, начатом в Тайной канцелярии в 1738 году, упоминается интересная деталь – одной из причин переезда двора в Петербург был случайно подслушанный Анной и Бироном разговор гвардейцев, возвращавшихся после тушения пожара во дворце. Они, проходя под окнами царицы, говорили между собой о её временщике: “Эх, жаль, что нам тот, которой надобен, не попался, а то буде его уходили!”» [5. С. 428–429]. И когда Бурхардт Миних посоветовал вернуться в Петербург и заодно вернуть на невские берега столицу, императрица не могла не согласиться с этим предложением.
««Газета “Санкт-Петербургские ведомости” 17 января 1732 года сообщала: “Третьего дня ввечеру изволила Её Императорское Величество, к неизречённой радости здешних жителей, из Москвы счастливо сюда прибыть”. <…> В заброшенную столицу вновь перебрались двор, Кабинет министров, Сенат, Синод, коллегия, гвардия, дипломатический корпус» [16. С. 40]. Встречал царицу петербургский генерал-губернатор Миних. «По сторонам Большой першпективной дороги (будущего Невского проспекта) были выстроены войска и толпились любопытствующие обыватели…» [16. С. 41].
Несмотря на то что большинство его подданных всеми правдами и неправдами противилось царскому приказу ехать в Петербург, Пётр I был преисполнен решимости продолжать начатое строительство любимого детища. Его мечта о грандиозном городе, который должен затмить могуществом и красотой европейские столицы, была настолько неземной, что всё земное рядом с ней теряло всякий смысл. Царь упорно называл Петербург «парадизом» и в письмах не уставал повторять: «В раи Божии зла быти не может». А непокорных опять-таки бил указами, за неисполнение которых ослушники подвергались страшным пыткам и лютым казням; неслучайно Пушкин говорил, что Петровы указы «нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» [33. С. 11].
* * *
Итак, 16 мая 1703 года на Заячьем острове началось возведение крепости. Этот остров показался больше того, на котором стоял Ниеншанц, и удобней, поскольку был ближе к невскому устью, да вдобавок пушки с него могли держать под прицелом всю акваторию Невы.
Однако на поверку выяснилось, что Заячий остров не столь уж велик. «Современные архивные изыскания и археологические раскопки показали, что на том пространстве Заячьего острова, куда в первый раз высадился Пётр, поместились только Зотов, Головкин и Меншиков бастионы, а для остальных остров пришлось расширять. Когда с 1706 г. вместо земляных бастионов начали возводить каменные, линию южного берега отодвинули ещё дальше в Неву. В итоге центральный Нарышкин бастион фактически целиком построен за береговой чертой, то есть “в Неве”, а Трубецкой и Государев большей своей частью “вылезают" за линию бывшего Заячьего острова» [21. С. 200]. По меткому замечанию историка Евгения Анисимова, строящаяся «крепость напоминала порой севший на мель полузатопленный корабль» [6. С. 51]. Поэтому приходилось отвоёвывать у реки её пространство да к тому же наваливать камни и землю, чтобы повысить уровень островной почвы на несколько метров.
К тому же дальность Ниеншанца от моря не так уж огромна – между Заячьим островом и Охтинским мысом всего несколько межевых вёрст, то есть пять-семь километров. Поэтому логичнее было ставить Петропавловскую крепость именно там, где располагался Ниеншанц, а заодно и город начинать рядом. В этом месте и болот нет, и земля выше, и наводнения не так опасны. Начальник Санкт-Петербургской археологической экспедиции Пётр Сорокин отмечает, что Ниеншанц был расположен очень удобно: это «сухое возвышенное место с хорошей гаванью для стоянки судов могло использоваться купцами и путешественниками. Сам же мыс, защищённый с трёх сторон водными преградами, можно было легко укрепить, тем более что единственный подход к нему по суше – с юга был покрыт заболоченным лесом. <…> Судя по планам XVII в., устье Охты в то время было метров на 10 шире, чем сейчас, и его ширина достигала 45 м» [38. С. 20].
Кроме всего прочего, и расчёт на то, что из крепости с Заячьего острова можно будет контролировать вход в Неву, тоже сомнителен. «…Наши северные реки на добрых пять месяцев замерзают, и так бывает ежегодно, – указывает историк Георгий Прошин. – Обороноспособность крепостей снижается. неприступной крепость становилась два раза в год: в начале зимы, в пору ледостава, и весной, в ледоход. Неприступной для врагов. Для своих тоже» [32. С. 313]. Г. Прошин делает однозначный вывод: «Ниеншанц перекрывает Неву много надёжнее. Нева против шведской крепости течёт в одном русле. Оно в этом месте узкое, значительно более сильное, чем против Петропавловской крепости; обстрел проходящих, преодолевая встречное течение, кораблей возможен с трёх бастионов (как и на Петропавловской крепости), и это стрельба в упор… Собственно, если бы шведам удалось осадить Петропавловскую крепость, то они спокойно могли бы проводить корабли в Ладогу, не опасаясь обстрела с бастионов. На Неве существовал ещё один фарватер» [32. С. 316].
Кстати, на том самом знаменитом военном совете никто не одобрил выбор царя, и Пётр просто приказал возводить крепость на Заячьем острове.
Параллельные заметки. Петропавловская крепость никогда не участвовала в сражениях. Её предназначение оказалось совсем иным. Прежде всего, она стала политической тюрьмой: в Европе, да нередко и в России, её так и называли – «русской Бастилией».
Считается, будто первым политическим узником стал цесаревич Алексей, сын Петра I. Но это не так. ««Здесь, по сведениям… Берхгольца, <ещё раньше> сидели пленные шведские офицеры. В 1717 г. сюда для расследования привезли 22 моряков с погибшего корабля “Ревель”, здесь же содержали участников так называемого “Бахмутского дела” о похищении казённых денег. Из политических узников Петропавловской крепости первым стал, по-видимому, племянник Мазепы Андрей Войнаровский, схваченный русскими агентами в 1717 г. на улице Гамбурга и тайно привезённый в Петербург и впоследствии ставший героем знаменитой поэмы Адама Мицкевича. Перед тем как сгинуть в Сибири, Войнаровский просидел в крепости пять лет» [6. С. 202–203]. А уж после того как весной 1718 года в крепость переехала Тайная канцелярия, Петропавловка стала главной в стране следственной тюрьмой политического сыска [7. С. 122].
И Петропавловский собор, расположенный в крепости, никогда не был ни кафедральным, ни придворным и даже не имел своего прихода. Он стал уникальным в своём роде храмом-усыпальницей. Причём опять-таки первым здесь был погребён не Пётр I, как многие считают. За десять лет до этого, «когда строительство собора ещё только начиналось, осенью 1715 года в полу соборной колокольни была погребена 21-летняя кронпринцесса Софья-Шарлотта, жена цесаревича Алексея; в том же году – годовалая дочь Петра, Маргарита. В 1716 году “у Петра и Павла" перезахоронили вдову брата Петра, Ивана Алексеевича, Марфу Матвеевну. В июне 1718 года рядом со своей женой был погребён царевич Алексей Петрович» [9. С. 419].
Маркиз Астольф де Кюстин, автор знаменитой книги «Николаевская Россия», со свойственной ему едкой наблюдательностью заметил: «…в петровской цитадели покоятся останки императоров и содержатся государственные преступники: странная идея – чтить таким образом своих покойников» [1. С. 66].
* * *