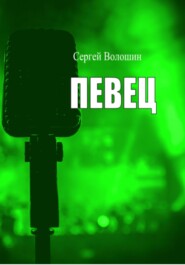По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Душка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Никогда не задавался этим вопросом. А это действительно важно? Не Страдивари же! Я вообще-то спешу. Какая разница, кто лепил эту деревяшку, главное, она должна быть реставрирована, чтобы была желательно как новая, чтобы ребёнку было приятно брать её в руки. Понимаете?
– Не понимаю.
– У меня сложные отношения с девочкой. Ей двенадцать лет, переходный возраст стартует. Как бы вам пояснить это? Я недавно через суд забрал её у бабушки в свою новую квартиру. Вообще-то я планировал жить в этой квартире со своей новой женой, точнее, с девушкой, а тут такое… В общем, первая моя жена разбилась на машине. Причём на машине, которую при разводе подарил ей я. Понимаете? И разбилась, как считает следак, не случайно. Самоубилась, понимаете? Из-за ревности что ли. Или чтобы мне насолить. Дура была, блин, вывела тачку на встречную полосу прямо под фуру. Хорошо хоть мужик-водила не пострадал. А у него трое детей. Ду-ра! На-би-та-я! Извините, что я вас всем этим гружу, но оно ж болит, спать не могу. Оленька, дочка, вроде, и любит меня, вроде, как-то мы пытаемся вместе наладить нашу жизнь. Или это мне так кажется. Но потом как бес её посещает. «Ненавижу», – кричит, считает, что я виноват в смерти матери. А я что, разве виноват, что мамка Оленьки дура?!
Евгений вытер кулаками увлажнившийся высокий лоб и рухнул на пыльный стул. Анатолий Иванович побелел в лице и застыл как бетонная скульптура. Не ожидал такой необузданной экспрессии и душевных откровений от только что казавшегося волевым и успешным молодого человека.
– Жень, может, вам чайку? И поговорим. Что ж вы, бизнесмены, вечно так спешите куда-то? А жить-то когда? Тем более так жить, в муках душевных.
– А вот вы знаете, а давайте чайку, я передумал, – вдруг согласился молодой человек.– У меня там, в машине, какие-то пряники имеются. Пожрать некогда, всё на ходу, на бегу, и так уже несколько лет. Понимаете?
– Пытаюсь понять. Я в таких ситуациях не бывал, – привычно солгал Анатолий, хотя на его шестидесятилетнем жизненном пути чего только не было – и радостные встречи, и сложные расставания, и любовь, и ненависть, и приобретения с потерями, а уж об известной спешке жить и творить – так романы писать можно.
III
Сняв рабочий халат и оставшись в тёмно-сером помятом спортивном костюме и стоптанных камуфлированных тапках, Анатолий Иванович семенящими шагами перешёл в кухню. Он обожал чаепития со своими клиентами – так можно и самому излить душу, и бездну чужой беды нужным словом заполнить, заодно детально, а не в спешке обсудить ремонт, договориться о цене. Можно и про политику. А кто о ней, о политике, нынче не спорит? Все умные, учёные, эксперты, политологи, насмотрелись телевизора, начитались интернетов. Слова поперёк не скажи, ни у кого нет собственного мнения, зато у всех в избытке убеждённости, навязанной сторонними веяниями.
Анатолию Ивановичу последнее время крайне не хватало общения. Жена в постоянной молчанке и отъездах. Учеников в мастерской не воспитал. Да и кого сегодня из молодёжи увлечёшь таким редким и необычным ремеслом? Все стремятся получить всё и сразу, и престижную профессию в солидном учреждении, и достойную должность, и, конечно, высокую зарплату, чтобы и дом мгновенно, и машину дорогую, и разукрашенную в салоне куклу на переднее сидение. Поэтому разговоры с клиентами стали не только частью работы Анатолия, но важной, необходимой составляющей его жизни и досуга.
– Дом у вас неплохой, двухэтажный. На ремонте деревяшек такой подняли? – переключил тему разговора Евгений, с шипением дуя на горячий чай в оранжевой фарфоровой кружке.
– Дом родительский. А мастерскую уже создавал я. Собственно, я ведь не всегда занимался деревяшками, при Союзе был фрезеровщиком целого шестого разряда, на нескольких заводах работал, даже в самодеятельных ансамблях при профсоюзах выступал. Пели свои песни, а также обязательная программа – про войну, про Родину и про стройки века. Как говорится, до ремонта гитар и скрипок я был квалифицированным строителем коммунизма.
– Хорошо, что не достроили.
– Что не достроили – дом или коммунизм?
– Коммунизм.
– Ну, не знаю. Может и хорошо, но многое в Союзе было правильным, отвечу я вам с высоты собственного пережитого опыта и наблюдений.
– Какой там «правильным», если развалился этот ваш Союз. Рухнул, как подкошенный.
– Почему же «наш»? Он и ваш, это ваша юридическая, как я понимаю, и уж тем паче историческая родина. Вы ведь, Женя, к сожалению, не застали наше большое Отечество в сознательном возрасте, поэтому, как мне кажется, рассуждаете о нём через призму лихо нарубленных в постсоветское время пропагандистских штампов. Раньше хороший дом у квалифицированного рабочего не воспринимался чем-то из ряда вон. Это сейчас двухэтажный дом у нас в состоянии себе построить или купить только, как принято нынче говорить, деловые люди. А тогда – выйдите за двор – целые улицы выгнаны простыми рабочими.
– Было такое, не спорю. Но я о другом. Вот вы, коммунисты, за равенство топите, за справедливость. А было ли оно, это равенство в вашей стране? У одних были привилегии партийные, дачи там, спецпайки, а у других – хибары в лагерях для политических. Я вообще считаю, что не может быть в жизни никакого равенства и справедливости, они самим Всевышним не предусмотрены. Вот, смотрите, один умирает в сорок лет, а то и раньше, а другой в сто лет, или больше. Где здесь равенство? Один родился в Париже, в семье олигарха, а другой – на крайнем Севере, в юрте оленевода- алкаша. Понимаете?
– Что ж у вас, у молодёжи, всё в головах как-то через пень-колоду упаковано? Учителей бы ваших всех на уборку урожая в колхоз отправить, а после – в перековку на курсы повышения квалификации, – вздохнул Анатолий Иванович. – Во-первых, почему вы Советский Союз так упорно своей страной не считаете? Не надо путать государственный и политический строй с той землёй, народом и культурой, которые вокруг тебя, и которые были раньше, существуют в данное время и останутся в грядущем как неизменная, вечная величина. Во-вторых, я никогда не был коммунистом. В стране жило почти триста миллионов человек, из которых лишь каждый пятнадцатый вступил в коммунистическую партию. Да и то половина не из-за убеждений, а по рекомендации и из-за карьеры.
– Так вы ж поддерживали политику партии, славили совок, – перебил Евгений.
– Ой, какое нехорошее слово, этот ваш совок. Бог, ты мой, что вы только в его смысл ни вкладываете. А ведь у понятия так называемого совка корни и горизонты применения были гораздо глубже и шире. Вот я, например, помню, что слово это появилось в обиходе у шестидесятников. Знаете, кто это такие?
– Те, что в шестидесятые годы родились, наверное.
– Ответ неправильный, те, кто в шестидесятые годы творил вечные произведения, поэт Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, барды Окуджава, Высоцкий, Визбор. Надеюсь, слышали таких? Эти люди, мил человек, отнюдь не являли собой каких-то антисоветчиков, все в равной мере были преданы ленинской идеологии и патриотически настроены. Но уже тогда критиковали зачванившихся, чрезмерно ретивых, пафосно неадекватных номенклатурщиков, а по-иному – совков. Помните старый чёрно-белый фильм «Большая жизнь», там ещё парторг был такой – маленький, лысенький, противный. Вот – типичный образчик. Не помните? Ну, да, это кино другого поколения… Их много было, совков, перекрасившихся и перебежавших туда, где теплее, предавших Отечество и народ. Причём повсеместно – от Москвы до самых до окраин. И Союз валили вовсе не хиппи и не шестидесятники, а именно совки, сохранявшие систему своего доминирования. Мародёрами я их называю. Кто во время революций, войн и больших перемен ловит рыбу в мутной воде? Мародёры. Всегда они первыми бегут за чужим добром. Собственно, смысл Советской власти был в том, чтобы победить совок и отстроить государство, в котором жить было бы хорошо и комфортно всем. Шестидесятники, например, мечтали о человеческом будущем, совки же – о своих привилегиях, возможностях и желудках.
– Так их, таких совков, и сейчас пруд пруди, – соглашаясь с Анатолием, заметил гость.
– Да, всё, как сейчас. Совки никуда не делись, они переродились и сохранили свою систему уже внутри нового государственного проекта. Советский – это был великий замысел. А совок – это то, что мешало его реализовать. Вот, ваша скрипка, например, тоже сделана во времена Союза, и сделана не каким-то там совком, а большим мастером, между прочим, самим Львом Горшковым. А работы великих мастеров требуют к себе особого, крайне внимательного и бережного отношения. Вы, вот, решили, что скрипку нужно перелакировать, чтоб красивой была, блестящей, как гладь морская, вид чтоб товарный имела. А я предлагаю иной подход – сохранить инструмент в его первозданном виде – стяну трещины, подравняю шеллачное покрытие, отстрою высоту струн и мензуру. Пусть этот антикварный вид и вызывает вопросы у ретивых эстетов, но среди настоящих музыкантов и благодарных слушателей никаких вопросов не возникнет. Я бы, может, и с радостью взялся за ваш заказ, тем более, как я понимаю, вы платежеспособный клиент. Почему бы мне и не заработать на вас лишнюю копейку? Но я не могу совершать преступления перед музыкой и историей. А что про меня мои коллеги по цеху скажут?
– Мне кажется, что много пафоса, Анатолий Иванович, – улыбнулся Евгений, возбуждённо ёрзая на стуле. – Ну, пусть Лев, пусть Горшков. О нём только вы, как мастер, пожалуй, и знаете.
– Нет- нет! Здесь вы заблуждаетесь, – громко запротестовал Анатолий. – Горшкова знали крупные музыканты – итальянцы, австрийцы, немцы. Это имя известно русским скрипачам и виолончелистам, игравшим в Московской и Белорусской консерваториях. Горшкова, как великого мастера уважали сам Ростропович, сам Климов и даже Шостакович.
– Вы хотите сказать, что эта деревяшка достойна сравнения со скрипками Страдивари что ли?
– Почему бы и нет? Кто сказал, что инструменты Страдивари эталон в скрипкостроении? Это сказала реклама! Сказали те, кто наживает состояния на продаже продуктов Страдивари, и не более. А все эти сказки о каких-то особых сортах дерева и о тайнах лака – всего лишь маркетинговая хитрость. Давно практически доказано, что скрипки Страдивари звучат ничем не лучше инструментов его современных последователей. Скажите, Женя, Евгений Борисович, с чем связан ваш бизнес?
– Это долго объяснять. Но он близок к медицинскому оборудованию. Потому я и спешу вечно, что, как я понял, не очень нравится вам. Понимаете, от моей работы, как и от труда хирурга, тоже зависят здоровье и жизни пациентов. Больницам и поликлиникам нужны исправные приборы, расходные материалы, детали и комплектующие для них. Это даже не старинные скрипки с гитарами, это куда важней.
– Замечательно! – воскликнул Анатолий Иванович, на его лице заискрилась надежда и робкая уверенность в том, что клиент негласно, но фактически принял его предложение. – Вы сами подвели наш разговор к этому моему сравнению. Как думаете, хирург будет оперировать больного, слушая советы самого больного? Думаю, нет, уверен, что не будет. Врач сам принимает решение об объёмах операции, исходя из проведённого диагностического исследования, опыта и профессиональной интуиции. В вашем случае я являюсь врачом, мой диагноз таков: ваша скрипка практически здорова, ей нужно условно прокапать витамины и поставить зубные протезы. Это шутка, конечно. Но кое-что в скрипке Горшкова действительно отсутствует, и требует установки.
– Что именно?
– Это…м-м-м…это душка. Маленькая такая еловая палочка, которая вводится внутрь корпуса скрипки и ставится между деками под нижнюю часть струнной подставки, примерно вот сюда, – Анатолий Иванович аккуратно ткнул пальцем в то место, где должна стоять душка. – Это очень важный элемент во всей конструкции, от него зависит звук инструмента. Знающие люди говорят, что само название этой маленькой палочки происходит от слова «душа». И это так, душа не на месте, и скрипка не звучит, а страдает. Как человек почти. Вот так. Обычно, если душки выпадают, то остаются внутри скрипки. А здесь её нет. Это к вам вопрос: куда девали, пока хранили скрипку?
– Точно! Была такая. Как огрызок карандаша, – вспомнил Евгений.– Но куда она делась, честно слово, не скажу, годы прошли.
– Да это и не важно, – спокойным наставническим голосом проговорил Анатолий Иванович.– Сделаю новую, лучше, чем была. Главное, чтобы душка была на месте. И тогда ваша скрипка зазвучит так, как когда-то она пела в руках вашего отца. Если бы вы знали, как я ему завидовал, ведь я пиликал, страшно вспомнить, на каком-то кривом бревне с треснувшей подставкой и безобразным смычком, произведёнными на уже давно закрытой одесской фабрике. Вы беспокоитесь, что ваш подарок не понравится дочери? А давно ли она обучается игре на скрипке?
– Уже четыре года, в ансамбле иногда солирует.
– В таком случае она благодарить будет вас за такой замечательный подарок. Как можно солировать на китайских фанерных коробках? Скрипка – это ведь даже не гитара, к которой гораздо меньше требований, скрипка – это какой-то невероятный собственный музыкальный мир, погружаясь в который, не побоюсь сказать, постигаешь Бога. Не меньше, Женя! Так вы согласны на моё предложение? Другое я просто не приму.
– Не знаю. Согласен, наверное, – неуверенно протянул Евгений, слегка заикнувшись на букве «н». – Мне лишь бы дочке понравилось.
– Хм… А давайте сделаем так. Сейчас мы с вами расстаёмся, а как ваш инструмент будет готов, вы приедете за ним ко мне вдвоём. А уж я постараюсь организовать встречу вашего сложного ребёнка и передачу ей скрипки Льва Горшкова так, чтобы для неё это было и приятно, и незабываемо. Она ведь никогда не бывала в гитарной мастерской, не видела этой тайной лаборатории, где зарождаются звуки музыки.
– В принципе, вариант. Главное Оленьку уговорить, понимаете? Там ведь и бабушка не в ту сторону стимулирует её мозги, и своих тараканов – хоть отбавляй, да и самому бы в себе разобраться и со своей девушкой тоже…
– Если могу быть чем-то полезен– звоните. И уж извините, что не стал побуждать вас к глубоким откровениям на сложные семейные темы. Вижу, что вам тяжело и без них, а я вовсе не психолог, порой себе не в состоянии дать дельный совет.
Анатолий Иванович набросил на плечи свой чёрный рабочий халат, показывая клиенту, что разговор подошёл к концу и пора прощаться. Евгений это сразу понял, поставил пустую кружку на край верстака, пожал руку мастеру и достал из портмоне новую пятитысячную купюру.
– Это аванс, Анатолий Иванович.
– Мы о цене, вроде бы, не договаривались. Не бросайтесь деньгами.
– Отказа я не приму, – твёрдым звонким голосом сказал Евгений. – Тем более, что вы взяли на себя обязательство провести куда более сложную работу, чем ремонт скрипки – это сделать небольшой праздник для Оленьки. Она ведь разучилась ценить хорошее. Весь мир для неё – плохой. Постарайтесь, пожалуйста, Анатолий Иванович. Кстати, я тоже плохой психолог, ещё хуже детектив, но кое-что заметил. Судя по обстановке на кухне, в мастерской, по вашим помятым брюкам, недомытой кружке где-то и у вас не всё в порядке в отношениях с женщиной. Угадал?
Мастер скромно, словно виновато, улыбнулся, растянув на всю ширину худого лица свои густые поседевшие усы. «Почти», – подумал Анатолий, но не ответил. Чаепитие завершилось умиротворяющим и многообещающим консенсусом. Этого на сегодня было достаточно.
IV
Когда Анатолий Иванович был просто Толей, он ещё не знал, что станет музыкальным мастером. Вряд ли кто-то в беззаботном детстве может предсказать, куда заведёт его кривая многообещающей жизни. Кто-то мечтал быть космонавтом, кто-то дипломатом, писателем или футболистом, а Толя мечтал стать гитаристом в каком-нибудь известном на всю страну вокально-инструментальном ансамбле. Или создать свой ансамбль, такой, как его любимые «Поющие гитары» или неподражаемые «Песняры», только ещё лучше, чтобы солидно, а не однотипно по-советски прозвучать на всю великую страну. И обязательно прославиться там, на таинственном и неизвестном Западе.
Что такое Запад, Толя представлял себе смутно, в основном делал выводы из разговоров взрослых. Отец Иван Анатольевич читал газеты, иногда делал это вслух, и часто повторял: «Брешут наши, что у них там, на Западе всё загнивает. Загнивало бы, давно подняли по всему миру революции и установили социалистический строй. Как у нас, или хотя бы как у тех венгров и югославов. А так ведь глянь, живут, сволочи, и неплохо живут. Песни поют, в футбол хорошо играют, да и в хоккей тоже умеют. Шведов, вот, мы разбили под Полтавой, а на чемпионате мира еле-еле победу в финале выдрали: шесть – четыре. Нет, брешут наши, не договаривают нам что-то, за свои должности и своё благополучие беспокоятся, чтоб рабочий класс не возбухал».