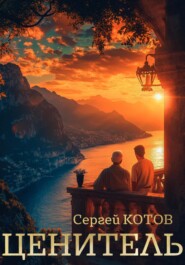По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эпоха перемен 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Первые десять тысяч бросков во времена Западной Чжоу привели к странным результатам, которые потом лишь дополнялись и углублялись последующими исследователями, – сказал он. Его речь стала более архаичной, иногда я с трудом его понимал, будто он пытался говорить на Вэньяне. – Человечество и мироздание неизбежно клонилось к закату. Многие школы смирились и учились жить сегодняшним днём. Благом стало продление теперешнего состояния бытия, а древние времена Жёлтого Императора были объявлены Золотым Веком, к восстановлению которого следует стремиться как к высшей гармонии. Из-за этого эпоха великих географических открытий, сделанных Чжэнь Хэ, не привела к тому, к чему могла бы…
Он водил скрюченным пальцем по аккуратным столбикам древних иероглифов, чуть прикрыв глаза, будто вспоминая события тех древних дней, о которых шла речь в тексте.
– Эта мудрость была доступна лишь избранным. Императорам прежде всего. Поэтому Сын Неба, едва взойдя на престол, постигал конечность этого мира. Попытка сдержать наступление неизбежного разъедала стройную систему государственного управления изнутри. Чиновники становились всё более жадными. Забыли о своих лицах и долге. Это привело к катастрофе эпохи Мин, когда Небесный Трон занял чужестранец… – он снова вздохнул.
Потом посмотрел на меня.
– Скрытая наука продолжала развиваться. Среди вековой тени монастырей, оторванная от мира продолжала жить мудрость, – сказал он. – После первы десяти тысяч за тысячи лет миновало десять миллионов по десять тысяч бросков, и картина стала яснее. Как невесомый штрих на великой каллиграфии Вселенной засиял тонкий путь, единственная тропа, ведущая к вечности без гибели и разрушений всего сущего…
Он сделал несколько поворотов свитка. Прочитал несколько строчек про себя, и снова взглянул на меня.
– Все знаки указывали на ледяной север. На вашу странную страну. На жестокие и дикие земли, населённые удивительным белым народом, лишь внешне напоминающим знакомых европейцев… только внимательно изучив вас, мы поняли, что души наших народов не так уж и различаются. Примерно во время Минской катастрофы вы пережили схожую Смуту. Тогда вы не дали взойти на свой престол, как вы думали, чужестранцу. Но здесь есть тонкость вместе с иронией великой судьбы: всего через сто лет среди правителей России не останется русских. Последний императорский дом лишь великой фамилией будет связан со своими подданными – но не кровью. Ирония в том, что во времена Смуты русские и поляки были, фактически, одним народом, разделённым только религией. Вы все одного корня: белорусы, поляки, украинцы, русские. Это всё равно, что престол Восточной Чжоу занял бы правитель Западной Чжоу. Вот этого вы избежали тогда. Но результат был тем же: чужестранец на троне. Да, как и у нас, чужаки, занявшие престол, фактически стали русскими. Как маньчжуры переняли все великие традиции нашей цивилизации и даже казнили предателей, которые довели до самоубийства последнего Минского императора… – он глубоко вздохнул. – Но есть и большие отличия. Ты знаешь, что случилось с последним императором на Небесном Троне?
Он испытующе поглядел мне в глаза, будто строгий преподаватель на экзамене.
– Знаю, – кивнул я. – Если вы говорите про Пу И, то он до конца жизни прожил в своём дворце, в Запретном Городе, в центре Пекина, формально работая садовником.
– Верно, – кивнул китаец. – Ты же понимаешь, почему?
– Потому что высшая власть – сакральна и священна, – ответил я. – Ни один правитель не может подвергнуть остракизму своего предшественника, не рискуя разрушить всю систему государственных отношений.
– Верно. И ты, конечно, прекрасно знаешь, что произошло у вас.
– Убийство императорской семьи… – сказал я, но добавил, просто из чувства противоречия: – Но к тому моменту он отрёкся от престола. То есть не был императором.
– Пу И тоже отказался от Небесного Трона, заняв пост правителя дружественного Японии государства Маньчжуров. Ничего хуже для Китая и представить невозможно. Но даже безобразное личное поведение правителя не избавляет его от сакральной ноши, – с грустной улыбкой сказал китаец. – Тем более не избавляет от обязанностей его подданных. То убийство не было санкционировано высшим руководством коммунистов, которые пришли к власти. Потому что Ленин был слишком умён для этого. И это действие предопределило конец СССР. Ты ведь знаешь, когда участь СССР была предрешена?
– Когда к власти пришёл Горбачёв, – ответил я.
– Вовсе нет! – Брови китайца удивлённо взлетели. – Это произошло тогда, когда новые правители публично унизили Сталина. И это было принято обществом, потому что высшая власть потеряла сакральность. Именно тогда Председатель Мао решил, что ему больше не по пути с таким Советским Союзом…
– Да… пожалуй… – кивнул я.
– Правитель, который будет следующим после Ельцина, должен будет проявлять максимум уважения. Если хочет, чтобы система власти сохранилась и после него… – он снова вздохнул, и добавил: – Впрочем, это едва ли произойдёт.
– Та катастрофа, о которой вы говорите? – осторожно спросил я. – Что вам известно о ней?
– То же, что и тебе. Она приведёт к тотальной гибели всего живого.
– То есть, вы… знаете, кто я?
– В истории этого мира было несколько переломных моментов, которые могли привести к всеобщей гибели. Тогда вероятность этого была куда меньше, чем сейчас, но всё же. Каждый раз приходил кто-то, подобный тебе. И слегка поправлял вечный круговорот событий, отводил его от пропасти… но сейчас ситуация иная. Сейчас очень малы шансы того, что нам удастся этот поворот пройти. Скорее всего, у тебя ничего не получится.
– И всё это вам сказали эти монетки и чёрточки? – сказал я, стараясь изобразить пренебрежение. Меня ужасно раздражало то снисходительное спокойствие, с которым китаец говорил со мной.
– Это сказала сама Вселенная, – с таким же спокойствием и лёгкой улыбкой ответил он. – На том языке, на котором она привыкла говорить с момента своего создания. На языке математики.
Я прикрыл глаза, чтобы справиться с эмоциями. И в какой-то момент почувствовал, что готов «зеркалировать» ироничное спокойствие китайца. Интересно, как ему понравиться, если я буду воспринимать происходящее с теми же эмоциями?
– Почему вы мне помогаете, раз считаете, что шансов почти нет? – спросил я таким тоном, будто речь шла о нюансах каллиграфий Ци Байши «креветочного» периода.
– В эмоциях вы, русские, типичные европейцы, – с улыбкой ответил он. – Но вот в своих решениях вы сильно похожи на нас. Потому что верите в то, что есть нечто большее, чем просто человек. Это нас объединяет. И это же формирует непроходимую пропасть между нами и цивилизацией Запада…
Последовала долгая пауза, в течение которой китаец сосредоточился на созерцании замысловатого узора на деревянной столешнице. Я уже решил было, что всё, разговор окончен и больше никаких ответов я не получу. Но он заговорил снова:
– И всё же благодаря Западу мы получили технологии, которые позволили нам сделать то, что было совершенно немыслимо ещё какие-то сто лет назад. Десять миллионов бросков – жалкая песчинка в том океане закономерностей, которые смогли исследовать мы с появлением нового поколения быстрых процессоров. И вот: теперь мы знаем, что к спасению ведёт одна-единственная узкая тропа. Проторить которую должен человек из холодной северной страны на краю мира, которая совершила в своей истории так много страшных ошибок, но всё равно остаётся живой.
– То есть, вы всё посчитали, – констатировал я.
– Всё посчитать невозможно, – ответил китаец. – Но мы знаем достаточно, чтобы вмешаться.
– Спасибо, – кивнул я. – Это было очень кстати.
– Ты поступал глупо и недальновидно, – заметил китаец.
– Уж как получилось, – вырвалось у меня до того, как я успел прикусить язык.
Опять он провоцирует меня на эмоции.
– Впредь будь осторожнее, – сказал он. – Ты подобен маленькой лодке из вощёной бумаги на краю огромного шторма. Шансы, что ты сможешь прорваться через бурю есть, но не слишком высокие. Высшая ирония в том, что судьба целого огромного мира зависит от этого маленького кораблика.
– Означает ли это, что вы и дальше готовы мне помогать? – я решил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы задать вопрос, который меня больше всего интересовал с момента начала нашей встречи.
– У тебя есть один шанс из десяти тысяч не погибнуть до того, как ты уверенно встанешь на тропу спасения, – ответил он. – Мы же можем обратить вспять то, что выпало, всего лишь три раза. Один из них ты уже использовал. В противном случае наша помощь потеряет смысл: тропа закроется.
Я потёр подбородок, ещё раз вздохнул, с грустью взглянув на чайный столик, сиротливо притулившийся в углу столешницы.
Почему-то сильно захотелось чая. Такого же бодрящего, которым он угощал меня в прошлый раз.
– То есть шанс один к десяти тысячам, так? Что мне удастся предотвратить Катастрофу? И вы сможете помочь всего лишь два раза? Я правильно понял?
– Нет, – улыбнулся китаец. – В той точке, где ты оказался, шанс того, что Катастрофы не случится, составляет уже один к ста. Это очень много. И с каждым годом вероятность благоприятного исхода будет расти. Один к десяти тысячам – твой шанс дожить до того времени, когда вероятность Катастрофы минует.
– То есть… – начал соображать я, но китаец меня перебил.
– То есть, скорее всего, ты погибнешь, спасая нас всех, – ответил он. – Такова участь тех, кто приходит.
Я вздохнул и попытался улыбнуться.
– Что мне делать? – спросил я. – Чтобы не допускать ошибок?
Китаец чуть прищурился, глядя на меня.
– Правильный вопрос. Я постараюсь дать тебе три совета. А уж то, насколько ты ему последуешь, зависит только от тебя.
– Я внимательно слушаю, – кивнул я.
– Первое, – начал китаец, – ты не справишься без друзей. Но для этого тебе нужно научиться понимать, кто друг, а кто не очень. Второе: избегай соблазна личной власти. Он будет очень силён и приведёт к тебя к гибели, если не сможешь ему противостоять. И третье: прояви милосердие там, где места для милосердия не останется.