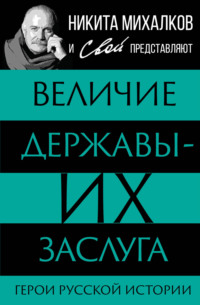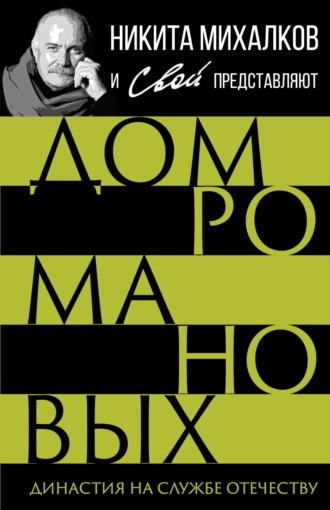
Дом Романовых. Династия на службе отечеству
Россия стремительно продвигалась на Дальний Восток и на Север. На составленном в 1667 году по указу Алексея Михайловича чертеже под названием «Сибирская земля» была впервые показана река Камчатка. Русская держава обосновалась на берегах Тихого океана. Северные народы платили Москве налог собольими шкурами и моржовой костью, а землепроходцы шли все дальше и дальше, осваивая прежде неведомые речные и морские пути. Среди пионеров были в основном казаки, отличавшиеся не только отчаянной храбростью, но и умением – в зависимости от обстоятельств – сражаться, идти вперед в любую непогоду, вести переговоры, завязывать дружеские отношения с племенными вождями… Это рвение русских героев превратило страну в огромнейший континент, что является, пожалуй, главным результатом тридцатилетнего правления Тишайшего.
В его времена Богдан Хмельницкий поднял восстание против Речи Посполитой. Гетман не раз писал в Москву, просил принять украинские земли под российскую корону, но Алексей Михайлович с этим не торопился. В январе 1654-го он послал в Переяслав своего посла, боярина Василия Бутурлина, и Рада наконец провозгласила историческое воссоединение с Россией, что означало для нашей страны новую войну с Польшей. Русское воинство и это испытание выдержало достойно.
Русский царь вызывал уважение не только у подданных. Немецкий купец Рейтенфельс из Москвы на родину писал: «Алексей Михайлович такой государь, какого желают иметь все христианские народы, но немногие имеют». Наш самодержец отличался непоказным милосердием, но при этом умел держать слово и скипетр власти в руках.
Подобно отцу он, увы, не отличался крепким здоровьем. После сорока пяти все реже ездил верхом, чаще – в карете. Пытаясь восстановить силы, обращался к врачам. Умер в возрасте 47 лет (как писал летописец, «в просветлении и покаянии»), простудившись на охоте – хотя на склоне лет посвящал любимому увлечению мало времени. В последние часы жизни он благословил на царство 14-летнего Федора, приказал освободить из темниц узников, уплатить долги за должников. Также отнюдь не отличавшийся крепким здоровьем старший сын (был тем не менее очень талантливым, не по годам мудрым политиком!) прожил недолго, и в дальнейшем образ царя Алексея заслонит в нашей и мировой истории фигура его младшего отпрыска, яростного, неуемного Петра, первого российского императора. Тот во многом следовал избранному отцом курсу, вот только не получил в наследство от родителя его умеренности.
Много лет спустя Василий Ключевский писал: «Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси».
Под высокую руку. Как при царе Алексее Михайловиче проходило воссоединение с Украиной
Валерий Шамбаров

Большая государственная печать Алексея Михайловича. 1667 год
1 (11) октября 1653 года в Москве открылся Земский собор. Представителям «всей земли» от разных сословий и территорий царь Алексей Михайлович предложил рассмотреть «неправды» польского короля и «присылки» Богдана Хмельницкого. После обсуждения этих вопросов опросили делегатов «по чинам порознь», и те высказались единогласно: «против польского короля войну весть», а «того гетмана… и все Войско Запорожское з городами и з землями принять под… высокую государеву руку». Постановление высшего органа нашей державы ознаменовало событие, которое впоследствии было названо воссоединением Украины с Россией.
Юридического и политического термина «Украина», разумеется, не существовало. Слово означало окраину, в документах XVII века встречаются разные украины: московская, крымская, сибирская, польская. Жители последней именовали себя «русскими», православие в Речи Посполитой они называли «русской верой», а Львовщина имела статус Русского воеводства. Николай Гоголь писал о Сечи как о русском товариществе. Единственный официальный титул Богдана Хмельницкого – гетман Запорожского войска. Изначально против польских поработителей он выступил с тремя тысячами сечевиков, но после первых побед православных над шляхтичами взорвалась восточная часть Польши, и все, кто поднялся против панов, причисляли себя к «козакам» (иных наименований для простонародья польские законы не предусматривали, если ты не козак, то бесправный хлоп, а оставаться таковым не желал никто).
Хмельницкий был хорошим организатором. Охваченные восстанием территории он разделил на 16 полков, а те – на сотни. Административно-территориальные единицы, таким образом, стали тождественны воинским подразделениям, которыми командовали опытные казаки. То есть Россия принимала «под государеву руку» не Украину, а «Войско Запорожское с городами и землями». Позже ввели обозначение «Малороссия».
В дореволюционной либеральной и в советской литературе заслуги царя в освобождении единоверцев всячески принижались. Авторы непременно указывали на «нерешительность» Алексея Михайловича, далеко не сразу согласившегося принять в свое подданство тех, кто об этом просил (первую такую просьбу запорожский гетман направил еще в июне 1648-го). Для подобной осторожности у государя были объективные, очень весомые причины.
Отношения нашей страны с населением польско-литовских окраин были непростыми. Жители тех областей очутились на границе не просто двух государств, но разных цивилизаций. Православная вера, общие исторические корни, язык, культура привязывали украинцев к России. Католический мир был им глубоко враждебен, однако настроениями русских Польши научился неплохо манипулировать.
Запорожская Сечь с момента основания (1556) служила московскому царю, получала от него жалованье, выполняла его приказы, и в то же время панам удалось настроить часть казаков против России. Из-за усиления социального и религиозного гнета в результате насаждения унии начались восстания. Возглавивший одно из них (1591–1593) Криштоф Косинский обращался в Москву, желая перейти под ее власть, но царское согласие опоздало, и мятеж подавили. Восставшие под предводительством Северина Наливайко (1594–1596) тоже ратовали за то, чтобы присоединиться к России, однако в Смуту жители тех же окраин «отличились» в армиях обоих Лжедмитриев и короля Сигизмунда, отметились страшными зверствами. Запорожский гетман Петр Сагайдачный в 1618 году с 20-тысячным войском сжег десяток русских городов, осадил Москву.
Когда война закончилась, паны сразу же забыли о своих обещаниях православным и снова взялись их притеснять. Уже в 1620-м все тот же Сагайдачный прислал послов в русскую столицу, просясь под власть царя «со всем Запорожским войском». Гетману по понятным причинам ответили весьма уклончиво. В 1625-м поднял восстание Марк Жмайло, который, заручившись поддержкой киевского митрополита Иова (Борецкого), обратился к России: «Мы все царской милости рады и под государевою рукою быть хотим». В 1630-м гетман Тарас Федорович (опять же поддержанный митрополитом) выразил общее желание казаков воссоединиться с единоверцами большой Руси. Причем поляков они на поле брани победили. Но паны задобрили запорожцев вроде бы выгодными для них условиями договора и добились мировой.
Украинцев, разумеется, снова обманули, и череда восстаний в начале 1630-х продолжилась. Через пограничных русских воевод повстанцы передавали просьбы о принятии их под царскую эгиду, молили о помощи. Россия сочла этот момент благоприятным и объявила новую войну. Но по призыву короля Владислава, не скупившегося на щедрые посулы, большинство казаков и ополченцев из восточных областей хлынули к нему. Какая-то их часть вместе с крымской ордой ринулась на Русь, опустошая наши села вплоть до Оки, остальные 15–20 тысяч сражались в королевской армии. В битве под Дорогобужем Владислава спас не кто иной, как Богдан Хмельницкий, который порубил едва не пленивших короля русских воинов.
Настал мир, и все повторилось. Посулы развеялись очередным обманом. Гнет усиливался. В 1635–1638 годы покатилась волна восстаний, поднятых Сулимой, Павлюком, Остряницей, Полторакожухом. Поляки усмирили мятежников виселицами и кольями. Жителей нелояльных сел уничтожали поголовно, невзирая на пол и возраст. Тысячи людей бежали от карателей на российскую территорию. Беженцев принимали, а требования польских дипломатов о выдаче украинцев русские отвергали. Обездоленным выделяли продукты, деньги, помогали в обзаведении хозяйством, а размещали их в районе нынешних Харькова, Сум, Изюма, Чугуева. Эти принадлежавшие России места стали называть «слободской украйной» или «слобожанщиной»: вновь прибывших расселяли слободами, то есть освобождали от налогов за службу по охране границы.
Украину паны настолько затерроризировали, что она 10 лет не смела сопротивляться. Поработители обнаглели вконец, уверились во вседозволенности, грабеж подданных дополнился всевозможными унижениями, издевательствами. Когда Богдан Хмельницкий из-за личной обиды взялся за оружие, накопившийся за десятилетие порох всеобщего недовольства вспыхнул.
Первые обращения казаков в Москве восприняли настороженно. Здесь уже привыкли к тому, что мятежи на польских окраинах возникают постоянно и всякий раз восставшие изъявляют желание стать подданными царя. Часто русское правительство даже не успевало отреагировать на челобитные – бунты подавлялись быстрей. Причем паны обычно раскалывали казачество, перекупали богатую верхушку теми или иными привилегиями. Иногда завлекали и рядовых, а те выдавали предводителей, помогали усмирять собратьев.
В России не забыли, как недавно бунтовавшие казаки во время войны оказывались на стороне противника. А противостояние намечалось нешуточное. Речь Посполитая была большой и сильной державой. За ней стояли Франция, Ватикан, германский император, могли вмешаться в конфликт шведы, крымцы, турки. Царь отвечал за своих подданных перед Богом и должен был тщательно просчитать, стоит ли рисковать их кровью.
Для начала повелел детально разузнать, что творится у соседей, отправил тайных посланцев к гетману. Надежных оснований доверять ему пока что не было. Богдан Хмельницкий союзничал с крымским ханом, вел переговоры и заключал перемирия с поляками, не оставлял надежды на то, что они согласятся на приемлемые для обеих сторон условия сосуществования. Тем не менее русский царь в беде единоверцев не бросил, считал это страшным грехом. Оказание помощи запорожцам началось сразу же – деньгами, продовольствием, пушками, ружьями, боеприпасами. Алексей Михайлович неофициально, как бы по собственной инициативе, направил к повстанцам своих подданных, донских казаков, негласно дозволил идти туда и добровольцам. Воеводы доносили, что мужики «бегают за рубеж», вступают там в казачьи формирования, и «бегунам» никто не препятствовал.
В 1649 году к Хмельницкому приехал официальный посол России Григорий Унковский, который привез «государево жалование» и дал понять, что царь готов взять под свое покровительство восставшую страну при условии ее освобождения «от Польши и Литвы без нарушения мира». Гетман таким ответом остался крайне недоволен, а далее вступила в дело царская дипломатия. Москва вдруг отказалась подтвердить прежние условия мира с Речью Посполитой. Наши послы в Варшаве начали заявлять о нарушениях поляками договоренностей, чем припугнули панов и вынудили их утвердить компромиссный Зборовский договор с Хмельницким. Области восточнее реки Случь получили автономию, самоуправление, там восстанавливались православные храмы. В конечном итоге все это не удовлетворило ни одну из сторон, и война возобновилась.
Россия не бросила восставших, а гетман благодарил государя за то, что он «велел их в такое злое время прокормить, и… многие души от смерти его царского величества жалованьем учинились свободны и с голоду не померли». В 1650 году русские дипломаты неожиданно предъявили полякам ультиматум, потребовали вернуть Смоленск и выплатить полмиллиона злотых компенсации. Угрозой новой войны сорвали атаку шляхты на Хмельницкого. В феврале 1651-го Алексей Михайлович созвал Земский собор, который высказался за разрыв отношений с Польшей и принятие «Запорожского Войска» под российскую власть. И все же вопросы о самой войне и сборе чрезвычайного налога на нее царь на всеобщее обсуждение еще не вынес. Узнал мнение «всей земли», сделал панам еще одно грозное предупреждение и начал готовиться к схватке. Наращивалось производство орудий, мушкетов, пороха, формировались полки «нового строя» – солдатские, драгунские, рейтарские.
На поляков эти угрозы не подействовали, наоборот, с присущим им гонором они восприняли слова и действия русских как проявления слабости: мол, стращают, а воевать боятся. Подзуживали и финансировали панов римский папа и германский император. На льющиеся с Запада деньги вербовались массы немецких наемников. Крымские «друзья» Хмельницкого показали полную ненадежность, сражений с поляками всячески избегали, зато безжалостно грабили и угоняли в полон союзников. Мало того, хан сговаривался с королем Яном Казимиром, желая увлечь украинских повстанцев в набег на Россию. Гетман терпел поражения, освобожденные было районы вновь захватывали поляки, а жители опять уходили оттуда к русским. Взявший их под личное покровительство Алексей Михайлович селил беженцев на слобожанщине.
В марте 1653 года собравшийся в Бресте внеочередной сейм Речи Посполитой официально взял курс на геноцид: дескать, жители мятежного региона представляют угрозу вечных бунтов, значит, надо всех просто-напросто истребить. Русские дипломаты докладывали: «А на сейме ж приговорили и в конституции напечатали, что казаков как мочно всех снести». Выполнять решение принялись с ходу, польское войско вырезало подчистую несколько городов.
Тогда-то царь и объявил мобилизацию. Хотя последнюю попытку решить проблему миром все же предпринял. В Варшаве посол Борис Репнин предъявил новый ультиматум, заявив: государь простит «неправды» королю, если он и паны «успокоят междоусобие с черкасами, возвратят православные церкви, которые были оборочены под унию, не будут впредь делать никакого притеснения православным и помирятся с ними по Зборовскому договору».
Самоуверенные поляки даже не рассматривали такие условия, намеревались разгромить отряды Хмельницкого ударами с трех сторон – из Польши, Литвы и Молдавии.
Эти планы были перечеркнуты сосредоточением русских войск на границах, а осенью 1653-го открылся Земский собор, постановивший принять восставший край в состав России. Теперь решение наших властей было полновесным: собиралась на войну «десятая деньга», формировалась могучая рать. 23 октября в Успенском соборе было всенародно объявлено: царь повелел «идти на недруга своего польского короля» за многие его «неправды». К Хмельницкому выехало посольство боярина Василия Бутурлина, уполномоченного принять Малороссию в подданство.
Россия не напрасно столь долго взвешивала этот шаг, так тщательно к нему готовилась. В популярных книжках и учебниках историю воссоединения часто завершают картиной Переяславской рады, где рыдавшие от счастья делегаты принесли присягу «во веки всем едино быть». В действительности ради их спасения и освобождения нашей державе пришлось вступить в несколько жестоких, затянувшихся на 27 лет войн: с Речью Посполитой, Крымским ханством, Швецией и Турцией.
Причем внешних врагов побеждали, а внутри страны сказывалась пресловутая «особенность пограничья цивилизаций», «двойственность мышления». Для простонародья сильная власть царя, защищавшего подданных от вражеских нападений и хищничества местных начальников, была благом, однако казачью верхушку порядки в России не устраивали. Полковники и сотники захватили панские замки, стада, земли, чувствовали себя новыми панами. Им хотелось таких же свобод, как в Польше: гуляй в свое удовольствие, вытворяй что хочешь в собственных владениях, и пусть поляки их себе равными признают…
После смерти Богдана Хмельницкого почти все его преемники стали предателями: Выговский, Юрий Хмельницкий, Дорошенко, Брюховецкий. Мазепа позже лишь продолжил традицию. Русские раз за разом получали удары в спину, из-за чего погибли две царские армии, оказались перечеркнуты плоды наших побед. Именно поэтому воссоединение ограничилось тогда Левобережьем Днепра и Киевом. Завершать процесс пришлось уже Екатерине Великой.
Часть вторая
Петр и его «гнездо»
Царское ли это дело – абордаж. Как русские одержали первую морскую победу над шведами
Валерий Шамбаров

Взятие шведских кораблей в устье Невы. Художник Леонид Блинов, 1890 год
Почему русские мальчишки, даже те, что родились и выросли вдалеке от больших акваторий, испокон веков влюблялись в море? Адмиралы Федор Ушаков и Павел Нахимов, братья Михаил, Андрей и Алексей Лазаревы, Сергей Горшков, Арсений Головко, Иван Исаков и другие великие мореходы о штилях и штормах, горько-соленых ветрах и бескрайних морских просторах в детстве могли лишь мечтать. Ну а первым в этом ряду стоит император Петр Великий. Казалось бы, его путь к морям определился с младых лет цепочкой случайностей. Но разве подобные судьбы могут быть обусловлены исключительно совпадениями?
Однажды Петр со своим учителем, голландским офицером Францем Тиммерманом отправились погулять в старую, запущенную отцовскую усадьбу Измайлово, где в сараях обнаружили массу интересной рухляди. Внимание мальчика привлекли не поломанные кареты или театральные декорации, а утлый ботик. Позже выяснилось, что тот принадлежал двоюродному дедушке юного царя боярину Никите Романову, купившему суденышко у англичан. Имя бот носил гордое – «Святой Николай», то есть назван был в честь покровителя мореходов. Еще полувеком ранее его, судя по всему, видели на Москве-реке, однако ни к каким далеко идущим последствиям тогда это не привело: поглазели люди на диковинку и забыли. Посудина за ненадобностью лежала в сарае с прочим хламом, покуда туда не заявился юный государь в сопровождении кстати оказавшегося поблизости голландца. Мальчика увлекли его рассказы о парусах, мачтах, искусстве плавать против ветра. К тому же у юного монарха имелись немалые возможности для удовлетворения собственного любопытства.
Отец Петра тоже в свое время задумывался о мореходстве. Он построил корабль «Орел», совершивший единственное плавание от верфи в Дединове до Астрахани и брошенный там при восстании Степана Разина. Алексей Михайлович давал указание измерить глубины в устье Дона, прикидывал, можно ли построить и вывести в море суда для войны с Турцией. Но такие вопросы считались второстепенными, отвлекали иные дела.
У мальчишек – другая логика, их порыв часто подкрепляется бешеным напором и недюжинной энергией. В Немецкой слободе удалось отыскать строившего «Орел» мастера Карштена Брандта. Старик и найденный ботик починил, и Петра взялся обучить управлению парусами.
На узкой Яузе и в загородных прудах развернуться было негде, однако и эту проблему решили. Тайком от матери будущий император с верными друзьями и случайно найденным ботиком очутился в Переславле на Плещеевом озере. Плавания ему так понравились, что царь тут же повелел строить потешную флотилию.
Когда же стал полноправным государем, мальчишескую мечту не оставил. В 1693-м отправился в единственный русский порт Архангельск, где попал в особый мир моряков и кораблей. Самолично выходил в море. Северные волны обдавали солеными брызгами, густые кудри трепал свежий ветер – море окончательно пленило Петра. Он тут же приказал основать верфь в Соломбале, сам заложил первое судно «Святой Павел».
В следующем году на Русский Север царь помчался ранней весной. Увлечения европейскими новшествами сочетались у него с уважением к русским традициям, с твердой православной верой. Великий пост государь провел в Соловецком монастыре, молился под наставничеством прозорливого старца Иова, которому являлась сама Пресвятая Богородица. Здесь тоже дул соленый морской ветер, слышался шум прибоя, а летом открывались возможности для дальнего плавания. Петру Алексеевичу довелось испытать и страшный шторм. Царь кинулся было давать советы лоцману, опытному помору Антипу Тимофееву, но тот обложил порфироносного «моряка» по матушке – чтоб не мешался. Будучи на волосок от гибели, бывалый мореход сумел ввести судно в узкую Унскую губу, а потом опустился перед Петром на колени, стал каяться, готовый понести наказание. Однако государь его поднял, расцеловал и наградил за правильное поведение. Так и набирался опыта строитель нашего военного флота, превращаясь из увлеченного мальчишки в морского волка.
Наконец пришел черед воплощать отцовскую идею о русских кораблях на Азовском море с использованием их против турок. В 1696 году под Воронежем царь спустил на воду боевую флотилию. Дойдя с ней до Черкасска, он узнал от казаков: недалеко от побережья видели турецкие корабли. Для воплощения давней заветной мечты недоставало лишь морского сражения: грохота орудий, густых клубов дыма на палубах, перебитых снастей, жарких атак… Петр I повел к устью Дона девять галер, к которым присоединились 40 казачьих лодок. Битвы не получилось: из-за сильного ветра и сложного фарватера вывести большие суда в море не удалось. Петр на одной из лодок отправился на разведку. Вскоре обнаружились 13 неприятельских кораблей, их команды, доставившие в Азов припасы, перегружали их на небольшие плоскодонные посудины.
По приказу государя казаки устроили засаду. Захватив 10 тунбасов, погнались за кораблями неприятеля. Один взяли на абордаж, другой перепуганные турки подожгли и бросили. Впоследствии возникла легенда о том, что русский самодержец также участвовал в том бою, но документами сей факт не подтверждается (иначе морская победа оставила бы куда более заметный след в истории).
Как бы то ни было, дождавшись благоприятного ветра, царь смог вывести из устья реки всю флотилию. В ту пору на кораблях он проводил гораздо больше времени, чем под стенами Азова, где распоряжался генералиссимус Алексей Шеин. На выручку осажденному русскими городу вскоре пожаловала вражеская эскадра – уже не лодки или грузовые суда, а фрегаты и галеры. Увидев наши корабли и береговые батареи, османские моряки на сражение не отважились, убрались прочь.
После взятия Азова Боярская дума постановила: «Морским судам быть». В Таганроге строился порт, а русский царь совершенствовал свои познания в Голландии и Англии, собственными глазами видел масштабные, впечатляющие учения британского флота. Усиливалась тем временем и Азовская флотилия. Петр выводил ее в море в 1699, 1700 и 1701-м, проводил маневры. Выстраивал корабли у стен Керчи и Кафы (Феодосии), однако до сражений дело не дошло, пушки грохотали ради салютов и тренировок артиллеристов, а целью маневров были всего лишь демонстрации. Сперва требовалось подтолкнуть турок к заключению мира, потом – предостеречь от нарушений договоренностей в условиях начавшейся войны со шведами.
Задачи стояли уже иные – прорываться к Балтийскому морю. Первая попытка обернулась бедой, поражением под Нарвой. Однако русский царь воспользовался ошибкой Карла XII, бросившегося со своими главными силами утюжить Польшу и Саксонию (хотел вернуть себе древнюю русскую дорогу к Балтике по Неве). Армия фельдмаршала Бориса Шереметева била и теснила врага на суше. По указу Петра мобилизовали речные суда и лодки, чтобы отвоевать у флотилий противника Чудское и Ладожское озера.
Шведы не сидели сложа руки, периодически отвечали. В 1701 году они, стремясь закрыть для России пути не только на Балтике, но и на Беломорье, послали свою эскадру громить Архангельск. Захватив лодку с местными рыбаками Иваном Рябовым и Дмитрием Борисовым, потребовали от них быть лоцманами. Те для видимости согласились, однако, жертвуя собой, посадили два фрегата на мель. (Борисова истязали и в конце концов убили, раненый Рябов, сумев выскочить за борт, уплыл, спасся.) В устье Двины орудия вовремя построенной русскими крепости подбили еще два вражеских корабля. Из семи судов в Швецию вернулись три.
Следующим летом ожидалось повторное нападение на Архангельск – уже более крупными силами. Защищать порт выехал сам царь с гвардией – преображенцами и семеновцами. Неприятели так и не появились, прошлогоднего урока им, видимо, хватило. Тогда у Петра возникла идея ударить на Неве, причем так, чтобы время и направление атаки оказались для врагов сюрпризом.
Русский царь заранее позаботился о всестороннем обеспечении предстоявшей борьбы за море. В Архангельске к тому моменту у него уже имелись две 18-пушечные яхты «Святой Дух» и «Курьер» (одну сами построили, другую подарил английский король). Чтобы доставить их на Неву, Петр Алексеевич велел прорубить Осудареву дорогу через леса.
Перед важнейшим делом своей жизни он не забыл обратиться и к Господу. Поход начал из полюбившегося ему Соловецкого монастыря, с благословения старца Иова. Тогда же вместе с гвардейцами срубил на Заячьем острове обетную деревянную церковь и только после этого предпринял высадку на пристани Нюхча. Далее его бойцы шли по вновь прорубленной Осударевой дороге и 160 километров тащили волоком обе яхты, пышно названные малыми фрегатами. Увы, из-за штормов и ветров вести суда через мелководное и бурное Ладожское озеро было слишком опасно, пришлось опять-таки довольствоваться лодками. С юга тем временем прибыли полки Шереметева, которые 11 октября штурмом взяли Нотебург (бывший русский Орешек) у истоков Невы.