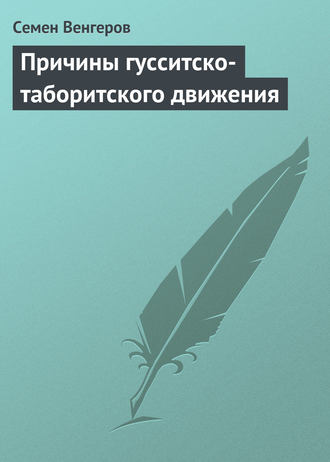
Причины гусситско-таборитского движения
Благочестивые католики, конечно, радовались такому благоденствию «жены Христовой». Эней Сильвий Пикколомиии, в своей знаменитой «Истории Богемии», захлебываясь от восторга, рассказывает о богатствах чешского духовенства, о великолепии и пышности чешских церквей, о довольстве и изобилии, господствовавшем в чешских монастырях[72]. Непосредственно от этих восторгов Эней Сильвий переходит к негодованию на безбожных таборитов, которые патеров раскассировали, церкви сожгли, монастыри обезлюдили. И ни на одну минуту суетному итальянцу не приходит на ум, что именно это-то великолепие, именно этот-то блеск сословия, которое должно бы быть представителем простоты и смирения, и вызвал описываемое им ожесточение таборитов.
Власть, сила, даваемые богатством, ведут в злоупотреблениям даже и тогда, когда они находятся у людей с нравственными задатками. Следует ли поэтому удивляться тому, что закружилась голова у католических патеров, лишенных каких бы то ни было нравственных стимулов, и тем более, что апогея всяких злоупотреблений достигали те, которые выдавали себя за наместников Христа на земле? Яд нравственного растления разливается из римской курии на все католические страны и всюду приводит к более или менее одинаковым результатам. Чехия не составила исключения.
«Усердие нравственных проповедников с большим жаром вооружалось против беззакония, господствовавшего в духовенстве. Они открывали и изобличали его перед лицом всего народа, когда испорченность все больше и больше расширяла свои пределы. Папы еще во время пребывания своего в Авиньоне, когда доходы их уменьшились, по причине смут в Римских владениях, а еще более во время раздвоения церкви, когда римский и авиньонский папы, каждый отдельно, имели такие же потребности, какие были у их предшественников, управлявших всею церковью, – папы, повторяю, выдумывали целый ряд способов к тому, чтоб умножить денежные свои доходы с различных христианских стран. Они налагали большую плату за назначение церковных бенефиций епископам и архиепископам и неслыханным образом нарушали права собственности церковных патронов, предоставляя себе право отдавать какую бы то ни было бенефицию непосредственно в силу апостольской власти; это происходило обыкновенно так, что бенефиция переходила к кому-либо или за уплату долга, или за услугу, оказанную папе. Папа Бонифаций IX ввел в обычай, чтобы бенефиции, находившиеся при его дворе, продавались тем, кто давал за них большую цену. Не удивительно, что пример самого главы церкви был принят также многими патронами, так что продажность, или симония, распространялась повсюду. Это же было причиною того, что к духовным должностям определяли людей неспособных и пустых, которые заботились только о том, чтобы больше брать барышей с своей церкви. Каноникаты и фары подобными владетелями отдавались на откуп, и не только тайно, но даже с разрешения и утверждения самого архиепископа. Бенефициат жил, где ему было угодно, а церковью управлял за него наемный священник. Было время, когда большая часть фар в чешских городах управляема была подобными наемниками, которые нисколько не заботились об уничтожении беспорядков»[73].
В Риме открылся торг духовными званиями в полном смысле этого слова. Каждое из них оценивалось по тому доходу, который оно в состоянии было приносить. За бенефицию, приносившую 200 флоринов, папа получал 40–60 и до 80 флоринов. О самой личности претендента никто не справлялся. Должность вивариев получают не раз слуги, повара и даже семи и пяти лет[74].
Не нужно обладать слишком пылкою фантазией, чтоб ясно представить себе то духовно-нравственное «руководительство», на какое были способны люди, подобным путем достигшие священничества. Главною их заботой, конечно, становится наверстать деньги, затраченные на приобретение бенефиций. «Верные сыны церкви», какими издавна считались чехи, не получают безвозмездно ни одного из духовных благ. Сами же епископы жалуются на пражском синоде, что патеры не хоронят! без денег даже нищих, пока не найдется набожный богач, который заплатит за это, и что они не крестят детей, если нет много кумовей, которые все обязаны сделать патеру подарок[75]. Церковное покаяние исчезает: вместо него установляется регулярная такса за отмаливание грехов по степени их важности. И нет греха, от которого нельзя было бы очиститься деньгами; даже убийство не исключено из этого тарифа.
Устроивши все на коммерческую ногу, католики не заботятся даже о том, чтобы сохранить внешнюю благопристойность, и синоды должны неоднократно издавать постановления, чтобы месса не бросалась на половине, чтоб она читалась в требуемое церковными правилами время и чтоб она вообще читалась, так как были священники, которые в продолжение семи лет не читали ни одной мессы. Такие постановления дальше постановления не пошли, потому что виновных оказывалось столько, что многочисленность их устраняла всякую возможность что-нибудь сделать[76]. Да и можно ли было обязать каноников отправлять богослужение, когда сплошь да рядом случалось, что один и тот же викарий имел несколько приходов, разбросанных по всему государству. В Праге было много таких каноников, которые вместе с тем имели приходы в Брюне, Ольмюце и Бреславле. Николай Пухник из Черница, уже имеющий два прихода в Праге и Ольмюце, получает богатый приход Св. Николая, который меняет на две «пребенды». Но этого ему мало и он выканючивает себе еще приход Иеленице в Моравии. Сверх всего этого он состоял оффициалом при архиепископе и занимал должность генерального викария[77].
Глубокий упадок чешского духовенства бил настолько в глаза, что самые усердные католики не могли отрицать его. В числе историков гусситской эпохи есть магистр Андрей из Брода. Это один из тех благочестивых сыновей католической церкви, которые, ad majorem gloriam святой курии, всегда кладут самые черные краски на действия противников католицизма и самые розовые на подвиги патеров. Так вот даже этот благочестивый магистр, описывая эпоху, непосредственно предшествовавшую гусситскому взрыву, говорит: «Non erat vitium in laycis, quod non prius et heu notabilius clerici practicassent»[78], т. e. не было у мирян того порока, который еще раньше и еще в большей степени не проявлялся бы в духовном сословии.
Сама духовная власть не может уже больше закрывать глаза и не отметить зла. Архиепископ Эрнест из Пардубица торжественно говорит, что каноники больше развращают своих прихожан, нежели наставляют их на путь истины. В 1379 году производится «большая инспекция» и слова архиепископа получают блестящее подтверждение. Инспекция начинается с пражского духовенства. Не трудно понять, что там, где была хотя малейшая возможность скрыть неприглядную истину, ею пользовались более чем охотно. И все-таки из 39 инспектированных приходских священников Праги за 16-ю открывается целый ряд безнравственных поступков. Патер Тынского прихода, Варфоломей, имеет любовницей замужнюю женщину; кроме того его неоднократно видели посещающим дома терпимости. Каноник церкви Св. Лингарта, Прокоп, обвинен в том, что у него настоящий сераль; он устраивает веселые пирушки, на которых, кроме его многочисленных любовниц, участвуют монахини и другие священники. Уличенный в таких поступках, Прокоп старается оправдаться: он признает, что ему действительно приходилось принимать у себя публичных женщин, но редко. Во всяком случае он менее виновен, чем, например, его сосед, патер Матвей, у которого дом всегда полон женщин и разгульных священников. Другого пражского приходского священника подозревают в том, что он растлил свою собственную дочь. Каноник церкви Св. Петра постоянно шляется по кабакам, напивается в них со своею любовницей и всегда пристает к другим публичным женщинам. Но он далеко не из худших в своем сословии: булочник, вызванный в качестве свидетеля, говорит, что он видел уже трех священников в этом приходе и все они вели себя несравненно хуже. Патер церкви Св. Иоанна отправляется играть в кости в Старый-Город, проигрывает там все, даже платье, и голый отправляется к своей любовнице[79].
В провинции дела идут таким же образом. В постановлениях пражских синодов конца XIV и первых годов XV столетия мы прямо читаем: «Clerici etiam in sacris constituti et ecclesiarum parochialium regimini praesidentes, concubinas publice tenent in domibus et alias in tonsura et habitu taliter inhoneste se gerunt, quod fiant in scandalum plurimorum» (клирики, даже утвержденные в священстве и стоящие во главе приходских церквей, открыто держат у себя в домах наложниц, а также иными способами, при тонсуре и священническом платье, так неблагопристойно себя ведут, что производят этим скандал и соблазн). Можно себе представить, что происходило на самом деле, если таков язык католических синодов…
Подобное официальное признание избавляет нас от необходимости приводить дальнейшие черты нравственной, или скорее безнравственной, физиономии чешского духовенства. Кроме разврата – цинического, ничем не стесняющегося разврата – вы в ней ничего не найдете. Монастыри чешские – это лупанарии, чешские монахини – публичные женщины, чешские церкви – языческие капища, убежища бессмысленного фетишизма, не проникнутого ни единым лучом истинной веры, истинного понимания проповеди Великого Учителя.
Не следует однако же забывать при обозревании этой содомской картины, что в ней не было ничего специально-чешского. Развращенность чешского духовенства была только одним уголком того великого растления нравов, которое прямо известно в истории под этим именем. Такса грехов, симония, нравы, дома терпимости – все это заимствовано чешским духовенством извне. Следуя принятому в этих очерках сравнительному методу, мы приведем цитату из известного сочинения Emile de Bonnechose'а – «Les réformateurs avant la Réforme». Цитата эта, основанная на строго-документальных данных, покажет нам, что если у одних только чехов возмутилось нравственное чувство, то не потому, что оно имело больше поводов оскорбляться, я потому, что самого чувства этого у них было больше.
«Доказательства ужасающей развращенности духовенства находятся не в обличительных сочинениях его врагов, – нет, они содержатся в писаниях наиболее знаменитых членов клира – в сочинениях тех, которые как по своему положению, так и по своему характеру и интересам должны были желать, чтобы церковь была сильна и очищена от всякой грязи. И не только поэты, новеллисты и летописцы рисуют нам картины растления нравов духовенства, – мы видим кардиналов, прелатов, знаменитых докторов богословия, которые выискивают пороки, чтоб искоренить их, точно так как врач зондирует рану, чтоб излечить ее.
Известен громоносный трактат Блеманжи об упадке церкви. Яркими красками описывает он злоупотребления римской курии и указывает на роковые последствия папской симонии. Чтобы поддержать свой сан, который папы ставили выше сана королей и императоров, им ничего не осталось более, – говорит он, – как броситься сломя голову, после того, как они разграбили наследие Св. Петра, на другие овчарни и похитить у овец все их достояние, их шерсть и молоко. Они забрали себе право распоряжаться всеми церквами мира, назначать епископов и клириков по своему произволу, и все это для того, чтобы привлечь в бездну апостолического казначейства все золото христианского мира. одни и те же бенефиции продавались два раза». После этого Клеманжи рисует отвратительную картину невероятного невежества и разврата духовного сословия; он нам показывает, как священники играют, пьянствуют, безобразничают. От развращения светского духовенства он переходит к развращению, господствующему в монастырях: «В настоящее время отдать девушку в монастырь значит лишить ее невинности»[80].
Фраза эта, как и некоторые другие, гораздо энергичнее в самом трактате Клеманжи, но Боншоз не решается приводить их во всей их резвости.
Клеманжи – не единственный клирик, у которого хватило нравственной силы посмотреть правде в глаза.
«Послушаем кардинала камбрэского, Петра д'Альи, учители и друга Жерсона[81]. Он пишет в одном из своих трактатов: „Растление церкви так велико, что возникла пословица, которая говорит, что во главе церкви могут стоять только люди отверженные“. Послушаем наконец самого Жерсона: „Римская курия выдумала сотни должностей, чтобы добыть денег, но ни одна из них не служила целям нравственности. При римском дворе с утра до вечера говорят об армиях, завоеванных областях и городах, о деньгах, но очень редко – или вернее никогда – там не говорят о целомудрии, о помощи бедным, о справедливости, верности, добрых нравах. Все это привело к тому, что этот двор, некогда блиставший умственною возбужденностью, стал мирским, полным дьявольского и тираннического духа (mondaine, diabolique, tyrannique) и вообще хуже какого бы то ни было светского двора… Светские власти не должны допустить, чтобы жена Христова была недостойным образом превращена в публичную женщину“. Жерсон сильно ополчается против порядков папской канцелярии, по которым церкви, каноникаты и другие бенефиции раздаются ничтожнейшим людям, поварам, конюхам, погонщикам, убийцам, между тем как люди действительно достойные и способные устраняются»[82].
Во всему этому невероятному безобразию присоединился столь знаменательный в летописях католического мира «великий раскол», когда разом появилось трое пап, из которых каждый в площадных выражениях проклинал другого. Эти факты настолько известны из элементарных учебников истории, что нам о них распространяться не стоит. Для истории гусситства «великий раскол» важен как последняя капля, переполнившая чашу. Дальше терпеть стало невозможным для нравственного чувства чешского народа и он выдвигает Гусса, который потому и имел такое всемирно-историческое значение, что проповедь его была воплем отчаяния, вырвавшимся из наболевшей души целого народа.
Итак, в великом растлении нравов мы имеем один из несомненных факторов гусситско-таборитского движения, но все-таки не самый корень его. И действительно, если бы в нем была суть дела, в таком случае история должна бы была представить нам целый ряд протестующих движений в Германии, Франции, а всего больше в Италии – этом очаге католического бесстыдства и разнузданности. Мы только-что привели ряд фактов, свидетельствующих о том, что распущенность чешского духовенства была лишь частным случаем, и притом далеко не самым ярким, распущенности всего католического духовенства. И почему же, однако, в Германии, Франции и Италии дело ограничивается несколькими обличительными книгами, а в Чехии проливается море крови для искоренения несчастья? Значит не в этом несчастий главный корень движении, – оно обусловило собою только быстроту взрыва. Настоящая же и единственная причина гусситско-таборитского движения – нравственная чуткость чешского народного духа, не потерпевшая отступления от идеалов добра и справедливости. Растление нравов, также как и национальную вражду можно назвать только второстепенными факторами, внешними раздражителями, вызвавшими нервное потрясение народного организма, – все равно, как при нервном потрясении отдельного организма. Главное, конечно, нервная сила, а не электроды, например, которыми вы произвели потрясение. Так и в гусситско-таборитском движении корень дела – страстная приверженность к идеалу, жестоко мстящая всем поносителям его.
И, вот, этот-то страстный идеализм, эта-то необыкновенная нравственная чуткость чешского народного духа и дает нам право, отбросив все другие эпитеты, назвать гусситско-таборитский взрыв чисто-нравственным движением.
Кончаем тем же, чем начали. Корень движения, единственная причина его – не в том, что чехам чинили много неправды, а в том, что в их душевном строе было необыкновенно сильное стремление к правде, к насаждению на земле добра и справедливости.
Сноски
1
Настоящая глава представляет собою отрывок из большего этюда «О гусситстве и таборитстве», который в свою очередь составляет часть приготовляемого к печати исследования о «народных движениях славянского племени».
2
Fontes rerum Austriacarum. Erste Abtheilung, Band. VII, Theil. III. Geschichtschreiber der Hussitischen Bewegung in Böhmen. Herausgegeben von Konstantin Höffier. Wien. 1866.
3
Paiazky, Geschichte von Böhmen, Band. I, стр. 23.
4
Hermergild Irecek, Das Recht in Böhmen nnd Mähren, стр. 71: «Sciant nostri posteri, nnde sint orti et nt semper vivant pavidi et suspecti, nec homines a Deo sibi commissos injuste opprimant per superbiam, quia facti sumus omnea aequales per naturam».
5
Palazky, Band. I, стр. 161.
6
Умер в 1125 г.
7
Томек, «История Чешского королевства».
8
Palazky, Band. I, стр. 396.
9
Ibid, стр. 464.
10
Ibid., Band. II., Abth. I, стр. 19.
11
Ibid, стр. 11.
12
Dudik, Mährens Allgemeine Geschichte, Band. I, стр. 123
13
Иречек, Recht in Böhmen und Mähren, стр. 28.
14
Ibid.
15
Palazky, Band. II, Abth. II, стр. 27.
16
«Qui sont in captivitate apud eos, non omni tempore, ut apud gentes alias, in servitute tenentur, sed certum eis definitur tempus, in arbitrio eorum relinI qnendo, si oblata mercede velint dein reverti ad suos. aut manere apud ipsos lij beri et amici».
17
Macejowski, Slawische Rechtgeshichte, Band. I, стр. 138.
18
Palazky, Band. I, стр. 173.
19
Dudik, Band. IV, стр. 210.
20
Средневековая чешская энциклопедия.
21
Иречек, Das Recht in Böhmen und in Mähren, стр. 73.
22
Dudik, Band. IV, стр. 212.
23
Ibid.
24
Томек, стр. 102.
25
Palazky,Band. II, Abth. I, стр. 272.
26
Dudik, Band. IV, стр. 210.
27
Ibid, стр. 213.
28
Как в феодальной Европе.
29
Brauner, Ueber die Robot and Robot-Ablösang, стр. 17–19.
30
Denis, стр. 3$.
31
Ibid.
32
Palazky, Band. II, Abth. 1, стр. 35.
33
Thomasa.
34
Tractаtas magistri Cunsonis contra magistnim Albertura Ranconis de-Ericino в «Fontes», т. II, стр. 51.
35
Tomek, Geschichte der Stadt., Band. I, стр. 61.
36
Brauner, стр. 21.
37
Шерр, «История цивилизации в Германии», стр. 47.
38
Ibid., стр. 48.
39
Maurer, Geschichte der Franhöfe, der Franhöfe und der Hofverfassung in Deutschland, Band. I, стр. 7 и след.
40
Ibid, стр. 8.
41
Ibid, Band. II, стр. 80.
42
Шерр, стр. 253.
43
Ibid.
44
Maurer, Band. II, стр. 88.
45
Ibid, стр. 84.
46
Шерр, стр. 253.
47
Dudik, Band. IV, стр. 297, и Иречек, «О госуд. управлении».
48
Palazky, Band. II, Abth. I, стр. 191.
49
«Rex Boëmiae, filins Ottochari, curiam celebra vit, qualem numquam aliqois regum, nec Assyrins, nec Solomon creditar celebrasse». Palazky, Band. II, Abth. I, стр. 343.
50
Ibid., стр. 343, 344 и 345.
51
Ibid. Band. III, Abth. II, стр. 13.
52
Dudik, Band. IV, стр. 297.
53
Falasky, Band. II, Abth. II, стр. 157.
54
Ibid, стр. 340–345.
55
Ibid, Band. II, Abth. I, стр. 30.
56
Томек стр. 337.
57
Ibid.
58
Ibid, стр. 300.
59
Denis, стр. 80.
60
Томек, стр. 303.
61
Ibid.
62
Ibid., стр. 305.
63
Ibid, стр. 319.
64
Petri de Mladenowicz, «Historia de fatis et actis M. Iohannis Huss». Constanciae, стр. 187.
65
Palazky, Band. II, Abth. II, стр. 40.
66
Iordan, Die Vorläufer des Hussitenthums, стр. 35.
67
Томек, стр. 174.
68
Ibid, «История Чешского королевства», стр. 307.
69
Denis, стр. 9.
70
Томек, стр. 308.
71
Denis, стр. 6.
72
Enesse Sylvia, «О Zalożeni Zemê Czeske». Прага, 1586 г., стр. 134 (чешский перевод).
73
Томек, стр. 355.
74
Dente, стр. 10.
75
Ibid.
76
Ibid, стр. 14.
77
Ibid, стр. 11.
78
«Tractatos de origine Hussitanun», am agistro Andrea de Broda, стр. 353.
79
Denis, стр. 14. Denis заимствует подробности из сочинения Томека: «Dejepis mêsta Pragy», т. И, которым пряно мы не могли пользоваться, так как даже в Публичной библиотеке всего только 2 тома этою сочинения.
80
«Les réformateurs avant la Réforme. Jean Hass et le Concile de Constance», par Emile de Bonnechose. Paris 1846 г., т. I, стр. 65.
81
Знаменитый парижский богослов, один из наиболее ярых противников Гусса в Констанце, – следовательно, ярый католик.
82
Bonnechose, т. 1, стр. 66.



