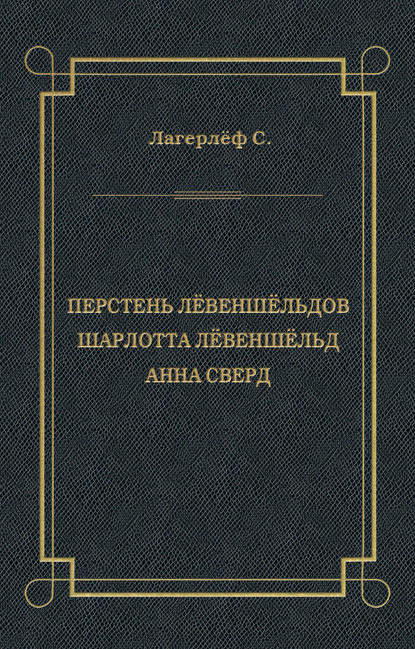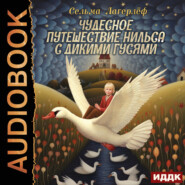По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перстень Лёвеншёльдов. Шарлотта Лёвеншёльд. Анна Сверд (сборник)
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Само собой разумеется, что пастор не мог примириться со всеми этими безумными речами о кознях мертвеца. Он пытался доказать крестьянину, что его постигла Божья кара за столь чудовищное злодеяние, как кража у покойника. Пастор вообще не желал согласиться с тем, будто генерал способен учинять пожары либо насылать хворь на людей и на скот. Нет, беды, разившие Борда, – это кара Божья, избранная, дабы принудить его раскаяться и вернуть краденое еще при жизни, после чего грех ему будет отпущен, и он сможет принять блаженную кончину.
Старый Борд Бордссон тихо лежал в постели и слушал пастора, ни словом ему не прекословя. Но, должно быть, тот так и не убедил его. Слишком много ужасов пришлось ему пережить, и не мог он поверить, что все они ниспосланы Богом.
Но брат с сестрой, дрожавшие от ужаса перед наваждениями и призраками, тут же воспрянули духом.
– Слышишь? – спросил Ингильберт, схватив за руку сестру. – Слышишь, пастор говорит, что то был вовсе не генерал.
– Да, – ответила сестра.
Она сидела, сжав руки. Каждое слово, сказанное пастором, глубоко западало ей в душу.
Ингильберт встал. Порывисто вздохнув, он выпрямился. Он был теперь свободен от снедавшего его страха. Он стал с виду совсем другим человеком. Быстрым шагом подошел он к хижине, отворил дверь и вошел.
– Что такое? – спросил пастор.
– Я хочу поговорить с отцом!
– Ступай отсюда! С твоим отцом теперь говорю я! – строго сказал пастор.
Обернувшись к Борду Бордссону, он снова стал говорить с ним то ласково-властным тоном, то ласково-участливым.
Ингильберт, закрыв лицо руками, уселся на каменные плиты. Им овладело сильное беспокойство. Он снова вошел в лачугу, но его снова выставили за дверь.
Когда все было кончено, настал черед Ингильберта проводить пастора в обратный путь через лес. Вначале все шло хорошо, но вскоре им пришлось ехать гатью через болото. Пастор не мог припомнить, чтобы он утром переезжал такое болото, и спросил, не сбился ли Ингильберт с дороги. Но тот ответил, что гатью будет короче всего миновать болото и что она выведет их из лесу напрямик.
Пастор пристально взглянул на Ингильберта. Он уже заметил, что сын, подобно отцу, одержим жаждой золота. Ведь Ингильберт не раз входил в хижину, словно хотел помешать отцу отдать перстень.
– Эх, Ингильберт! Это узкая и опасная дорожка, – сказал пастор. – Боюсь, как бы конь не споткнулся на скользких бревнах.
– А я поведу коня и вам, досточтимый господин пастор, нечего будет бояться, – сказал Ингильберт и в тот же миг схватил пасторского коня за поводья.
Когда же они очутились посреди болота, где со всех сторон их окружала лишь зыбкая трясина, Ингильберт стал пятить пасторского коня назад. Казалось, он хотел заставить его свалиться с узкой гати.
Конь встал на дыбы, а пастор, который с трудом держался в седле, закричал провожатому, чтобы тот, бога ради, отпустил поводья. Но Ингильберт, казалось, ничего не слышал, и пастор увидел, как он, потемнев лицом, стиснув зубы, одолевает коня, чтобы столкнуть его вниз в вязкую топь. И животное и всадника ждала верная смерть.
Тогда пастор вытащил из кармана сафьяновый мешочек и швырнул его прямо в лицо Ингильберту.
Тот отпустил поводья, чтобы поймать мешочек, и отпустил пасторского коня, и конь в бешеном испуге рванулся вперед по узкой гати. Ингильберт застыл на месте, не сделав ни малейшей попытки догнать пастора.
V
Не приходится удивляться, что после такого поступка Ингильберта у пастора помутилось в голове. День уже клонился к вечеру, когда ему удалось добраться до жилья. Ничего мудреного не было и в том, что из лесу он попал не на дорогу в Ольсбю, которая была и лучше и короче прочих, а пустился в объезд к югу, так что вскоре очутился у самых ворот Хедебю.
Плутая на коне в лесной чащобе, он только и помышлял о том, чтобы, вернувшись благополучно домой, первым делом послать за ленсманом[12 - Ленсман – должностное лицо, представитель королевской власти на местах.] и попросить его отправиться в лес и отобрать у Ингильберта перстень. Но, проезжая мимо Хедебю, он стал раздумывать, не свернуть ли ему туда по пути и не рассказать ли ротмистру Лёвеншёльду, кто дерзнул спуститься в склеп и украсть королевский перстень.
Казалось бы, над таким ясным делом голову долго ломать не приходилось. Но пастор все же колебался, зная, что ротмистр и его отец не очень ладили между собой. Ротмистр был столь же миролюбив, сколь отец его – воинствен. Он поспешил выйти в отставку, лишь только мы замирились с русскими[13 - …лишь только мы замирились с русскими… – 30 августа 1721 г. был заключен мирный договор между Россией и Швецией (Ништадтский мир), согласно которому к России отошли Ингерманландия, Лифляндия, Эстляндия, Выборг и юго-западная Карелия.], и с тех пор все свои силы отдавал восстановлению благоденствия в стране, совершенно разоренной за годы войны. Он был против единовластия и воинских почестей и даже имел обыкновение дурно отзываться о самом Карле XII, о его высокой персоне, как, впрочем, и о многом другом, что так высоко ценил его старик отец. Для вящей верности надобно сказать, что сын ревностно участвовал в риксдаговских распрях, причем всегда как сторонник партии приверженцев мира[14 - …ревностно участвовал в риксдаговских распрях… как сторонник партии приверженцев мира. – В 1713 г., вопреки запрещению Карла XII, был созван риксдаг, на котором развернулись дебаты по поводу дальнейшего политического курса страны. Большинство членов риксдага решительно потребовали немедленного заключения мира.]. Да, у сына с отцом немало было поводов для раздоров.
Когда семь лет тому назад был украден генеральский перстень, пастор, да и многие другие сочли, что ротмистр не слишком старался получить его обратно. Все это заставило теперь пастора подумать: «Что пользы, ежели я возьму на себя труд спешиться здесь, в Хедебю. Ротмистр все равно не спросит, кто нынче носит королевский перстень на пальце – отец или Ингильберт. Лучше всего мне тотчас уведомить о краже ленсмана Карелиуса».
Но пока пастор таким путем держал совет с самим собой, он увидел, что ворота, преграждавшие путь в Хедебю, тихонько распахнулись, да так и остались отворенными настежь.
Это было поистине чудо, но мало ли на свете разных ворот, которые таким же манером распахиваются сами по себе, если они плохо затворены. И пастор не стал больше ломать голову над этим обстоятельством, но счел его знаком того, что ему надобно въехать в Хедебю.
Ротмистр принял его радушно, куда приветливее, чем обычно.
– Какая честь для нас, что вы, достопочтенный брат, заглянули к нам. Я как раз жаждал встречи с вами и сегодня не раз намеревался пойти к вам в усадьбу и поговорить об одном весьма необычном деле!
– Понапрасну бы только прошлись, брат Лёвеншёльд, – сказал пастор. – Еще рано поутру я поехал верхом по приходским делам на сэттер в Ольсбю и вот только сейчас возвращаюсь назад. Ну и денек выдался для меня, старика! Столько приключений!
– То же и со мной было, хотя я вряд ли вставал нынче с кресла. Уверяю вас, достопочтенный брат, что хотя мне скоро минет пятьдесят и я бывал в разных переделках, как в суровые военные годы, так и потом, чудес, подобных нынешним, мне переживать не приходилось.
– А раз так, – молвил пастор, – первое слово я уступаю вам, брат Лёвеншёльд. Я тоже могу поведать вам, высокочтимый брат, весьма примечательную историю. Но не стану утверждать, что она удивительнее всех, что приключались со мной на веку.
– Но может статься, – возразил ротмистр, – что вам, достопочтенный брат, моя история вовсе не покажется такой уж необыкновенной. Поэтому-то я и хочу спросить: вы слыхали, верно, что рассказывают о Гатенйельме[15 - Гатенйельм – Ларс (Лассе) Андерссон Гате (1689–1718), известный шведский моряк. Родился в крестьянской семье, плавал на шведских и иностранных торговых судах. Во время Северной войны снарядил каперскую флотилию (см. ниже). Нажил огромное состояние и частично субсидировал королевскую казну. В 1715 г. был удостоен дворянского титула, после чего стал называться Гатенйельмом. Возвышение его было неодобрительно встречено шведской аристократией, так как его подозревали в связях с пиратами. Погиб в морском сражении при Гётеборге.]?
– Об этом чудовищном пирате и отчаянном капере[16 - Капер – владелец судна или флотилии, занимающийся в период войны морским разбоем в нейтральных водах. В отличие от пиратов, каперы нападали лишь на суда противника с ведома своего правительства, получая на это специальную грамоту. Каперство существовало в Европе до середины XIX в.], которого король Карл произвел в адмиралы? Кто же не слыхивал, что о нем рассказывают!
– Так вот, – продолжал ротмистр, – нынче за обедом речь зашла о давних военных годах. Мои сыновья и их гувернер принялись расспрашивать меня, как и что было в старину; ведь молодые любят слушать про былое. И заметьте себе, брат мой, что они никогда не спрашивают о той страдной и суровой поре, которую пришлось пережить нам, шведам, после смерти Карла, когда мы из-за войны да безденежья отстали во всем. Нет, им интересны лишь пагубные военные лета! Ей-богу, и не поверишь: ведь они ни во что не ставят то, что отстраиваешь заново сгоревшие дотла города, закладываешь заводы и мануфактуры, выкорчевываешь леса и подымаешь новь. Думается, брат мой, сыновья мои стыдятся меня и моих современников за то, что мы покончили с военными походами и перестали опустошать чужие земли. Видно, они думают, что мы куда хуже наших отцов и что нам изменило былое могущество шведов!
– Вы, брат Лёвеншёльд, совершенно правы, – сказал пастор. – Такая любовь молодых людей к ратному делу заслуживает всяческого сожаления.
– Ну вот я и исполнил их желание, – продолжал ротмистр, – и раз они хотели услышать о каком-нибудь великом герое войны, я и рассказал им о Гатенйельме и о его жестоком обхождении с купцами и мирными путешественниками, желая вызвать своим рассказом ужас и презрение. И когда мне это удалось, я попросил своих домочадцев поразмыслить над тем, что этот Гатенйельм был истый сын военного времени, и поинтересовался, хотелось бы им, чтобы землю населяли подобные исчадия ада?
Но не успели сыновья мои ответить, как слово взял их гувернер и попросил разрешения рассказать еще одну историю о Гатенйельме. И поскольку он заверил меня, что это приключение капера лишь подкрепит мои прежние высказывания об ужасающих зверствах и бесчинствах Гатенйельма, я дал свое согласие.
Он начал свой рассказ с того, что Гатенйельм погиб в молодые лета и тело его было погребено в онсальской церкви[17 - …в онсальской церкви… – Церковь в приходе Онсала, где находилась усадьба Гата, принадлежавшая родителям Гатенйельма.] в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля[18 - …в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля. – Неточное изложение исторического факта. В действительности Гатенйельм обнаружил на одном из захваченных им датских судов два мраморных саркофага, предназначавшихся для датского короля Фредерика IV и его супруги. Датчане предложили за них большой выкуп, но Гатенйельм заявил, что намерен оставить их для себя и своей жены. Тогда по приказанию датского правительства были изготовлены два точно таких же саркофага с именем и гербом Гатенйельмов, и шведский капер согласился взять их в обмен на королевские. Эти саркофаги установлены в онсальской церкви, в усыпальнице Гатенйельмов, и в одном из них покоится прах Ларса Гате.]. После этого в церкви стали появляться такие страшные привидения, что онсальским прихожанам стало невмоготу. Они не нашли иного средства, кроме как вытащить тело из гроба и предать его земле на пустынной шхере далеко-далеко в море. Отныне церковь обрела мир и покой. Но рыбаки, которым случалось заплывать в воды, близкие к новому месту упокоения Гатенйельма, рассказывали, что оттуда всегда были слышны шум и возня и в любую погоду морская пена бурно вскипала над злосчастной шхерой. Рыбаки полагали, что все это было дело рук корабельщиков и торговых людей, которых Гатенйельм приказывал бросать за борт с захваченных им судов. И теперь они подымались из своих сырых морских могил, чтобы подвергнуть пирата экзекуции и пытке. А рыбаки всячески остерегались заплывать в ту сторону. Но однажды темной ночью одного из них угораздило оказаться слишком близко от страшного места. Он почувствовал, что его вдруг затянуло в водоворот, в лицо ему хлестнула морская пена, и чей-то громовой голос воззвал к нему:
«Ступай в усадьбу Гата в Онсале и скажи жене моей: пусть пришлет мне семь охапок ореховых прутьев да две можжевеловые палицы!»
Пастор, молча и терпеливо слушавший рассказ собеседника, уловил теперь, что это – обычная история о привидениях, и с трудом удержался от нетерпеливого жеста. Однако ротмистр не обратил на это ни малейшего внимания.
– Вы понимаете, достопочтенный брат мой, что рыбаку ничего не оставалось, как повиноваться этому наказу. Послушалась его и она, жена Гатенйельма. Были собраны самые гибкие ореховые прутья и самые здоровенные можжевеловые палицы, и работник из Онсалы поплыл с ними в море.
Тут пастор сделал столь явную попытку прервать своего собеседника, что ротмистр наконец заметил его нетерпение.
– Знаю, о чем вы думаете, брат мой, – молвил он, – то же думал и я, услыхав за обедом эту историю, но сейчас, во всяком случае, попрошу вас, достопочтенный брат мой, выслушать меня до конца. Итак, я хотел сказать, что этот работник из Онсалы, должно быть, был человек бесстрашный, да к тому же весьма преданный своему покойному хозяину. Иначе он вряд ли отважился бы выполнить такой наказ. Когда он подплыл ближе к месту погребения Гатенйельма, шхеру пирата захлестывали такие высокие волны, будто разыгралась страшная буря, а бряцание оружия и шум битвы слышны были далеко вокруг. Однако работник подошел на веслах как можно ближе, и ему удалось забросить на шхеру и можжевеловые палицы и охапки прутьев. Несколько быстрых ударов веслами – и он удалился от страшного места.
– Высокочтимый брат мой… – начал было пастор, но ротмистр был непоколебим.
– Однако дальше плыть он не стал, а перестал грести, решив поглядеть, не случится ли что-нибудь примечательное. И ждать ему понапрасну не пришлось. Ибо над шхерой вздыбилась вдруг до облаков морская пена, шум сменился страшным грохотом, точно на поле битвы, и ужасающие стоны разнеслись над морем. Так продолжалось некоторое время, но с убывающей силой, а под конец волны и вовсе прекратили брать штурмом Гатенйельмову могилу. Вскоре здесь стало так же тихо и спокойно, как и на всякой другой шхере. Работник поднял было весла, чтобы отправиться в обратный путь, но в тот же миг к нему воззвал громовой и торжествующий голос:
«Ступай в усадьбу Гата в Онсале, поклонись моей жене и передай: живой ли, мертвый ли, Лассе Гатенйельм всегда побеждает своих врагов!»
Опустив голову, пастор слушал рассказ. Теперь, когда история подошла к концу, он поднял голову и вопрошающе взглянул на ротмистра.
– Когда гувернер произнес эти последние слова, – продолжал ротмистр, – я заметил, что сыновья мои сочувствуют этому презренному негодяю Гатенйельму и что им по душе пришелся рассказ о его удали. Поэтому я и поспешил заметить – дескать, история эта придумана складно, но что все это вряд ли нечто большее, нежели обыкновеннейшая небылица. Ибо если, – сказал я, – такой грубый пират, как Гатенйельм, в силах был постоять за себя даже после смерти, то как же объяснить, что мой отец, столь же отчаянный рубака, как и Гатенйельм, но не в пример ему добрый и честный человек, допустил вора проникнуть в гробницу и похитить у него самое драгоценное его достояние? А у него не было силы воспрепятствовать этому или по крайней мере хоть потом нанести виновному афронт.
При этих словах пастор поднялся с не свойственным ему проворством.