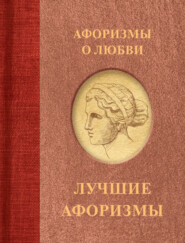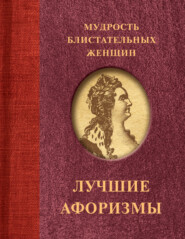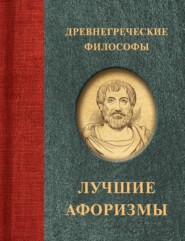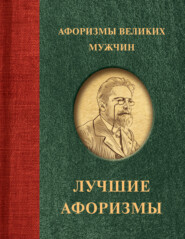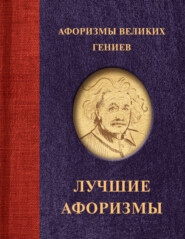По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большая книга стихов, афоризмов и притч
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Два четверостишья
Существовал некогда город, жители которого до того страстно любили поэзию, что если проходило несколько недель и не появлялось новых прекрасных стихов, – они считали такой поэтический неурожай общественным бедствием. Они надевали тогда свои худшие одежды, посыпали пеплом головы и, собираясь толпами на площадях, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую их.
В один подобный злополучный день молодой поэт Юний появился на площади, переполненной скорбевшим народом. Проворными шагами взобрался он на особенно устроенный амвон и подал знак, что желает произнести стихотворение. Ликторы тотчас замахали жезлами.
– Молчание! Внимание! – зычно возопили они, и толпа затихла, выжидая.
– Друзья! Товарищи! – начал Юний громким, но не совсем твердым голосом:
Друзья! Товарищи! Любители стихов!
Поклонники всего, что стройно и красиво!
Да не смущает вас мгновенье грусти темной!
Придет желанный миг… и свет рассеет тьму!
Юний умолк, а в ответ ему, со всех концов площади, поднялся гам, свист, хохот. Все обращенные к нему лица пылали негодованием, все глаза сверкали злобой, все руки поднимались, угрожали, сжимались в кулаки!
– Чем вздумал удивить! – ревели сердитые голоса. – Долой с амвона бездарного рифмоплета! Вон дурака! Гнилыми яблоками, тухлыми яйцами шута горохового! Подайте камней! Камней сюда!
Кубарем скатился с амвона Юний. Но он еще не успел прибежать к себе домой, как до слуха его долетели раскаты восторженных рукоплесканий, хвалебных возгласов и кликов. Исполненный недоуменья, стараясь, однако, не быть замеченным (ибо опасно раздражать залютевшего зверя), возвратился Юний на площадь.
И что же он увидел?
Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, облеченный пурпурной хламидой, с лавровым венком на взвившихся кудрях, стоял его соперник, молодой поэт Юлий. А народ вопил кругом:
– Слава! Слава! Слава бессмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашем горе великом! Он одарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистее розы, чище небесной лазури! Несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной фимиама, прохлаждайте его чело мерным колебанием пальмовых ветвей, расточайте у ног его все благовония аравийских мирр! Слава!
Юний приблизился к одному из славословящих.
– Поведай мне, о мой согражданин, какими стихами осчастливил вас Юлий? Увы, меня не было на площади, когда он произнес их! Повтори их, если ты их запомнил, сделай милость!
– Такие стихи – да не запомнить? – ретиво ответствовал вопрошенный. – За кого ж ты меня принимаешь? Слушай – и ликуй, ликуй вместе с нами! Любители стихов! – так начал божественный Юлий…
Любители стихов! Товарищи! Друзья!
Поклонники всего, что стройно, звучно, нежно!
Да не смущает вас мгновенье скорби тяжкой!
Желанный миг придет – и день прогонит ночь!
– Каково?
– Помилуй! – возопил Юний, – да это мои стихи! Юлий, должно быть, находился в толпе, когда я произнес их, он услышал и повторил их, едва изменив, – и уж, конечно, не к лучшему, – несколько выражений!
– Ага! Теперь я узнаю тебя! Ты Юний, – возразил, насупив брови, остановленный им гражданин. – Завистник или глупец! Сообрази только одно, несчастный: у Юлия как возвышенно сказано: «И день прогонит ночь!..» А у тебя – чепуха какая-то: «И свет рассеет тьму»?! Какой свет?! Какую тьму?!
– Да разве это не все едино? – начал было Юний.
– Прибавь еще слово, – перебил его гражданин, – я крикну народу, и он тебя растерзает!
Юний благоразумно умолк, а слышавший его разговор с гражданином седовласый старец подошел к бедному поэту и, положив ему руку на плечо, промолвил:
– Юний! Ты сказал свое – да не вовремя; а тот не свое сказал – да вовремя. Следовательно, он прав, а тебе остаются утешения собственной твоей совести.
Но пока совесть – как могла и как умела… довольно плохо, правду сказать – утешала прижавшегося к сторонке Юния, – вдали, среди грома и плеска ликований, в золотой пыли всепобедного солнца, блистая пурпуром, темнея лавром сквозь волнистые струи обильного фимиама, с величественной медленностью, подобно царю, шествующему на царство, плавно двигалась гордо выпрямленная фигура Юлия. И длинные ветви пальм поочередно склонялись перед ним, как бы выражая своим тихим вздыманьем, своим покорным наклоном то непрестанно возобновлявшееся обожание, которое переполняло сердца очарованных им сограждан.
Дурак
Жил-был на свете дурак. Долгое время он жил припеваючи, но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца. Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи?
Внезапная мысль озарила, наконец, его темный умишко. И он, нимало не медля, привел ее в исполнение.
Встретился ему на улице знакомый – и принялся хвалить известного живописца.
– Помилуйте! – воскликнул дурак. – Живописец этот давно сдан в архив. Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал. Вы – отсталый человек.
Знакомый испугался и тотчас согласился с дураком.
– Какую прекрасную книгу я прочел сегодня! – говорил ему другой знакомый.
– Помилуйте! – воскликнул дурак. – Как вам не стыдно?! Никуда эта книга не годится; все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы – отсталый человек.
И этот знакомый испугался и согласился с дураком.
– Что за чудесный человек мой друг N. N.! – говорил дураку третий знакомый. – Вот истинно благородное существо!
– Помилуйте! – воскликнул дурак. – N. N. – заведомый подлец! Родню всю ограбил. Кто ж этого не знает? Вы – отсталый человек!
Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга.
И кого бы, что бы ни хвалили при дураке – у него на все была одна отповедь. Разве иногда прибавит с укоризной:
– А вы все еще верите в авторитеты?
– Злюка! Желчевик! – начинали толковать о дураке его знакомые. – Но какая голова!
– И какой язык! – прибавляли другие. – О, да он – талант!
Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом. И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний. Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, – сам авторитет, и юноши перед ним благоговеют и боятся его. Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть… но тут, поди, не возблагоговей – в отсталые люди попадаешь!
Житье дуракам между трусами.
Проклятие
Я читал байроновского Манфреда… Когда я дошел до того места, где дух женщины, погубленной Манфредом, произносит над ним свое таинственное заклинание, я ощутил некоторый трепет.
Помните: «Да будут без сна твои ночи, да вечно ощущает твоя злая душа мое незримое неотвязное присутствие, да станет она своим собственным адом».
Но тут мне вспомнилось иное… Однажды, в России, я был свидетелем ожесточенной распри между двумя крестьянами, отцом и сыном.
Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление.