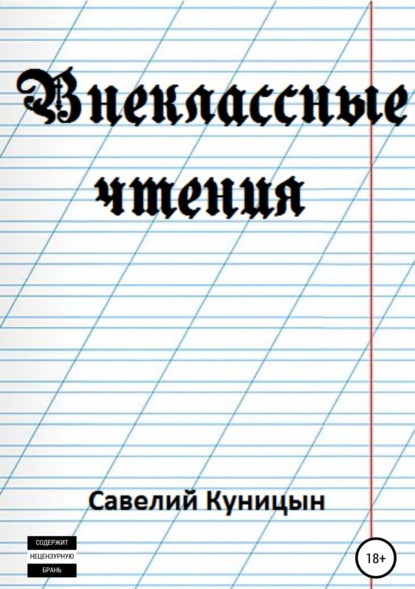По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Внеклассные чтения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отхлёбывает ещё чая.
– И уж поверь, дети из глубоко религиозных семей узнают о сексе, совсем не из Библии, а от всё тех же плохих парней, которым любые запреты чужды… И род человеческий продолжается не благодаря завету Господа "Плодитесь и размножайтесь", а исключительно благодаря людям, которые про бога-то никогда и не слышали… Если бы все были такие, как Кирдяпкин, то давно бы все повымерли. Видать, поэтому интеллигенты на Руси и повывелись как класс…
Тут неожиданно Степан Геннадьевич вскидывает правую руку вверх и вскрикивает, улыбаясь:
– О! Сейчас тебе расскажу, как мы этого Кирдяпкина потом учили, как там и что делается! Слушай, обоссышься!!!
Так что, после всех этих забавных до смешного историй для тебя не стоит вопрос, преподавать ли в школе половое воспитание. Этот вопрос для тебя однозначно закрыт.
Ты лично на своём примере знаешь, каково это – ощущать нехватку информации о столь важном вопросе.
* * *
После того, как ты обнаруживаешь в своих трусах обслюнявленный член, тебе волей-неволей приходится заинтересоваться половым вопросом.
На каждой перемене ты выходишь из кабинета к окну в коридор и делаешь вид, что общаешься с тихим очкариком-заучкой. На деле ты просто слушаешь, о чём говорят опережающие тебя в развитии одноклассники у соседнего окна.
Один из них говорит: слово «дрочить» есть даже в словаре Даля.
Он говорит: и значило оно раньше то же, что и «поднимать», "взбивать".
Это всё рассказывает Коля Смиренко. Почти все познавательные рассказы здесь, у коридорного окна, принадлежат ему.
Немного косишься в его сторону. Ходячая энциклопедия, думаешь ты про него. Ты восхищаешься им. Такой степенный, статный, умный…
Тебе таким никогда не бывать. Даже рядом не стоять.
Максимум – это стоять в двух метрах от него и слушать, как он рассказывает своим друзьям на перемене у окна что-то новенькое и интересное.
Твой очкастый визави Гриша Соловей в этот момент увлечённо, но скромно рассказывает тебе об одной хорошей книге.
Ты киваешь Гришиным словам, а сам слушаешь в двух метрах: был и второй смысл слова «дрочить» – это холить, нежить, баловать, ласкать. Раньше запросто могли сказать "дрочёное дитя".
Ребята рядом с Колей Смиренко прыскают от смеха.
– Но это означало лишь "избалованное дитя", – спокойно улыбается Коля. – Дрочить дитя по головке – значит просто его гладить. Так что, раньше «дрочить» было самым обычным словом. Это только сейчас оно прилипло исключительно к члену.
А Гриша Соловей в это время рассказывает тебе о толстенной иллюстрированной книге под названием «Почемучка», которую мать привезла ему из Новокузнецка.
Ты смотришь на него, киваешь его словам, но всеми силами слушаешь разговор в двух метрах от вас.
Застенчивый Гриша Соловей увлечённо повествует о цветных рисунках зверей в "Почемучке".
Гриша Соловей… Через несколько лет он умрёт от укуса осы, когда проглотит её вместе с куском персика. Укус во внутреннюю область глотки приведёт к интенсивному воспалению, и парень просто-напросто задохнётся, не дождавшись приезда "скорой".
Но тогда, в 1987-ом, ты всего этого не знаешь и попросту позволяешь себе делать вид, что его слушаешь. А сам же ты слышишь: кстати, на американском жаргоне «дрочить» – это «wank», – говорит Коля Смиренко. – И ещё "choke the chicken".
И вот по таким крохам ты собираешь информацию о том, чем твои родители занимались, возможно, всего один раз в жизни.
Всю правду про аистов и капусту…
По разговорам своих соклассников ты понимаешь, что кто-то из них уже имел сексуальный опыт. Это в девятом-то классе. Может, эти парни лишь делали вид друг перед другом, что всё в их жизни уже было, но говорили они о таких вещах, тебе казалось, со знанием дела.
В очередной раз слушая, как кто-то из твоих одноклассников кинул Зинке Прокофьевой три «палки» (тоже новое для тебя слово), ты начинаешь ощущать себя прескверно. Будто ты – это парнишка из школы-интерната для умственно отсталых, вяло плетущийся по шпалам вслед убегающему поезду. На этом поезде несётся в неведомую даль, в светлое будущее всё твоё окружение, все сверстники, а ты неуверенно перешагиваешь щебень между деревянных шпал, бредёшь и эдак глуповато пялишься по сторонам – на кусты рябины, на тополя, на поющих соловьёв… Жизнь несётся вперёд, а ты плетёшься чёрт знает куда и чёрт знает зачем. И плетёшься очень вяло, а надо стараться настигнуть этот уходящий состав.
Но серая мышь от своей норки бегает недалеко.
Внутри тебя столько страхов, что ты даже и не надеешься вырваться из объятий своей серости.
И Маша Брауберг – скромная и умная девочка, всё время тихо сидящая за своей партой – никогда и не узнает, что Витя Стебунов питал к ней нежные чувства.
А не узнает она этого потому, что он серый и зажатый, как останки альпиниста среди булыжников горного завала.
Он прячется от внешнего мира, как и его юношеский прыщавый лоб под его засаленной чёлкой.
Каждый учебный день он стоит с очкариком Гришей в коридоре у кабинета и слушает его рассказы о всякой детской чепухе.
В очередной раз ты стоишь у окна и делаешь вид, что слушаешь повествование Соловья. Он рассказывает о том, как дома уже несколько месяцев ходит в туалет, не включая там свет. Чтобы потом купить себе набор юного химика, он экономит на свете.
Ты делаешь вид, что слушаешь этот бред, а сам стараешься разобрать, о чём на этот раз говорят твои более продвинутые в жизни одноклассники у соседнего окна. Смотришь в окно, которое ведёт в школьный двор, и в этот момент сзади слышишь:
– Стебунов…
Твоё тело невольно немеет от этого властного голоса. Холодная волна прокатывается от кончиков рук к голове и вниз, к ногам.
Тебе даже не нужно оборачиваться, чтобы понять, что за твоей спиной стоит Нина Васильевна.
Как шест, вкопанный в землю, ты медленно проворачиваешься вокруг своей оси, но глаз поднять так и не смеешь.
Нина Васильевна говорит: почему не посещаете мои уроки, Стебунов?
Ты стоишь и молчишь. Ты не знаешь, что ответить.
Не говорить же "Нина Васильевна, поскольку я обнаружил в своих трусах обслюнявленный Вами член, то решил не ходить на литературу и русский"…
Тугой ком подкатывает к горлу, а под чёлкой на прыщавом лбу выступает холодная испарина.
Нина Васильевна смотрит на окно за твоей спиной и говорит: девятнадцать часов прогулов…
Ты стоишь поникший, не в силах поднять глаз, готовый провалиться хоть в Преисподнюю, и ничего не слышишь, кроме Её голоса.
Этот голос с холодною властностью говорит: не сдано сочинение и два диктанта…
Ты не слышишь, как ребята у соседнего окна тоже замолкают. Они смотрят на тебя и Нину Васильевну.
Она говорит: положение критическое. Вам нужно срочно что-то предпринимать для его исправления.
Ты не слышишь, как птицы на улице прекращают петь, и близится гроза.